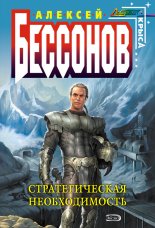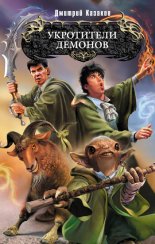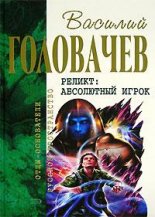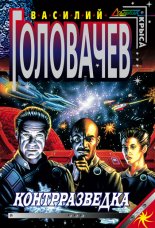Колокол по Хэму Симмонс Дэн
– Слишком очевидное место. Надо поискать ниже по холму.
Он был прав. Одним из условий этой смертельной игры, которыми мы не имели права пренебрегать, было то, что наше появление здесь, скорее всего, предполагалось заранее. Было трудно понять, зачем немецкой разведке заманивать нас в ловушку, но если это действительно так, мы должны были максимально затруднить действия противника.
Хемингуэй указал точку примерно в трети пути вниз по склону, ведущему к западной части мыса. На этом берегу не было дюн, однако в результате выветривания в невысоких скалах образовались бесчисленные впадины, и Хемингуэй выбрал одну из таких щелей на гребне, соединявшем мыс с протокой, в которой мы спрятали катер. В выходящей к океану северной его части щель была узкая, с крутыми склонами, однако у противоположного конца, тянувшегося вдоль тростникового поля на юго-западе, она становилась шире, и там росли деревья и густой кустарник. С высшей точки расщелины мы могли видеть маяк, рельсы, песчаную полоску у протоки и широкий участок открытого моря. Из расщелины мы могли переместиться под укрытие вершины гребня, чтобы осмотреть бухту и дорогу к мельнице, а заметив движение на ней либо на железнодорожной ветке за нашими спинами, отступить вниз по расщелине, либо спрятаться в тростниковом поле и оттуда спуститься к катеру.
Было жарко. Мы втащили наверх два брезентовых полотнища и перекрыли ими узкую впадину, привязав в корням и камням, чтобы они не хлопали даже при сильном ветре, но так, чтобы они провисали и не выделялись на фоне расщелины.
Потом мы замаскировали их, набросав сверху земли и веток.
При свете дня наше укрытие было практически невозможно обнаружить с расстояния тридцати шагов, а ночью его не увидел бы даже человек, идущий по гребню.
Песчаные мухи беспощадно жалили нас, на месте укусов сразу появлялись волдыри, но Хемингуэй побрызгал вокруг нашей норы „флитом“ и дал мне пузырек репеллента. Он согласился оставить „браунинг“ на борту – склон был слишком скользким, и если бы нам пришлось ночью оставить свою позицию и бежать к катеру, винтовку было бы трудно нести, – однако, прежде чем покинуть „Лорейн“, он вынул ее из чехла и снарядил пояс-патронташ. Думаю, он готовился отстреливаться, если бы нам пришлось вырываться из западни.
Вместе с полотнищами брезента, автоматами Томпсона, сумками гранат и запасных обойм, биноклями, ножами, личными вещами, шляпами, аптечкой, пистолетами в кобурах по одному на каждого мы втащили по песчаному склону маленький холодильник с пивом и снедью. После полудня мы сделали перерыв на обед – бутерброды с консервированной говядиной для меня и с яичницей и сырым луком для Хемингуэя – и запили его холодным пивом из бутылок. Я невольно улыбнулся, представив, что сказал бы директор Гувер, узнай он о том, что один из специальных агентов Бюро пьет пиво в процессе организации засады. Но потом я вспомнил, что больше не работаю в ФБР, и моя улыбка увяла.
Весь долгий день и начало вечера мы провели в расщелине, по очереди наблюдая в бинокль за океаном и стараясь не стонать, когда нас жалили песчаные мухи и москиты. Порой кто-нибудь из нас поднимался к вершине гребня, перебирался через него и осматривал бухту, Двенадцать апостолов, старую дорогу и заброшенную мельницу, пытаясь уловить признаки движения. Однако большую часть времени мы лежали в укрытии.
Сначала мы переговаривались шепотом, но вскоре сообразили, что прибой за мысом Пойнт Иисус, волны, набегающие на низкие скалы к востоку от Пойнт Рома, и ветер в тростниковых полях за нашими спинами позволяют нам говорить обычным голосом, который не будет слышен уже в десяти шагах.
Поздним вечером, когда солнце опустилось за поля и каменистый Пойнт Брава далеко к западу, а шум океана в сумерках усилился, у меня возникло ощущение, что мы прячемся здесь неделю, а то и больше. Мы по очереди дремали, чтобы быть свежими ночью, но, думаю, Хемингуэй не проспал и десяти минут. Он был в приподнятом настроении, не выказывая и следа нервозности, держался раскованно, говорил спокойным шутливым тоном.
– Перед выходом в море я получил вести от Марти, – сообщил Хемингуэй. – Она отправила телеграмму из Бассетерри на Сент-Киттс. Ее чернокожие спутники устали от плавания и заманили Марти на этот остров. Телеграмма, естественно, прошла цензуру, но у меня возникло впечатление, будто бы она перебирается с острова на остров в поисках немецких подлодок и приключений.
– Что-нибудь нашла?
– Марти всегда находит приключения, – с улыбкой ответил Хемингуэй. – Теперь она собирается плыть на Парамарибо.
– На Парамарибо? – переспросил я.
– Это в Нидерландской Гвиане, – объяснил Хемингуэй, смахивая с глаз капли пота. Я заметил, как распухло его ухо, и мне стало неловко.
– Я знаю, где находится Парамарибо. Но зачем ей туда?
– Quien sabe? – произнес Хемингуэй. – Представления Марти о романтике заключаются в том, чтобы забраться как можно дальше, в глушь, лишенную элементарных удобств, и, положившись на волю случая, бесноваться и проклинать свою судьбу. Потом она напишет великолепное эссе, от которого читателей разбирает смех. Если, конечно, останется в живых.
– Вы волнуетесь за нее? – спросил я, пытаясь представить, как бы я чувствовал себя, если бы был женатым человеком, а моя супруга бродила по джунглям и болотам, где я ничем не мог ей помочь, если случится беда. Я пытался представить, что это такое – быть женатым.
Хемингуэй пожал плечами.
– Марти вполне способна позаботиться о себе. Хочешь еще пива? – Он вскрыл очередную бутылку ручкой ножа.
– Нет, спасибо. Я предпочту быть хотя бы отчасти трезвым, когда всплывет немецкая субмарина.
– Зачем тебе это? – спросил Хемингуэй. Несколько минут спустя, когда сумрак начал сменяться настоящей тьмой, он продолжал:
– Волфер, наверное, наговорил тебе о Марти много нелестного.
Я молча поднял бинокль, оглядывая темнеющий горизонт.
– Волфер ревнует, – сказал писатель.
Его слова показались мне странными. Я опустил бинокль и прислушался к шороху ветра в тростниках.
– Не верь всему, что Волфер наговорил тебе в гневе, – продолжал Хемингуэй. – Марти талантливая писательница.
В этом-то и беда.
– В чем именно? – спросил я.
Хемингуэй негромко рыгнул и положил перед собой автомат.
– Марти талантлива, – ровным голосом произнес он. – По крайней мере, во всем, что касается литературы. Но я талантливее ее. Самое страшное в жизни – постоянно иметь дело с человеком, способности которого для тебя недостижимы.
Я знаю это по себе.
Несколько минут Хемингуэй молчал. Последние фразы он произнес таким будничным тоном, что я сначала понял, что он не хвастается, и только потом – что он наверняка прав.
– Что вы собираетесь писать дальше? – спросил я, сам изумившись своим словам. Однако мне было любопытно.
Хемингуэй тоже удивился:
– Тебя это интересует? Тебя? Человека, который всегда был невеждой в литературе и останется им до конца своих дней?
Я вновь посмотрел в бинокль. Горизонт превратился в туманную полоску. В темноте шум прибоя казался очень громким. Я бросил взгляд на часы. Двадцать восемь минут десятого.
– Извини, Лукас, – сказал Хемингуэй. Это был единственный случай, когда он просил у меня прощения. – Я еще не знаю, какой получится моя следующая книга. Может быть, когда-нибудь, когда кончится война, я напишу о нашем бестолковом предприятии. – Я заметил, что он смотрит на меня сквозь тьму. – Я выведу тебя в качестве одного из персонажей, но соединю в нем худшие черты, взятые у тебя и Саксона.
У этого героя будет грибковая гниль на ногах и твой дерьмовый характер. Тебя все возненавидят.
– Зачем вы это делаете? – негромко спросил я. Ветер сдул с моего лица несколько москитов. В темноте поблескивала линия прибоя.
– Что?
– Зачем вы описываете вымысел вместо реальных событий?
Хемингуэй покачал головой.
– Очень трудно быть хорошим писателем, если ты любишь мир, в котором живешь, и любишь незаурядных людей.
Еще труднее, если ты любишь так много разных мест. Ты не можешь попросту копировать окружающий мир, это была бы фотография. Ты должен описывать его, как Сезанн, исходя из внутренних движений своей души. Это – искусство. Ты должен творить изнутри. Понимаешь?
– Нет, – ответил я.
Хемингуэй чуть слышно вздохнул и кивнул.
– То же самое происходит, когда ты слушаешь людей, Лукас. Если их впечатления достаточно живы и красочны, они становятся частью тебя, вне зависимости от того, что тебе рассказывают – правду или выдумки. Это не имеет значения.
По прошествии некоторого времени их впечатления становятся более живыми, чем твои собственные. Ты творишь, исходя из своего опыта и их впечатлений, и постепенно становится неважным, чьи это впечатления… где твое и где чужое, что правда и что вымысел. Отныне все это – правда. Твоя страна, ее климат… люди, которых ты знаешь. Но ты ни в коем случае не должен демонстрировать все свои впечатления, весь свой опыт… словно ведя пленных солдат маршем по столице… Именно этим занимались Джойс и многие другие авторы, и только потому их постигла неудача. – Он мельком глянул на меня. – Джойс – это мужчина, не женщина.
– Знаю, – сказал я. – Видел его книгу на вашей полке.
– У тебя хорошая память, Джо.
– Да.
– Ты мог бы стать отличным писателем.
Я рассмеялся.
– Мне нипочем не нагородить столько лжи. – Только произнеся эти слова, я понял их истинный смысл.
Хемингуэй тоже рассмеялся.
– Ты самый ловкий лжец из всех, кого я когда-либо знал, Лукас. Ты врешь с той же легкостью, что младенец сосет материнскую грудь. Тобой движет инстинкт. Я знаю. Я и сам сосал эту грудь.
Я промолчал.
– Писать прозу – то же самое, что грузить судно, но так, чтобы не потерять остойчивость, – продолжал Хемингуэй. – В каждую фразу нужно втиснуть бесчисленные нюансы, большинство из них – незаметно, намеком. Ты видел акварель Зена, Лукас?
– Нет.
– Тогда ты не поймешь, если я скажу, что Зен рисует ястреба, кладя на изображение неба голубой мазок… без ястреба.
– Не пойму, – отозвался я, хотя какая-то часть моего сознания воспринимала его мысль.
Хемингуэй указал на океан.
– Это что-то вроде субмарины, которая в эту самую минуту плывет где-то там. Увидев только ее перископ, мы поймем, что под ним находится все остальное – ходовая рубка, торпеды, машинный зал с трубопроводами и штурвалами, дисциплинированные немцы, склонившиеся над мисками с кислой капустой… чтобы понять, что она тут, рядом, нам не нужно видеть ее целиком – только проклятущий перископ. Так же обстоят дела с хорошей фразой или абзацем. Теперь уразумел?
– Нет, – ответил я.
Писатель вздохнул.
– В прошлом году мы с Марти были в Чунцине, и я встретился там с молодым флотским лейтенантом по имени Билл Ледерер. В этой забытой богом стране нечего пить, кроме рисовой водки с дохлыми змеями и птицами, но прошел слух, будто бы Ледерер приобрел на китайском рынке два ящика виски, и что этот болван до сих пор не откупорил ни одну из них… его вот-вот должны были перевести, и он приберегал спиртное для большой пирушки. Я сказал ему, что не пить виски – то же самое, что не спать с симпатичной девчонкой, когда представилась возможность, но он упрямо хранил бутылки для особого случая. Ты следишь за моей мыслью, Джо?
– Пока да, – ответил я, вглядываясь в прибой.
– Мне хотелось выпить, – продолжал Хемингуэй. – Я изнывал от жажды. Я предложил ему хорошие деньги… кучу долларов… но Ледерер отказался продать. В конце концов я в отчаянии сказал ему: „За полдюжины бутылок я отдам тебе все, что ты захочешь“. Ледерер почесал затылок и заявил: „Хорошо, я обменяю шесть бутылок виски на шесть уроков о том, как стать писателем“. Отлично. После каждого урока Ледерер дает мне по бутылке. На последнем занятии я ему сказал:
„Билл, прежде чем ты сможешь писать о людях, ты должен стать цивилизованным человеком“. – „Что такое цивилизованный человек?“ – спрашивает Ледерер, и я отвечаю: „Быть цивилизованным – значит обладать двумя качествами – состраданием и умением держать удар. Никогда не смейся над человеком, которому не повезло. И если тебя самого постигнет неудача, не проклинай судьбу. Держи ее удары и сохраняй самообладание“. Точно так же, как я держал твои удары, Лукас. Ты чувствуешь, к чему я клоню?
– Понятия не имею.
– Это не важно, – сказал Хемингуэй. – Главное, что я дал тебе больше советов о том, как хорошо писать книги, чем лейтенанту Ледереру. Из всех советов, которые он от меня получил, самым ценным был последний.
– Какой именно?
– Я предложил ему отправиться домой и попробовать свой виски. – Хемингуэй заулыбался так широко, что я увидел в свете звезд его сверкающие зубы. – Китаезы всучили ему два ящика бутылок с чаем.
Несколько минут мы молчали. Когда задувал ветер, брезент над нашими головами почти не шевелился, зато сухие тростниковые стебли трещали, будто игральные кости в оловянной кружке.
– Самая главная трудность – писать правдивее правды, – заговорил наконец Хемингуэй. – Именно поэтому я предпочитаю вымысел реальности. – Он поднял свой бинокль и оглядел темный океан.
Я понял, что тема исчерпана, но продолжал допытываться:
– Книги живут дольше человека, ведь правда? Я имею в виду, дольше своего автора.
Хемингуэй опустил бинокль и посмотрел на меня.
– Да, Джо. Сдается мне, ты все-таки увидел подлодку и ястреба. Книги живут дольше. Если они хоть на что-нибудь годятся. А писатель всю жизнь проводит в одиночестве, каждый день заглядывая в бездну… Может быть, ты действительно понял. – Он опять поднес к глазам бинокль. – Расскажи мне все с самого начала. О том, как возникла эта путаница и как все запуталось еще сильнее.
Я рассказал ему все, умолчав лишь о допросе Шлегеля и свертке, который лежал в коровнике.
– Значит, ты полагаешь, что целью первой передачи было заманить нас сюда? – уточнил он.
– Да.
– Но не только нас с тобой. Вероятно, они ожидали, что мы притащим сюда „Пилар“ и остальных.
– Возможно, – согласился я. – Но, по-моему, это несущественно.
– Что же тогда существенно, Джо?
– То, что мы с вами находимся здесь.
– Почему?
Я покачал головой.
– Я и сам не все понимаю. Шлегель сказал, что в операции участвует ФБР, но, должно быть, он имел в виду только Дельгадо. Я не верю в то, что Гувер связался с немцами. Это чистый вздор.
– Почему бы и нет? – возразил Хемингуэй. – Кого он больше всего боится? Нацистов.
– Нет.
– Коммунистов?
– Нет. Гувер боится упустить власть… контроль над ФБР.
Коммунистический переворот в Штатах страшит его куда меньше.
– Какое же отношение к его страхам имеет эта запутанная кубинская история? – спросил Хемингуэй. – Ведь люди в первую очередь руководствуются страхом, а уж потом – другими эмоциями. Во всяком случае, так подсказывает мой опыт.
Его слова заставили меня задуматься.
Плотик пересек линию прибоя ровно в двадцать три ноль-ноль. Потом мы увидели две темные фигуры, тащившие плотик по мерцающим волнам на узкую песчаную полоску, которая отчетливо виднелась в свете звезд. Потом они вскрыли контейнер, вынули закрытый фонарь, повернули его окошком к темному океану и начали передавать сигналы.
Десять секунд спустя на ходовом мостике в нескольких сотнях ярдов от нас блеснули едва заметные вспышки – две точки, два тире, одна точка. Потом вновь воцарилась темнота, в которой раздавался шорох прибоя.
Мы с Хемингуэем следили за тем, как лазутчики выпустили воздух из плотика, уложили его в ближайшую впадину – в трех расщелинах от нашей – и закопали, звякая лопатами и негромко переругиваясь по-немецки. Потом они зашагали вверх по холму к тому самому дереву, которое мы отметили днем как „идеальное“ укрытие.
Мы с Хемингуэем выползли из-под брезента и, опустившись на колени в зарослях, смотрели, как агенты поднимаются по склону в семидесяти шагах от нас. Ветер и прибой заглушали голоса, но ветер дул с их стороны, и мы услышали несколько слов по-немецки. Над зарослями возвышались только их плечи и головы, видимые в свете звезд, но потом и они исчезли, когда лазутчики вошли в тень дерева.
Хемингуэй приложил губы к моему левому уху:
– Мы должны двигаться следом за ними.
Я кивнул.
Внезапно их фонарь подал два сигнала. На гребне в тридцати ярдах от нас, едва видимая сквозь стебли и обломки тростника, мигнула одинокая вспышка другого фонаря, более слабого.
– Будь я проклят, – шепнул Хемингуэй.
Мы поползли по-пластунски вверх по склону, цепляя запястьями ремни автоматов и направляя их стволы прямо перед собой.
И вдруг совершенно неожиданно началась стрельба.
Глава 24
Огонъ велся не оттуда, где мы заметили вспышку второго фонаря – стрелявший находился неподалеку от точки, где мы в последний раз видели двух агентов. Я уткнулся лицом в песчаный склон, решив, что эти двое обнаружили нас и пытаются убить. Вероятно, Хемингуэй подумал о том же – переждав первые четыре выстрела, он поднял свой „томпсон“, по-видимому, собираясь открыть ответный огонь. Я ударом пригвоздил ствол его автомата к земле.
– Нет! – прошептал я. – Они целятся не в нас!
Стрельба прекратилась. Из тени под деревом на гребне послышался громкий, леденящий душу стон, потом вновь воцарилась тишина. Прибой продолжал мерно накатываться на берег, его звук сливался с шумом крови, бившейся в моих висках. Полумесяц луны еще не поднялся, и я поймал себя на том, что пытаюсь действовать, как на тренировках по стрельбе в условиях слабой освещенности – ловлю движение краешком глаза, определяя положение противника периферийным, а не прямым зрением.
Хемингуэй лежал рядом, напрягшись, но, судя по всему, стрельба ничуть не испугала его. Он подался ко мне и прошептал:
– Почему ты думаешь, что они целили не в нас?
– Я не слышал свиста пуль над головой и шороха кустов, в которые они должны были угодить, – шепотом объяснил я.
– В темноте люди стреляют выше цели, – заметил Хемингуэй, продолжая вжиматься в склон и быстро поворачивая голову из стороны в сторону.
– Да.
– Ты определил, из какого оружия стреляли? – спросил Хемингуэй.
– Из пистолета либо одиночными из автомата, – прошептал я. – „Люгер“, может быть, „шмайссер“. Судя по звуку, девятимиллиметровый.
Хемингуэй кивнул.
– Они могут обойти нас справа. По тростниковому полю.
– Мы бы услышали их, – возразил я. – Мы здесь в безопасности. – Пока нам действительно нечего было бояться.
Несмотря на то что стрелявший находился выше нас, занимая более выгодную позицию, любой, кто попытался бы подобраться к нам слева по высоким скалам, либо справа через тростниковое поле, выдал бы себя громким шорохом или хрустом стеблей. Разделявший нас склон и гребень густо заросли кустарником; мы с Хемингуэем без труда поднялись на холм при дневном свете, однако ночью было практически невозможно напасть на нас, не издавая шума.
Разве что если противник заранее тщательно изучил склон и мог ползти вслепую.
Могло случиться и так, что в эту самую минуту, когда мы лежали здесь, сосредоточив внимание на гребне, из заболоченной бухты за нашими спинами по склону поднимались другие.
– Иду вперед, – прошептал я.
Хемингуэй крепко стиснул мое плечо:
– Я тоже.
Я придвинулся к нему вплотную, и теперь мой шепот был почти не слышен:
– Кому-нибудь из нас придется ползти направо, туда, где мигал второй фонарь. Другой попытается приблизиться к дереву… чтобы проверить, там ли те двое или уже ушли… – Я понимал, что разделяться в темноте опасно – хотя бы из-за того, что мы могли начать перестрелку между собой – однако от одной мысли о человеке, затаившемся справа, у меня по спине пробегали мурашки.
– Я пойду к дереву, – прошептал писатель. – Захвати фонарик. Нам ни к чему палить друг в друга.
Мы загодя прикрыли стекла фонариков плотной красной материей, через которую проникали едва заметные лучи. Это и был наш опознавательный сигнал.
– Осмотрев местность, встречаемся здесь же, – прошептал Хемингуэй. – Удачи! – Он начал протискиваться под низкими ветвями кустарника.
Я прополз направо, спустился в нашу расщелину, выбрался с другой стороны, вплотную приблизился к тростниковому полю и только тогда стал подниматься по склону к гребню.
Я не слышал ни звука, кроме шороха ветра в тростнике, шума прибоя и своего натужного дыхания. Я полз на коленях и локтях, не забывая держать задницу как можно ниже. Теперь в любую минуту могла взойти луна.
О том, что я добрался до вершины гребня, я догадался только после того, как выполз из густого кустарника и почувствовал под собой травянистую, но плотно утоптанную тропинку. Слева от меня тропинка петляла по гребню, приближаясь к дереву. Справа от меня она изгибалась влево вдоль стены тростника и спускалась по восточному склону к дороге, которая шла берегом бухты к рельсам и заброшенной мельнице. Я торопливо пробежал по дорожке и, опустившись на корточки под кустом, осторожно и медленно поднял голову.
Я не уловил движения ни слева, ни справа, не слышал, как Хемингуэй подбирался к дереву в пятнадцати метрах от меня.
Я бросил взгляд в сторону бухты и не увидел ничего, кроме темной воды и пальмовых крон на противоположном берегу под Двенадцатью апостолами. Вероятно, я оказался точно в том месте, где вспыхивал второй фонарь, но в темноте не обнаружил никаких следов и решил, что его обладатель вернулся по тропинке на юг, к бухте, рельсам и мельнице.
Либо он засел в кустах за поворотом тропинки.
Я повесил автомат на шею, сунул ствол под левую руку, вынул из кобуры „магнум“, снял его с предохранителя и положил большой палец на ударник затвора. Перемещаясь на полусогнутых ногах и только короткими перебежками, я отправился по тропинке к югу, петляя из стороны в сторону и задерживаясь в укрытиях, чтобы отдышаться и прислушаться.
До меня доносились только шорох тростника и звук все удалявшегося прибоя.
Внизу холма тропинка проходила по открытому участку.
Я стремительно перебежал его, непрерывно петляя. Мои внутренности сворачивались клубком в ожидании выстрела, но выстрела не было, и, оказавшись у подножия, я остановился на двадцать секунд, чтобы унять дыхание, после чего ступил на старую железнодорожную ветку, пробегавшую вдоль берега.
Если Хемингуэй попал в беду, я мог бы за пару минут добраться до него, взбежав по склону и спустившись по гребню. И, возможно, угодить в очередную западню.
„Не очень-то умно, Джо“, – сказал я себе и двинулся к югу, к старой дороге. Когда мельница работала, дорога, вероятно, была покрыта гравием, но теперь ее середина заросла травой и лианами по пояс – остались только две едва заметные колеи.
Я бежал, пригибаясь и держа плечи на уровне травы, подняв пистолет, готовый к стрельбе. Инстинкт подсказывал мне, что в темноте и высокой траве нож удобнее огнестрельного оружия.
Кто-то шевельнулся примерно в сотне шагов впереди – там, где стену тростника прорезали старые рельсы. Я упал плашмя и навел пистолет обеими руками, понимая, что этот „кто-то“ находится слишком далеко для прицельной стрельбы, и ожидая очередного движения. Все было тихо. Я досчитал до шестидесяти, поднялся на ноги и побежал дальше, перепрыгивая с колеи на колею через неравные промежутки. По моим ногам и локтям хлестала высокая трава.
На дороге у тупика первой железнодорожной ветки никого не оказалось. Ржавые рельсы убегали в тростник, исчезая за поворотом в пятидесяти шагах от меня. Тростник был такой высокий и темный, что просека казалась туннелем. Далеко впереди и слева я видел два заброшенных причала, которые спускались к бухте. На обоих не было ни души.
Полумесяц луны поднялся над горизонтом. Мои глаза привыкли к темноте, и у меня возникло такое ощущение, будто бы кто-то внезапно зажег поисковый прожектор и шарит его лучом по бухте и склону холма. Я сместился влево, в тень высокой травы, и быстрым шагом вернулся к точке, откуда были видны причалы и труба.
В ста двадцати шагах впереди стояли два кирпичных здания, из которых обработанный тростник погружался на плоскодонные баржи. Теперь их крыши и окна с разбитыми стеклами могли послужить идеальной позицией для снайпера.
Я лег в траву и обдумал возможные варианты действий. В этом месте дорога изгибалась вокруг холма по направлению к зданиям, второму холму, расположенному за ними, и к самой мельнице, которая стояла в четверти мили за причалами. Я мог двинуться сквозь джунгли и тростниковое поле за ближайшими зданиями либо обойти их по дороге, освещаемый со спины луной. Даже ползя по-пластунски, я был бы прекрасной мишенью для стрелков, засевших на вторых этажах или на крышах зданий. У меня с собой были „томпсон“ и „магнум“, но на протяжении шестидесяти-семидесяти ярдов они ничем не могли бы мне помочь. Расположившись у трубы со снайперской винтовкой, противник накроет меня, как только я высунусь из-за изгиба холма.
Если огонь открыли не те два агента, которые высадились на берег, значит, где-то поблизости находились по меньшей мере еще два человека – один с фонарем, другой – тот, который и начал пальбу. Грохот выстрелов был похож на звук, издаваемый „люгером“ или „шмайссером“, но одному господу известно, какое еще оружие они могли принести с собой. И сколько там человек.
Настало время праздновать труса.
Я повернулся и пополз на животе, пока не оказался за поворотом, где меня нельзя было увидеть с причалов и зданий.
Поднявшись на корточки, я торопливо двинулся назад путем, которым пришел сюда.
На гребне по-прежнему царила тишина. Я мог проползти прямо и посмотреть, закончил ли Хемингуэй осмотр места, откуда велась стрельба, но решил сначала вернуться к нашей расщелине. Я пробрался по краю тростникового поля до сучковатого куста, служившего мне ориентиром, потом начал спускаться по холму к нашему укрытию. В десяти ярдах от него я чуть приподнялся и на мгновение зажег фонарь, обтянутый красной материей. Потом я вновь упал в траву и затаился в ожидании, держа пистолет наготове. Через пятнадцать секунд, показавшихся мне вечностью, в расщелине мигнул красный огонек. Я сунул „магнум“ в кобуру и пополз вперед.
– Оба мертвы, – прошептал Хемингуэй, прихлебывая виски из серебристой фляжки. – Немцы, которые высадились с подлодки, – добавил он. – Оба холодные, лежат под деревом. Думаю, их застрелили со спины.
– Видели кого-нибудь рядом? – спросил я.
Он покачал головой.
– Я осмотрел восточный склон до дороги в бухте. Прополз сквозь кусты по обе стороны гребня. Потом осмотрел эту сторону холма вплоть до „Лорейн“. Здесь никого нет. – Он еще раз глотнул из фляжки, но мне не предложил.
Я рассказал ему о силуэте, который заметил у рельсов, и объяснил, почему решил вернуться.
Хемингуэй лишь кивнул:
– Мы можем осмотреться днем.
– И окажемся еще лучшей целью для снайперов, – заметил я.
– Нет, – возразил Хемингуэй. – Их уже след простыл.
Они выполнили свою задачу.
– Убили двух высадившихся агентов, – сказал я.
– Да.
– Но зачем им это? – спросил я, сознавая, что понапрасну трачу слова. – Зачем ликвидационной группе… если это действительно была она… расправляться со своими агентами?
– Ты профессионал, – ответил Хемингуэй, засовывая фляжку в карман своей охотничьей рубашки – Тебе виднее.
Некоторое время мы молчали, потом я спросил:
– Что можно сказать о трупах?
Хемингуэй пожал плечами:
– Я не дополз до них. Тела могли заминировать. Два трупа.
Мужские. Оба в немецкой армейской форме. Одного из них освещала луна. Молодой, совсем мальчишка Вокруг них валялись вещи и всякая дрянь… фонарь, которым они подавали сигналы, курьерская сумка, что-то еще…
– В форме? – изумленно переспросил я. Тайные агенты, пробирающиеся на вражескую территорию на надувном плотике, как правило, не носят форму.
– Да. Обычная пехотная форма Вермахта, если не ошибаюсь. Я не заметил знаков различия и нашивок с обозначением их подразделения… вероятно, спороты но, вне всякого сомнения, форма. Один из них лежал лицом кверху… тот самый, на которого падал свет… и я отчетливо заметил на его ремне пряжку со свастикой. На другом, лежавшем лицом вниз, была немецкая пехотная пилотка из фетра.
– Вы уверены, что оба мертвы? – спросил я.
Хемингуэй досадливо посмотрел на меня:
– На них уже пируют крабы, Лукас.
– Хорошо. Осмотримся с первыми лучами солнца.
– До восхода пять часов, – заметил Хемингуэй.
Я промолчал. Внезапно меня охватила страшная усталость.
– Нужно установить наблюдение, – продолжал Хемингуэй. – На тот случай, если кто-нибудь явится, чтобы забрать тела.
– Давайте дежурить по два часа. Я буду первым. – Вынув из сумки ложку и котелок, я начал выползать из расщелины, но Хемингуэй остановил меня, схватив за ногу.
– Лукас, я повидал на своем веку немало мертвецов. Еще в Первую мировую. Работал корреспондентом в Турции, Греции, Испании. Горы трупов. Я видел, как погибают люди… на корриде, на поле боя.
– Вот как? – По-моему, он выбрал не самое удачное время для похвальбы.
Голос Хемингуэя изменился. Теперь он произносил слова так, как я говорил в детстве на исповеди:
– Но я никогда не убивал людей, Лукас. По крайней мере, собственными руками, лицом к лицу.
„Замечательно, – подумал я. – Дай-то бог, чтобы это не изменилось ни сегодня, ни завтра“.
– Ладно, – сказал я и взобрался по склону расщелины.
К пяти утра стало достаточно светло, чтобы осмотреть трупы.
Хемингуэй оказался прав почти во всем. Два молодых человека – первый блондин, другой с коричневыми вьющимися волосами, – оба в форме, оба застрелены в спину, оба безнадежно мертвы. Сухопутные крабы поднялись с берега и, когда мы появились на рассвете, обгладывали тела. Лишь некоторые отползли в сторону, но с полдюжины сидели на лицах мальчишек и не выказали ни малейшего желания отступить. Хемингуэй вынул пистолет и прицелился в самого крупного краба, который принял оборонительную стойку, задрав клешни, но я прикоснулся к запястью писателя, указал на свое ухо, прося не шуметь, и отогнал крабов палочкой.
Мы присели на корточки и склонились над трупами. Пока я осматривал их, Хемингуэй оперся на колено, обводя взглядом заросли и вершину гребня. Взрывных устройств я не обнаружил – тела не были заминированы.
„Мальчишки“. Хемингуэй не ошибся. Обоим не было и двадцати. Блондин, лежавший на спине, выглядел сверстником Патрика. Крабы сожрали его глаза и уже трудились над вздернутым носом и пухлыми губами. Трупы давно окоченели и издавали сильный запах.
Оба были застрелены в спину, очевидно, из укрытия на восточном склоне. Дистанция была самая подходящая – не более шести метров.
– Нужно разыскать гильзы, – сказал я.
Хемингуэй кивнул и начал спускаться по восточному склону, вглядываясь к гребень, но не забывая осматриваться вокруг. Через несколько минут он вернулся.
– Песок кое-где взрыт, – сообщил он. – Следы башмаков без особых примет. Гильз я не нашел.