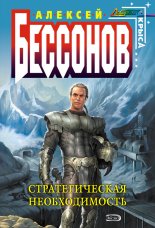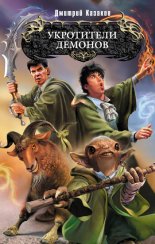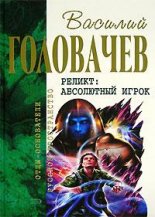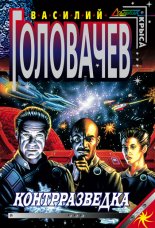Колокол по Хэму Симмонс Дэн
Читать бесплатно другие книги:
На планете Альдарена, которая обещает стать сырьевым раем Конфедерации, один за другим гибнут геолог...
Как и каждый студент, Арс Топыряк знал, насколько тяжело грызть гранит науки. Особенно когда обучаеш...
Одна из самых известных в мире книг о войне, положившая начало знаменитому художественно-документаль...
После тысячелетия затишья в Космориуме, где жизнь чудом сохранилась в войне с Фундаментальным Агресс...
После тысячелетия затишья в Космориуме, где жизнь чудом сохранилась в войне с Фундаментальным Агресс...
Космос всегда манил людей своими загадками. И, наконец, в третьем тысячелетии казавшаяся столь нереа...