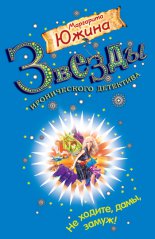Первый день – последний день творенья (сборник) Приставкин Анатолий

– Почему ее так прозвали? – спрашиваю я.
Мы стоим перед железнодорожным переездом. Налево знак поворота в город Починок. Нам проезжать этот город.
– Кличка, – говорит отец. – Звать-то ее я уж не помню как. Александра Егоровна будто. Да ее так и знают, кого ни спроси: «Птушка, Птушенька».
– Птица, – наклонясь ко мне сзади, произносит дядя Викентий. – Птаха, Птушка то есть, ласковое обозначение как бы. Птушенька ты моя, кукушенька ты моя… – сказал дядя Викентий, и братья захохотали.
Прошел поезд, мы свернули на боковое шоссе и через пять минут въезжали в город Починок.
Об этом малом городке на Смоленщине я знал по рассказам отца, а у поэта Твардовского есть стихотворение, которое так и называется «Станция Починок».
Вот несколько строк из него:
- Но случилося весной
- Мне проехать мимо
- Маленькой моей, глухой
- Станции родимой.
- И успел услышать я
- В тишине минутной
- Ровный посвист соловья
- За оградой смутной.
- Он пропел мне свой привет
- Ради встречи редкой,
- Будто здесь шестнадцать лет
- Ждал меня на ветке…
Это было как бы и про отца с дядей Викентием.
Однажды я спросил отца: слыхал ли он поэта Твардовского, с каких он мест?
– Кузнецы Твардовские? – воскликнул отец, оживляясь, и я понял, что он не напрасно пропустил мимо ушей слово «поэт». Это ему было безразлично, он знал Твардовских с другой, более важной для его воспоминаний стороны. – Твардовские, – сказал отец, – жили семь верст от нас, кто же их не знал!
Отец тогда начинал вспоминать Смоленщину, и странные имена, даже названия деревень, необычно будоражили мои чувства, будто поднимали со дна моей памяти такое, чего я и сам не знал.
На пыльной изъезженной лошадьми и машинами площади мы встали. Отец пошел покупать гостинцы для деревенских: конфеты и пряники.
В очереди он встретил земляка, да тут, наверное, каждый второй земляк. Смоленщина больна землячеством, чтит землячество, для смоляков земляк – первое дело.
Я застал только часть разговора отца с земляком.
– Значит, ты не ляхо'вский?
– Нет, из Радино, Петра Васильевича сын… Не слыхал?
– Как не слыхал, вас там было сколько… Ты не Сергей который?
– Ну, Сергей!
– Так ты вроде в смоленской столице живешь?
– В Москве я живу, – сказал отец.
– Ишь, – говорил земляк. – Сюда, значит, проведать или как?
– Проведать, – сказал отец. – Только никого не осталось, вот раков половить. Раки у нас отменные были…
– Раки есть, – подтвердил земляк. – Сколь лет-то прошло, тридцать?
– Не меньше, – ответил отец. – Там Птушка жива?
– Жива, – сказал земляк. – Чего ж ей. А ты сильно постарел. Я тебя мальчишкой помню, ишь ты, как бывает. Нет-нет человека, будто совсем исчез, а он вдруг появляется. Ну, бывай!
Отец вернулся в хорошем настроении, в руках два куля под подбородок. Мы было тронулись дальше, вдруг дядя Викентий сказал:
– Тоньку с Сашкой посмотреть не хочешь?
– И они тут? – спросил отец весело и изумленно.
– Тут как раз, они же в Починках живут, на окраинной улице. Всего пять минут ходу, я скажу, как ехать.
Мы свернули в боковую, почти деревенскую улицу. И скоро нашли их дом.
Насколько я понимал, Тоня и Саша – две сестры, одну из них, Тоню, любил мой отец. Будто бы он даже сватался, но вышла она замуж за сына кулака Филимона, у которого мой отец в те годы работал пастухом. Филимон имел четырех коров, пять лошадей, хороший кусок земли. Должно быть, его раскулачили, но толком я не знаю. Евгений Филимонович учился в военном училище, был по тем временам, наверное, человек образованный, не чета моему отцу. Но тоже вернулся к земле, стал хозяйствовать, как это делали его отец и дед. Тоня как раз кормила утят, и руки у нее были все в сыром хлебном тесте, когда мы встали напротив. Отец молчал, и она молчала. Нетерпеливый, ходкий дядя Викентий воскликнул:
– Тоньк, неужто не признаешь, с кем я приехал? Меня помнишь? Да? А Серегу не признаешь?
Пряча измазанные руки под фартук, женщина произнесла:
– Признаю. Приехал, значит?
– Приехал, – сказал отец.
– С сыном! С сыном он! – закричал дядя Викентий, хохоча и хлопая отца по спине.
– С какого года же мы не виделись? – спросил отец. – С двадцать шестого?
– Да, – кивнула она, так же пряча руки под фартуком. – С двадцать шестого.
– Ну, твои-то дома? – сказал дядя Викентий, забегая вперед отца и вперед самой Тони. – Шурка тут?
– Все дома. Шура и сам, – сказала Тоня, поборов смущение и приглашая в дом, но втайне стесняясь своей одежды.
Вышел Евгений Филимонович, суховатый, загорелый, с седой блестящей щетиной, взглянул с крыльца, прикрыв один глаз. Так он минуту, наверное, напряженно щурился, узнавал. Сдержанно поздоровался, пригласил жестом в дом. Тоня теперь наскоро вытерла руки, поправила платок и, загородясь рукой от солнца, с любопытством впрямую рассматривала отца, который медлил все входить, оглядывая двор и хозяйство.
– Сын? – спросила она, не отпуская глаз от отца.
– Да, – ответил отец, тоже как будто смущенно и в то же время бодро. От смущения он все время усмехался. Добавил: – Они вверх растут, а мы вниз.
– И внуки?
– Два внука, – ответил отец.
– А вы шустрый, – сказала она, засмеявшись. – Не изменились. А у меня вот куры, гуси, свиньи. Хозяйство… – И, спохватившись, что так и стоит, как застали ее, неловко загородила свои глаза. – Ох, неудобно, неудобно так.
– Чего ж неудобного? – спросил отец. – Что приехал, неудобно?
– Нет, спасибо вам, только не приготовлены мы. Я сейчас, скоро…
Она быстро, как девочка, убежала. Мы прошли прохладные сенцы и сели вокруг пустого стола, так же как у дяди Викентия и у тети Ани, ждали, пока хозяева приготовятся, и все это было в порядке вещей.
Неторопливо разговаривали, обсуждали дорогу и старались не глядеть на стол, где между тем накапливалась закуска. Сало в тарелочках, чистое, нежное, как масло, от хлебного корма, ржаной хлеб, лук зеленый, потом еще лук с головками, тарелка с соленой капустой и огурчиками, положенными по краям, а в конце – яичница с салом, шипящая на большой сковороде, ее поставили посредине и пригласили сесть «лицом к столу».
Вышли приодетые уже сестры. Шура в скромном, темном, молчаливая, быстро постаревшая женщина. Тоня нарядилась в красную кофту и надела дешевенький медальончик на цепочке. Была она еще крепкая женщина, свежая лицом, часто и с любопытством глядела на отца.
Евгений Филимонович ничего не стал переодевать: так и пододвинулся со стулом в старой гимнастерке, в галифе на босу ногу. Он был по-своему интересен, все щурился, раздумывал. Руки, я обратил внимание, когда он брал закуску, были натруженные, темные от солнца и работы.
Он налил самогона и вовсе не для оправдания, а так уж, кстати, сказал, что власти, мол, самогон гнать для себя не мешают. На продажу – другое дело, а для себя, министр будто бы сказал, можно.
Говорил он это больше для меня, как городского и официального человека, он и дальше спросил: вижу ли я министров, встречал ли в Москве Твардовского, если еще встречу, чтобы передал ему привет.
– Они знают, – сказал Евгений Филимонович, – они с моим братом Костькой вместе в школе учились.
– Твардовские в Загорье жили, – то ли сказал, то ли спросил отец.
– Их отец Трифон Гордеич хутор имел, – сказал Евгений Филимонович. – Сейчас туда переехали все из Уварова, только две избы остались.
Он стал рассказывать, что сын Трифона Гордеича, Александр, родных мест не забывает, из своих денег построил клуб и дал на устройство пруда, и мать кузнецов Твардовских живет там же…
Евгений Филимонович говорил и глядел на отца. Он пил, не пьянел, глаза оставались трезвыми, какими-то необычайно цепкими.
Где-то после третьей рюмки, чокаясь с отцом, он вдруг сказал:
– Ты, знаешь, не стесняйсь, что тово…
– Чево? – спросил отец.
– «Чего-чево», – сердясь, но по-доброму, расположенно к отцу, произнес Евгений Филимонович. – Некоторые встречают, и глаза в сторону, мол, был в пастухах… А чево такого, что в пастухах?.. И я мог быть! Пастух – это ведь и не батрак вовсе!..
– Не батрак, – живо отвечает отец, уже опьяневший и радостный от таких слов Евгения Филимоновича.
Отцу приятно, что его встретили как полагается, это для него очень важно. Он готов согласиться с Евгением Филимоновичем, и оно понятно. Оба прожили жизнь, воевали в Отечественную, оба пришли к земле, к приусадебному хозяйству, на краю Починок, на краю Москвы… Делить им нечего, а что было, то быльем поросло.
– Вот я и говорю, – горячо выговаривает Евгений Филимонович. И подливает самогону. – Как друг приехал! Я всегда рад! У меня Пашка Приставкин два года жил… И Степан жил, не брезговали.
Нет, делить им уже нечего, а дети их строят новую жизнь. Оба садятся уже совсем рядом и говорят о хозяйстве, о дороге, по которой нам придется ехать. Бордебяки, Тюри, Никульчино… Я выхожу во двор. Слышу, как отец говорит:
– На воздухе пройдет, но мы были цепче! Без привычки самогон ударяет…
«Да, не привык», – думаю я. Что он чувствует, глядя на Тоню, понимает ли он, что я могу сейчас думать о его жене и своей матери. У него уже третья жена, а у меня была одна мать, та самая женщина, которая сейчас мне ближе, чем ему. Мы даже на равных не можем говорить о моей матери, но ведь я не упрекаю, я хочу понять, почему так бывает.
– Им особую водку подавай, – говорит уже Евгений Филимонович, рассказывает отцу про хозяйство, про сад, пятистенную пристройку.
– Особая водка, – замечает отец, пьяно посмеиваясь, – это прототип «Старки»…
– Родня, – вставляет дядя Викентий.
– Ну нет, не родня! Была довоенная «Старка», а особая – это как бы ее третье замужество…
Мы прощаемся. Отец садится в машину, но открывает еще дверцу и кричит:
– На обратном пути заедем!.. Раков, раков привезем!
– Заедьте! – кричит, в свою очередь, Евгений Филимонович. – Я бы сам бы с вами, но сына жду… Сын у меня должо н приехать.
Они стоят на улице, поросшей до середины забора зеленой травой, с поленницей дров, около которой шныряют куры. Женщины стоят рядом, Тоня приложила ладонь к глазам. Смотрит на нас. Отец барином располагается впереди на сиденье, кричит «поехали». И совсем он ничего не переживает, а, наоборот, чувствует он себя сейчас удачливым хозяином: сын, машина, Москва.
– Поехали!
Но кричит он немного сильнее, чем нужно, словно боится, что в его благополучие здесь до конца не поверят.
Едем мы медленно. Дорога в толстом слое пыли, все лето не было дождей. Эта пыль, невесомая, сухая, долго стоит за нами желтым маревом, закрывая солнце, рыжим слоем оседает на стекле.
– Вот рожь, дожди не пройдут, станет мелкая!.. Нужны дожди.
– Останови, – просит отец.
Братья выходят, смотрят на поле, рвут колос. Трут его на ладони, пробуют, нюхают, произносят: «Замученная».
И картошка. «Кто раньше посадил, у того силу набрала».
Много раз потом повторится: «Останови», «Ах, овес, плох овес. Сгорит овес». И про кукурузу, которая «тут вовек не родилась, и теперь чудес от нее не жди». Желтые веточки, как немецкие кресты, рядами. Кладбище кукурузы.
Минули стороной Загорье, родину Александра Трифоновича Твардовского.
Дядя Викентий сказал:
– Тыщ двадцать отвалил на клуб, говорят. В позапрошлом году сам был, в Починках зашел в магазин, поздоровался…
Один раз провалились мы на мосту, потому что мосты тут простые бревна, ничем не скрепленные, в один накат. Подъедет машина, шофер соберет бревна рядком и, не задерживаясь, профугует на второй скорости, так что от задних колес бревна покатятся во все стороны. Другой шофер будет собирать и разрушать все сначала. Таким же образом действовали и мы, «наводили переправу» и, наверное, по неопытности провалились в щель задними колесами.
Посидели, отдохнули.
Думал я вообще о здешней земле, о колхозах, когда все только начиналось и потом было рассказано в поэме Твардовского «Страна Муравия». Вот и отец мой и дядя Викентий люди сельские, у них земля в печенках засела, а жизнь прожили врозь с землей, чего-то искали. И неизвестно, нашли ли…
Час назад дядя Викентий крикнул свое обычное «останови» и вышел из машины.
Мы с отцом решили, что снова хочет он рожь потрогать, в земле ковырнуть, может, и другое что заметил, что мы пропустили.
– Ну, чего? – спросил, выходя за ним, отец, и разминая затекшие ноги.
Дядя Викентий не отвечал.
Молча стоял, глядя то вправо, то влево, подымая землю, нюхал, бросал.
– Что нашел? – произнес отец, оглядываясь так же, как брат, и не находя ничего примечательного, из-за чего бы стоило волноваться.
Дядя Викентий хмурился, смотрел перед собой. Был он возбужден чрезвычайно и никак не мог ответить на вопрос.
– Да что случилось? – крикнул отец, заражаясь беспокойностью и пожимая плечами.
– Серег, это ведь моя земля… Была. Вот, ей-богу, она, я сразу признал. А ведь с какого-то года тут не был. Хлеб тут сеял, хозяйствовал, Серег, – сказал он.
Он пошел по видимой ему одному меже, которой сейчас и не было, время от времени останавливаясь, будто принюхивался, искал каких-то старых примет. Все тело его было сейчас особенно напряжено, все обращено к ней, к земле, на которой теперь пыльно росла трава.
Так он обошел неровным квадратом весь бывший надел, оглянулся и вздохнул. Потом сел в машину и велел ехать, ни разу больше не оглянувшись.
Он рассказал, как его, безземельного парня, женили на дочери одного хуторянина Бурмистрова, он взял за женой лошадь, корову и эту землю. Но так как он вышел на чужой хутор, о нем говорили: «вышел замуж». Он даже пошел на такое унижение: взял фамилию жены, как с него требовали, и стал писаться Бурмистровым. Поэтому, хотя он и родной брат отца, фамилии у них разные. Это было году в двадцать третьем, а через пять лет стали организовывать тут колхоз, и дядя Викентий отказался в него вступить. Он вылезал из кожи, думал, что сможет сберечь свою призрачную самостоятельность и землю, доставшуюся таким позором. Но его не оставили в покое – раскулачили. Отобрали корову и лошадь, сам он уехал с женой в Смоленск. Поступил в депо, проработал тридцать лет по чистке паровозных котлов, вышел на пенсию. Ни разу не был он тут.
Теперь он впервые увидал свою землю.
От Белых Холмов до родной деревни Спасское всего три километра. Их как бы две родные деревни было у братьев. В какие-то дальние годы по указу Столыпина наш дед Петр Васильевич был выделен из Спасского за версты три-четыре и основал свой хутор, который стал потом деревней Радино. Деревню эту спалили немцы, там посеян, как я говорил, лес. Березы. И скоро не останется места, где стояли дедовские дома. Но Спасское – коренное место нашей фамилии, тут жили все предки, тут и кладбище с их могилами. Сюда же перебрались уцелевшие радинцы, в том числе Птушенька, к которой мы сейчас направлялись.
Немного проехав, братья вышли из машины и пошли пешком. Как ни велико было их желание въехать в свою деревню торжественно, на машине, еще больше хотелось войти в нее своими ногами. Как ходили прежде.
Вот она и показалась, деревня, в которой было дворов девять, без улицы, без заметного какого порядка. Прежде в ней было около ста домов, наверное, и был порядок и улица. Дома исчезали, а оставшиеся держались своих постоянных мест. Деревня постепенно приобрела эту странную теперешнюю форму, она вырождалась.
– Скажите, пожалуйста, где Бородавкина живет?
Отец стоит у березовой с облетающей корой оградки первого от дороги дома.
– Хто? – говорит женщина от крыльца и поворачивается к нам.
– Бородавкина… Птушка… – кричит отец.
– Ага, – произносит женщина, медленно приближаясь к нам, разглядывая сразу лица и машину. – Ага, – повторяет она и не торопясь глядит.
– Который ее дом? – спрашивает отец.
– В конце ее дом, – говорит женщина, совсем подходя к нам и взглядывая из-под платка. – То т вон, самый крайний и есть.
Больше она ничего не говорит, а смотрит, хотя ей, наверное, очень бы хотелось узнать, кто мы и зачем приехали сюда. Городские гости – случай не частый, да еще на машине. Может, она что-нибудь и чувствует, но вслух говорить сама никогда не станет; это считалось бы неприличным. Да и дядя Викентий не преминул бы «узнать» свое, только нетерпение мешает ему. В родной деревне медлить неохота. Женщина теперь выходит на дорогу и смотрит вслед.
Мы направляемся к крайнему дому по травянистой, неуезженной дороге, у забора стоит Птушенька, тоже приложила ладонь к глазам.
– Кто же это? – произносит она, глядя на забегающего вперед, очень возбужденного дядю Викентия. – Не признаю.
– Не признаете? – кричит дядя Викентий. – Викентий я, Пет ра сын!
– Господи, какой седой, – говорит Птушенька. – А это кто же такие?
– Не признаете? – кричит дядя Викентий, подпрыгивая и все время забегая вперед нас.
– Не признаю, – говорит Птушенька и глядит на нас. Теперь она встала вровень, лицом к лицу, отец молчит, точно оглохший, растерянно улыбается.
– Не признаете? – хохочет дядя Викентий, вытирает слезы, так и не переставая хохотать и прыгать. Вдруг оказывается, что он плачет. – Да то же Серега, брательник мой, из Москвы!..
– Ишь ты, – говорит Птушенька, едва смеясь, рассматривая отца. – А Федя-то где?
– Феде сорок дней справили, – говорит дядя Викентий.
– Помер? – спрашивает ровно Птушенька.
– Сорок дней справили, – говорит дядя Викентий.
– Такой молодой Федя-то был! И помер?
– Да, – кивает дядя Викентий, и все теперь замолкают и так стоят.
– У тебя, Егоровна, пожить-то есть где?
Никто не сомневается, что пожить где найдется, вовек другого не бывало, но спросить нужно. Та к положено.
– Да есть, есть, – говорит Птушенька, смеясь, целуя отца, дядю Викентия, меня. Она произносит то самое, свое: «Птушенька ты моя…»
Общее потрясение еще владеет всеми, только выражается оно по-разному: дядя Викентий прыгает, то вскрикивая и всхлипывая, или закатывается от странного вдруг смеха. Отец же будто онемел и теперь произнес, обретая чувства, слова, почесывая нервно локти и оглядываясь:
– Сеновал есть? На сеновале и ночевать будем.
Лицо у Птушеньки светлое, теплое, ясные, живые глаза.
Губы и подбородок ее дрожат от каких-то праздничных для нее чувств, в то время как вся она тиха и спокойна.
– Откель у нас сено-то? – говорит она.
– Мы накосим, нам только косу в руку, – говорит отец, вздыхая глубоко, ноздри у него раздуваются, как после бега. Глаза становятся пьяные, покорные. Блуждающие.
Птушенька смотрит по-голубиному, наклонив голову, снизу вверх, тихо и радостно замирая. Она кивает отцу и спешит в дом. Мы проходим за ней.
Отец не стряхнул даже дорожной пыли с ног, не дал нам присесть и скинуть лишней одежды.
– Пойдем за раками, – сказал он и закричал вдруг: – Ну скорее же вы, всегда вас нужно ждать!..
Он стал нетерпелив и горяч, сердясь за любые промедления, за все, что могло затормозить наш выход. Птушенька готовила закуску, и он сказал ей:
– Через час мы вернемся, через час, Егоровна. Ладно?
Своим нетерпением он заразил дядю Викентия, тот тоже заторопился, забегал, толкая меня и отца.
Вышли.
День клонился к концу, воздух был в теплой дымке, тепла была еще пыль на дороге, а трава уже холодала.
Все как бы остановилось кругом и замерло в это предвечерье. Было тихо, пахло землей. Длинные тени от кустов легли поперек тропинки. Впереди шагал отец. К нему, приноравливаясь, чуть мельтеша, пристраивался дядя Викентий. Мне было видно их со спины – два седых затылка, мелькающие ноги с засученными штанинами, тихое хихиканье дяди Викентия… Будто и не было этих полсотни лет, а все-таки так же, как при их детстве. В руках у них болталось ведерко, а мне показалось, что и походка у них стала другой, упругой, совсем мальчишеской. Они шли на свою речку (господи, что за речка, у нее название-то Свиная). Викентий кричал:
– Серег, а помнишь?
И все он не поспевал за отцом, забегал на обочину, хихикая, глядел ему в лицо.
– Ты помнишь, Серег?
– Помню, – произносил отец.
И снова дядя Викентий кричал, подпрыгивая, задыхаясь от ходьбы или избытка чувств:
– Серег, ты помнишь?
– Да, помню. Все помню, – опять говорит отец, вовсе без досады, с удовольствием. Он оглядывался, жадно чесал под мышками, но ничего не замечал, и не чувствовал, и не держал в уме, я-то уже знал, кроме будущих своих раков. Томительного, ликующего, почти больного предчувствия того, о чем он мечтал всю жизнь.
Руки его стали беспокойными, выражая крайнюю степень возбуждения, глаза блестели, как от вина.
Между тем мы пришли на речку, заросшую ивняком и крапивой. Отец с ходу стал раздеваться, был он будто во сне, ничего не слышал и не видел, думал о своих раках. Он раздевался и бросал одежду как попало. Когда пуговица не расстегивалась, он нетерпеливо дергал ее, глядел с жадностью туда, где за кустами, темная и прозрачная, текла речка. Разделся, оставив на себе майку, и, обжигаясь о крапиву и с наслаждением охая и ахая, он полез в воду.
Его сразу же облепили комары, миллион и еще одна штука, но он не помнил, не чувствовал, не мог чувствовать их. Он наклонился, опустил руки в воду и весь теперь жил в своих пальцах, в том, что было для него под водой да, пожалуй, еще в его собственных переживаниях.
Дядя Викентий поежился, с живым любопытством, с восхищением глядя через кусты на отца, в знак солидарности с ним и для собственного ощущения тоже покрякивая, охая и замирая.
– Серег, – шептал он через кусты, зная, однако, что отец его вряд ли услышит. – Серег, ты под энтой корягой… Они там, под энтой…
– «Там», «под энтой», сам ты под энтой, – бормочет отец, лишь бы что-то произносить, и все щупает, щупает под водой руками. И дядя Викентий, треща кустами, идет над ним, шепчет ему, указывая на ту или эту корягу, мучительно переживая про себя. Но все-таки сам не раздевается, стережется. Вдруг за кустами раздался вскрик дяди Викентия – и отцовский смех, удовлетворенный, долгий. Отец крикнул: «Ха-ха-ха – держи-и!»
И тяжелый, темный, крестом шмякнулся у моих ног в траву первый рак, ворочаясь и цепляясь клешнями за стебли, за пальцы. Клешни в середине были у него розовые, с прожилками, над усами катались матовые шарики глаз.
Выскочил из-за кустов дядя Викентий, пришпаренный на ходу крапивой, взял рака в ладони и, перебрасывая с руки на руку, как живой огонь, заплясал с ним какой-то немыслимый ликующий танец. А уже из-за кустов полетели темными крестами, будто распятые, другие раки. Они глухо ударялись в травянистую землю и лежали там оглушенные, пока к ним не прикасались теплые пальцы. И все время отец хохотал, сопровождая смехом этот параболический полет, он кричал победно «держ-и!..» и еще раз «держ-и!..».
Отчего-то слово «держи» будит во мне сложные чувства, связанные с отцом, с прошлым. Я не помню отца молодым, хотя он в мои дошкольные годы был гораздо, лет на десять, моложе меня по отношению ко мне сейчас и к моему дошкольному сыну.
Отцу было тридцать лет, когда он потерял нашу мать и ушел на фронт.
После смерти матери у нас уже никогда не было настоящей семьи. Пять лет войны пали на самые сложные годы моего формирования, я расстался с отцом десятилетним школьником, а встретился с ним пятнадцатилетним подростком, работающим уже тогда, очень самостоятельным.
Но и отец стал тогда другим.
Я думаю об отце, стараясь проследить его жизнь со дня смерти матери, эта смерть была общей нашей бедой и началом нашего разобщения – вот до этих раков… Когда счастлив человек, ничего не помнит. Ничего не хочет помнить. Не потому, что позабыл, а потому, что лучше не вспоминать.
– Двухкопеечный! – говорит дядя Викентий. – А бывают пятачковые – во! С четверть!
Прищуриваясь и хихикая, он осматривает рака, поворачивая перед глазами.
– Самочка! Шейкой троп-троп-троп… От, Серег, у тебя комарья на спине!.. – кричит дядя Викентий, убегая в кусты и снова возвращаясь.
Все это он делал с необыкновенной юношеской проворностью, заразительно хохоча.
– Ах, паскуда! – кричит он, взмахивая пальцем с висящей на нем клешней, как бельевой прищепкой. – Ах, паскудинка, их, лупоглаз усатый… Клешню оставил, а сам уходит, уходит!
Кто это сказал, что у рака будущее позади?
Я смотрю вокруг, на поля уже пали сумерки, травы потемнели, стали влажными, пахучими, холодными.
– Смени ногу, Серег! – кричит дядя Викентий. – Вылазь!
– Я вылазю, – отвечает отец.
– Давай, а то конца не будет.
– Вылазю, – говорит отец, уходя по речке все дальше и дальше.
– А то всех соберешь, на развод не оставишь…
Дядя Викентий торопит, не желая, чтобы отец скорее вылезал, не укоряя. По привычке. И отец по привычке отвечает, зная, что не вылезет сейчас и никто не сможет ему помешать испытать свое головокружительное счастье до конца. Пока сам не почувствует: все. На сегодня все. Невмочь. Но завтра-то, как только рассветет…
Он наконец выскакивает, мокрый, дрожащий весь то ли от холода, то ли от пережитого забвения и радости. Обтирая тело, вздрагивая от хохота, приговаривая: «Ей вы, нули, что заснули!..» И ворошит в ведерке раков, которые сцепились, едва шевелятся, стараясь оборвать друг у друга клешни. Торопливо одеваясь и приплясывая на одной ноге, отец рассказывает, как в дореволюционные времена приехал к ним рачница, поставил мужикам два ведра водки и велел нести всех раков к нему: скупать будет. Не успели мужики порадоваться, как появился второй рачница и тоже стал поить мужиков, а за раков предложил цену вдвое выше. Тут они между собой перегрызлись, и первый со зла возьми да от мельницы и пусти по течению какую-то отраву, вроде бы аммиак. Вся речка Свиная враз побелела, раков дохлых несло. «Косить можно было», – подтвердил дядя Викентий. Целые сутки несло их, а потом долго не было в речке раков, пока не развелись снова. И каждая баба умеет тут их ловить по норам.
Обретая голос и спокойствие, отец вспоминает про какой-то «солохинский вир», где они брали налима, про «щупаков», как они тут называют щук. Мы идем обратно. Над нами светят первые звезды, голубеет за кустами запад, доносится лай собак.
Мы вываливаем раков в чугунок и прикрываем тяжелой сковородкой, чтобы не разбежались.
Идем в избу.
– Зазябли! – восклицает Птушенька, вглядываясь в нас с порога. – Господи, сейчас, сейчас… Нужно же с дороги в этакую прорву лезть.
Мы садимся на лавки. Отдыхаем. Изба у Птушеньки небольшая, посередке русская печка на деревянном фундаменте. Стены оклеены газетой «Знамя», орган Глинковского райкома партии.
– Тут салаш был, немцы дом-то спалили, цурочки на всем участке не найдешь. Теперь салаш поболее…
На стол вплывает радостно шипящая в брызгах сала яичница. Отец уходит и возвращается с бутылками самогона, он садится, как хозяин, в угол, под образа.
– Так и живете? – говорит он традиционное, разливая самогон.
Птушенька приносит лук, картофельный аржаной пирог, творогу. Встает за нашей спиной, отвечает:
– Живем хорошо – ждем лучше…
Садиться за стол она не хочет, стоит за нами и смотрит, как мы будем есть.
Отец подает рюмку, говорит:
– Откушай нашего, Егоровна, может, слаще… – И тетке Улье, соседке: – Со свиданьицем!
И Птушкиной внучке, Нине, доярке.
Ее мужу, механику.
Но сам отец не пьет, а ждет, смотрит с любопытством, с тайным восторгом, как будут пить другие. Как задохнутся, ловя воздух и быстро нюхая хлеб, каждую слезу принимая как дань его искусству, умению и таланту. Выпила Птушенька быстрехонько и легко, точно рукавом взмахнула, обтерла рукой губы, произнесла:
– Закусывайте, не побрезгуйте нашим.
– А мы какие? – сказал дядя Викентий. – Мы что, не отсюдова, что ли?
Птушенька выплывает за моим плечом, я этого не знаю, я чувствую по движению воздуха, будто от широких неслышных взмахов крыл. Вот она действительно произносит, приговаривает:
– Ешь соленое, работай до соли и помрешь – не сгниешь!