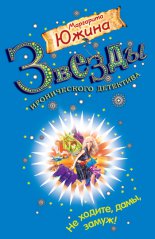Первый день – последний день творенья (сборник) Приставкин Анатолий

Тут она пододвигает мне пирог аржаной с картошкой, горячий, сытный, какого я не ел всю жизнь, только помнил по бабкиному дому, что он существует…
В войну на станции Томилино можно было за десять рублей купить пирожок с картошкой, не из муки – из отрубей и всяких отбросов. Но как я его съедал в те редкие, истинно праздничные дни, когда у меня откуда-нибудь бралась заветная десятка.
Я и сейчас представляю тетку, что продавала те пирожки у станции возле забора с левой стороны, из кастрюли, накрытой сверху тряпицей.
Тетка, наверное, была больная, с темным лицом, измученными глазами. Иногда, совсем голодный, я приходил на рынок без денег, чтобы заглянуть в кастрюлю и понюхать хлебно-картофельного запаха. Убеждаясь, что пирожки еще есть, я ощущал удовлетворение – значит, у меня было все впереди. Тетка не запрещала глядеть на пирожки, только замученные ее глаза вовсе останавливались, когда я, приходя, смотрел в кастрюлю. Наверное, ей было тяжело оттого, что я так смотрю, но она ни разу не предложила пирога. Да я и не представлял, что такое возможно: на рынок люди шли не из-за любви к своему ближнему, а из-за того, чтобы самим выжить.
Такого же большого, дышащего пирога с картошкой ни разу не видывал с детства. Картошка была желтая от примешанного яйца, с крапинками зеленого лука, она крошилась и была до головокружения сладка. Я держал пирог в руках и дышал его запахом, в то время как Птушенька неслышно летала за нашей спиной, что-то принимая со стола, что-то добавляя.
– Вот так нас дед с бабкой принимали, – сказал отец. – Любили они тебя.
Я оглядывался на Птушеньку, думал, что лицом она похожа на мою бабку: большой нос, глаза щелочками, и вся доброта подобралась под эти глаза. Было ей сейчас семьдесят пять, но живость ее, быстрый язык и любопытство к жизни никак не зависели от возраста. Память ее была необыкновенна, она помнила все не хуже отца, воспроизводила некоторые сцены живо, почти в картинках, дополняя мимикой то ли движениями рук.
– Какова была бабка Варвара? – спросил я Птушеньку.
– Варя-то? – спросила она. – Такая же, как я. Чуть пониже, может быть. И все плавает, плавает, пола не касается, – говорила Птушенька, проходя по избе и изображая с улыбкой бабку Варвару.
И все смотрели, смеялись, отец хохотал, что-то вскрикивая, уже красный от выпитого.
– А дед? – кричу я через общий шум. – Дед здоров был?
Спрашиваю я немного ревниво, мне всегда казалось, что я из-за детдома затормозился ростом, недобрал своего.
– Да, крупный дед Петр был, вон, как отец твой, поширше только! – отвечает Птушенька, полная ко мне ласки и любопытства. – А в кого же ты такой непьющий будешь? В Варвару разве?
– Дед Петр колдуном в деревне был, – говорит, наклоняясь ко мне, отец. – И верил в заговоры… Рожу лечил.
– Я же теперь табак нюхаю, Петрович, – сказала Птушенька. – Привыкла и вот нюхаю.
– Не помнишь? – говорит, оборачиваясь к ней, отец, а потом ко мне. – Я Варваре табакерку сделал на заводе!
– Помню, – отвечаю я.
И действительно вдруг вспомнил эту удивительную табакерку, сверкающую, гладкую, овальной формы. На ней была замысловатая вязь букв – то ли инициалов, то ли деревенской надписи. Я тогда читать не умел. Но табакерку потому и запомнил, что она мне нравилась своим блеском. Сверкала, будто волшебная.
– Она была овальной формы? – спросил я отца.
– Правда! – сказал он. – Я на заводе изготовил, отникелировал, вся деревня ходила на нее смотреть…
Возвращается Птушенька и, не слыша нашей беседы, вдруг говорит:
– А табакерочку Варварину помнишь, Петрович? Она ведь мне досталась после ее смерти…
Отец открывает рот от возбуждения, смотрит многозначительно на меня, на дядю Викентия, все хочет произнести «покажи», но получается: «Пыжи…»
Птушенька понимает его, всплескивает горестно руками и тоже никак не может ответить.
– Где уж! – говорит она, покачивая головой. – Ее полицейские забрали. Я на полочке схоронила, думаю, на полочке не найдут. А они, уходя, туды-сюды, туды-сюды, – нечего взять. Со зла как по полке кулаком ширнут, табакерочка и выпала. Лежит на полу, сверкает, как красное солнышко, такая была табакерочка… Они так и бросились, наверное, подумали, золото, что ли. Дерутся проклятые фашистские полицаи, а я смотрю из угла. Жалко табакерочку, Варварина память.
Дядя Викентий покраснел от вина, он развернулся, глядит на Птушеньку. Ему хочется, чтобы она рассказала еще про мать, про Варвару.
– Вы ее рядом с отцом схоронили? – вроде бы невпопад спрашивает он.
– Вместе, Петрович, – говорит ему Птушенька, называя и дядю Викентия Петровичем. Да кто ошибется, их теперь двое на всем белом свете и осталось, Петровичей. И никакой тут ошибки нет.
Дядя Викентий ничего не спрашивает. Но ждет, когда Птушенька соберется с мыслями.
Никто не торопит ее. Все повернулись. Ждут.
– Она померла от тифа, – рассказывает Птушенька. – В избе, может, не померла бы, да тут в окопе, в лесу. Немцы нас загнали, верст двадцать – тридцать отсюдова. Яков, мой муж, хороший ей вырыл окопчик-то, но четыре дня шли дожди… Прибегает дочка, говорит: «Руки у бабки Вари посинели, не дышит она…» Пошли посмотрели, а она кончилась. Половина тела в воде…
– Как ее схоронили? – спрашивает дядя Викентий. – Без гроба? Без всего? – спрашивает он будто ровно, но все понимают, почему так спрашивает, узнавая подробности материнской смерти двадцать лет спустя. И отец сидит, в стол неподвижно смотрит, лица не повернет. Будто весь самогон из него вышел.
Все молчат.
– Почему же без всего, Петрович? – говорит плавно Птушенька. – Мы ей досочки сделали, обвязали веревочкой да понесли. Через болото, через речку, все лесом, где погуще, так и несли день и ночь. Ночью подошли к деревне, окраиной пришли на кладбище, и в вашей, приставкинской, могиле мы зарыли Варвару… Чтобы, значит, не в лесу, а со своими лежала. Сделали все как положено.
Я от отца уже знаю, что в мае сорок первого года бабка Варя приезжала к нам в Люберцы, под Москву. Дед помер, и решено было, что бабка поедет в деревню, продаст дом и вернется жить у нас. Та к было решено, и семнадцатого июня выехала она в Смоленск, в свою деревню. Через пять дней началась война, а где-то в сентябре – октябре бабка, отцовская мать, умерла в лесу, в окопе. На месяц пережив мою мать, отцовскую жену.
Одна Птушенька помнит, как все было, где кто лежит.
Спали мы на сеновале, на старых зимних одеждах. Утром я проснулся от тишины.
Люди, исправляя несовершенство мира, в конце концов заметно изменили этот мир. Они проложили дороги, прорыли каналы, построили дома, заводы и гидростанции. Но, нарушив первородность природы, отторгая у нее часть за частью как бы в борьбе за прогресс и большие удобства для себя, человек незаметно лишил себя тишины. Он постепенно привык к моторам, он перестал воспринимать непрерывный шум, исходящий от всего, что нас окружает, шум, который стал как бы необходимой частью его жизни. Под шум мы рождаемся, под шум умираем. И никто не опомнится, не вспомнит, что так не должно быть, так не было. Странная, почти неосязаемая вещь тишина, она сама по себе есть прекрасное в нашем мире.
Опомнятся ли люди, поймут ли, среди самой совершенной техники и прекрасных устройств, – что они потеряли? Может, я так и не думал в тот час пробуждения на сеновале под соломенной, прямо перед лицом, крышей. Я чувствовал и радовался внутреннему спокойствию и тишине.
Через невидимые щели светило солнце, пахло сеном. Но оглушающий запах сена сперва только поражал, он ведь тоже был стар как мир, пряный, с легким дурманом, напоминающий о солнечном тихом дне. О спокойствии. От него приятно кружилась голова и погружало в забытье, в котором, однако, чувствовалось и ощущалось все, что происходило вокруг: игра света по чердаку, спор воробьев на крыше, скрип открываемой двери и шлепанье ног по деревянному полу внизу – кто-то босой входил в избу. Отца рядом не было, он встал до солнца, как привык вставать. Как вставали тут его отец, дед, прадед. Это наше поколение любит поспать и по своей воле не сдвинется утром с подушки: слишком много лучших минут недоспано в будни, когда беспощадный будильник зовет нас на работу.
Мне уже привиделся какой-то большой сверкающий, как солнце, маятник, который меня раскачивал, и воробьи спорили и терзали солому на крыше. Я подумал вдруг, что я опять сплю, хотя понимаю это сам и все осознаю вокруг. За открытой в избе дверью я различил голос Птушеньки, она разговаривала с моим отцом.
Пододвинувшись к чердачному окошку, я увидал отца с косой в руках. Он уже успел выкосить всю траву вокруг дома и теперь собирался куда-то идти. Ему все не терпелось испробовать сразу, он спешил, будто боялся, что ему помешают, не дадут сделать это.
Птушенька, которую мне не видно, говорит:
– Ах ты французу!
Это она ругается так на отца.
– Иди завтракать, Петрович, сына не буди, молодому спать дольше нашего надо. Поешь, а после хоть в колхоз вступай, мне не жалко.
– Ты еще, Егоровна, в колхозе числишься? – спрашивает отец, проводя рукой по лезвию косы, пробуя жало.
– Хто ж меня пустит с колхозу, – отвечает Птушенька, и мне представляется, что она тихонько посмеивается, произнося это. – Вот помру, тогда в отпускную…
Птушенька не жалуется, в ней много живого участия к жизни, приятия ее такой, как она есть. Ей нравится жить, несмотря ни на что, с годами в ней вызрела эта легкая усмешка как защита от всего, что могло накопиться под сердцем и убить его.
Она безыскусственна и проста в понимании окружающего, но путь к этой простоте и радости повседневного был такой страшный.
Вот рассказывает она, как ее сыновья воевали в войну. Одному из них было восемнадцать лет, другому – двадцать. Ушли партизанить «вон в те леса». Птушенька укажет в окошко «вон в те…» и ровно будет продолжать, как пришли к ней немецкие солдаты и стали спрашивать про детей.
– Где ваши дети? – спрашивали они. – Во зинд ире киндер?
Русские полицаи переводили ей.
– Да на фронте, где ж они могут быть, – отвечала она спокойно, сложив руки под передник и глядя снизу на солдат.
– Отвечайте, где ваши дети? – кричали солдаты.
– Я ж говорю, воюют, так же как и вы, в шинелях… Вот только покультурнее, наверно, они на свою мать не кричали никогда.
Она понимала всю бессмысленность таких вопросов, им нечего было с нее взять; она прежде сделала свое: родила и взрастила детей, которые теперь били этих чужеземцев. «Ах ты французу!» Та к она сказала тогда, выругавшись на немца. Тот не понял, сказал:
– Нейн! Их бин дойтше солдат!
Она тогда чуть не засмеялась врагу в лицо. «Ах ты французу!» Говорят, это ругательство пришло от давних наполеоновских времен, но ведь Смоленщина есть, а от французских захватчиков только одно ругательство осталось. А двое ее сыновей бой в лесу ведут. Пусть их попробуют словить – так она думала.
Но она ошибалась.
Нашлись люди, которые точно указали, где находятся ее сыны.
Немцы подослали к ним из деревни человека, который якобы от матери сообщил, чтобы они не скрывались, а шли домой: прибыли бойцы Советской армии и хотят помочь им перебраться через фронт к своим.
Ребята поверили человеку. Они пришли домой на рассвете, постучались:
– Мама, ты нас звала?
Тут их и схватили, она и понять ничего не успела. Только: «Мама, ты нас звала?»
Связали. Повели на Ельню. Специально по деревням, чтобы везде видели, что будет с каждым пойманным партизаном.
В каждой деревне их избивали, а она пошла вслед и все видела. По тем же дорогам, босая, точно раненая птица, она прошла до самой Ельни. Видела кровь, что оставалась за ними на песке, подбирала клочки одежды в местах, где их избивали. Ее видели солдаты, однажды погрозили винтовкой, но не тронули. Она шла тихая, будто бы спокойная даже, никому она не мешала. Брела на отдалении, только белый платочек мелькал. След в след, с сухими глубокими глазами, устремленными на детей.
«Мама, ты нас звала?»
Так она пришла в Ельню, пережив каждый шажок детей своих. На краю Ельни двух ее сыновей расстреляли. На том месте сейчас их могила.
– За двух ребят получаю я пятнадцать рублей пенсии, – объясняет просто Птушенька. – А ребята какие были, Петрович!
Третий ее сын умер недавно от старых ран.
– Александра Егоровна, – говорит отец, не вмешиваясь в ее негромкую, очень ровно рассказанную историю, только повторяя в паузах:
– Александра Егоровна…
Он и сам не знал, наверное, что он может сказать. Так просто повторял, чтобы слышала Птушенька свое имя, произнесенное с достойным уважением.
– Александра Егоровна!
– Растет другая внучка, – говорит Птушенька, и подбородок ее вздрагивает от тихого смеха. От светлого чувства к этой внучке. – Слава богу, может, будет все хорошо. Как ты смотришь, Петрович?
Отец сказал: «Гулять мы ходили за приставкинский колодец».
Колодец этот стоит сейчас вроде бы в центре деревни, но близ него домов никаких нет.
Была тут изба деда нашего (до переселения в Радино), прадеда Василия и прапрадеда Ивана, теперь же ровное зеленое поле, хоть стадион устраивай. Один приставкинский колодец торчит. Вырыли его давно, при предке Иване, лет сто назад. Тогда наш род жил одной семьей.
Сруб клали не из осины, от которой вода поначалу горчит, а из березы. Она в воде не гниет, от нее и вода слаще.
Пользовались колодцем девяносто изб, и вода в нем была на редкость удачна. Сейчас колодец обвалился, вода в нем загнила, и вся деревня ходит за водой на речку, на криницу. После завтрака отец пришел к колодцу, осмотрел, спугнув в лопухах курицу, потрогал деревянный сруб, сказал «мда».
– Осина, – с некоторым осуждением, с досадой произнес отец, заглядывая за окоем, пытаясь разглядеть все до дна. – Сперва береза идет, потом ремонтировали, осину местами подкладывали. И тут все осина. Торопились иль не до того было…
Ощупывая медленно дерево, как бы приноравливаясь к нему, отец говорил:
– Тут вот рогатину оставили, специально шли в лес, десяток верст обходили, чтобы найти подходящую сосну. Потом в рогатину вставляли жердь, на жердь вешали деревянную бадью, сцепленную обручами на два с половиной ведра. Здесь корыта стояли деревянные, вся деревня поила коров и лошадей, а посреди деревни шел ров, вроде бы искусственной речки…
Подошли дядя Викентий со стариком Семенычем, и Семеныч так же вдруг сказал:
– Приставкинский колодец. Но вода в нем кончилась, иссякла.
– Как же так кончилась? – спросил дядя Викентий. – Сама она, что ли, кончилась?
– Может, и не сама, – сказал Семеныч. – Может, люди забросили, я уж не помню.
– Вот главное, что люди ленивые! – подхватил дядя Викентий, взмахивая руками и едва, так же как отец, не наступив на курицу среди лопухов. – Им легче полверсты отмахать, чем почистить и исправить колодец…
– Во-от, – сказал поучительно дядя Викентий, трогая сруб руками. – Осину ставили на колодец, видимое ли дело?!
– Никого людей-то нет, – сказал миролюбиво Семеныч и стал тоже трогать сруб и заглядывать внутрь. – Иссякли люди, иссякла и вода, как ваш приставкинский род, – был и нет в деревне. Никого ведь нет. Кто же будет чинить и уметь рыть колодцы, если все будут так уезжать?
Отламывая подгнившее дерево и вертя на расстоянии от глаз, Семеныч стал говорить, что тут уж забыли, как нужно рыть колодцы, а прапрадед Иван с сыновьями понимал, как вода происходит под землей, в других деревнях не было такой сладкой воды, как в приставкинском колодце.
Мужчины сели на траву, кто на камень тут же, у колодца, и стали говорить об умении рыть колодцы, ставить избу, ложить печь.
– Предположим, шведку… Тут надо знать! – горячился дядя Викентий и срывал руками лопухи. – Если с плитой еще, ого как не просто!
– Первую печь с опытным печником надо ложить, – говорит отец. – Там бывает шесть оборотов…
– Семь! – кричит дядя Викентий.
– Даже вот русскую печку, – откликается Семеныч, до того задумчиво глядевший на небо. – Вот не так просто, как кажется, а?
– Чело, – говорит, усмехаясь, отец. – Тут вся хитрость в челе.
Мужчины соглашаются. Все дело в челе.
– Ну, сколько кирпичей чело? – спрашивает Семеныч.
– Пять! – говорит отец.
– Да ну?
– Пять! – встраивается и дядя Викентий.
– Конечно, пять! – настаивает, загораясь, отец. – Пойдем посмотрим?
Все направляются к избе Птушеньки смотреть русскую печь. Заходят, шаркая по скребленому полу ногами, глядят на широкое отверстие, считают кирпичи. Их по высоте оказывается действительно пять.
– Тут пламя бьет, – говорит, показывая, отец. – Оно сюда вверх, потом назад, через чело переваливает и снова вверх…
– Вверх, вверх! – горячо поддерживает дядя Викентий.
– …Сделаешь ниже, четыре кирпича, например, тяги не будет, дым в избу пойдет, а выше – так весь огонь утечет наружу… Улицу будешь топить, как Фома…
И тут вдруг все начинают хохотать. Отец только произносит:
– Как Фома… Помните, яйца… который… потерял?
И Семеныч, и дядя Викентий, и подошедшая от домашних дел Птушенька – все смеются и так долго не могут ни вздохнуть, ни сказать слова.
– Повез, понимаете, Фома яйца продавать. В соседней деревне напился, заснул… – приговаривает отец, будто поет слова песни, и дальше не может вымолвить, захватило его. – Проснулся… Проснулся…
– Нет яиц! – взвизгивает дядя Викентий восторженно, и все начинают стонать от смеха: Семеныч закидывает голову и хрипит, будто полоскает горло, отец валится ничком на лавку, и Птушенька закатилась, замерла, не в силах дохнуть, дядя Викентий плачет и мотает головой… Временами кто-то из них вскрикивает только: «Нет яиц!» – и снова все умирают, заходясь от смеха.
В конце уже, затихая и обессилев, отец произносит конец истории:
– Ну, с тех пор и повелось: в той деревне, знаете, где Фома яйца потерял?
Эту историю я слышал еще в Смоленске и еще несколько раз, потом мне и самому стало казаться смешным: «как Фома яйца потерял…» Она была как легенда или песня, из той далекой отцовской юности, когда им все было смешно и легко.
Отец, дядя Викентий и я собрались за водой на речку Свиную, где она хоть и темная, но мягкая, добрая, годная для стирки.
Для питья же воду берут из родника, криницы, которая бьет от самого берега.
– Это ж у Черного вира, неужто не помнишь? – объясняла Птушенька.
– Помнить-то помню, – сказал отец. – Да где теперь, через столько лет.
Мы берем в провожатые соседского мальчишку Серегу, человека лет семи, отчаянно рыжего.
Серега убегает надеть штаны, возвращается и ведет нас полем до самой речки:
– Тут где-то.
Показал и стал ковырять в носу.
– Где тут-то? – спрашивает, недовольно сопя, дядя Викентий, обходя берег и обваливая землю в воду. И воскликнул вдруг: – Вот она! Криница! – Он встал на краю берега, заглядывая вниз. – Я-то слышу, звенит, ровненько так… Вы послухайте! Послухайте!
Действительно, звенела вода, точно пел дальний жаворонок.
– А? – сказал дядя Викентий, будто он изобрел этот серебристый звон. – А?
Мы стали спускаться к невидимой кринице и тут из-под берега разглядели прозрачный родник, уходящий в черную береговую грязь.
Отец тронул пальцами, любопытно и осторожно:
– Как самогоночка.
– Та к чем ее, кружкой, что ли?
– Ты землю, землю подкопай! – кричит дядя Викентий. – Чтобы ведро подставить…
Он горячится и сердится, как люди не могли додуматься до этого прежде. Они с отцом часто теперь сердятся, встречая бесхозяйственность вокруг, и удивляясь, и досадуя на очевидность ее. Вот речка заросла сплошь, а прежде мужики лозу использовали и речке светлей было.
Или мост – что за мост, глядеть же тошно. Поглядят, выругаются в сторону, неизвестно чью, и тут же начинают менять бревна… Одно бревно откатят, одно перевернут или поменяют местами. Все-таки лучше.
Проходят полем, мимо трав, вспомнят, что тут были лучшие в округе травы у некоего Лизочкина. И отец и дядя Викентий нанимались тут косить, им ли не помнить те травы? Сейчас на том же месте, но похуже, а те, что скошены, давно пора переворошить…
– Вишь! – горячится дядя Викентий и тычет мне в нос пук травы, будто я виновен в том, что ее не перевернули. – Энта сторона белая. Весь же запах трава потеряет…
Щупают руками, вслух жалеют, вспоминают хозяйственного Лизочкина:
– Нет, не дал бы он траве перестоять или пересохнуть. Хозяин был.
Землю под ключом копали концом коромысла, приговаривая: «Лопату бы сюда… Обкопать, воткнуть железную трубу, чтобы как у нормальных людей было!.. И водичка по-хозяйски течь будет».
Дядя Викентий походил у речки, нарвал камыша, как они называли его, «яверя», выходя на берег, с хрустом открутил верхушки.
– Детство вспомнил? – спросил отец, с удовольствием обкапывая грязь и расчищая русло для воды. – Есть будешь?
– Да не… Серег, – отвечал дядя Викентий, трогая прозрачно-розовые корешки и поднося их к носу. – Для запаху нарвал. Дюже у яверя запах приятный. От детства, что ли?.. Моя жинка специально его на рынке берет и стелет дома на пол.
Дядя Викентий сдирает у одного кожу, будто очищает банан, и откусывает.
– Ишь ты, впрямь вкусно, – восхищается он и так все съедает.
Отец ставит ведро под родник, и вода звенит, ударяясь об оцинкованное железо. Она чиста и серебриста. Отец зачерпнул кружкой, ахнул от холода, хватив лишку, но, выпив всю до дна, подумал и, вздохнув, сказал:
– Пожалуй, еще одну.
Рыжий Сергей сидел наверху на траве и гонял веткой комаров.
– Откель она бежит? – спросил он, глядя на отца.
– Из глубины, – ответил со страстным уважением дядя Викентий. С уважением не к вопросу, не к Сергею, а к воде и к глубине той.
– А отчего ж она вверх течет? – спросил рыжий Сергей. – Получается, в гору?
– Выхода нет, – с тем же сочувственным уважением к воде проговорил дядя Викентий. – К солнышку она стремится. Как бы темно, худо ни было, все солнышка ищет, и вода тоже…
Он повернулся вокруг себя, показывая на деревья, на поле, на видневшуюся вдали деревню.
Мимо проехал грузовик с женщинами, видимо с косьбы.
– Прежде же сроду бабы не косили. – Дядя Викентий поглядел им вслед, покачав головой.
Тут встала над нами Птушенька с ведрами на коромысле, спросила, наклоняясь:
– Аль нашли? Я уж думала, не заблудились ли наши мужики… – И засмеялась совсем молодо, глядя на нас. И, сходя к кринице, налила воды в ведра, зацепила коромыслом сперва левое ведро, потом правое и пошла медленно, зная, что мы идем за ней.
Было в ней, едва согнутой под ведрами на фоне неясного белого неба, что-то очень знакомое – по каким-то картинам, что ли. Наверное, и отец об этом подумал, глядя на Птушеньку, на деревню, не торопясь брать ведра.
Как все похоже, думал я, оглядываясь и не зная точно, на что похоже. Вообще похоже, а скоро мы уедем. И никогда, может, не вернемся. А это будет существовать само по себе, вечное, как Смоленщина, как Русь. Как Птушенька.
«Как все похоже», – говорил я про себя, веря, что такое мгновение я уже переживал, уже чувствовал. Что я тысячу лет знаю это все и по наитию мог бы показать все деляны, что я вырубал, лес, все угодья, где косил с мужиками травы, теплую избу, где любил и рожал детей… И где я помер, я тоже знаю.
Отец и дядя Викентий встают чуть свет, часов в пять, и начинают искать себе работу.
Косят траву, рубят дрова, чинят грабли, и мне, добирающему рассветные, самые сладкие минуты, здесь, на сеновале, слышны их голоса.
Потом они завтракают.
Дядя Викентий нажимает на сало, отец ест картошку или яичницу. Потом отец пьет чай, много и долго, до пота, выступившего на груди и на руках. Дядя Викентий пьет молоко, чая он не любит.
Потом они снова ищут работы. То ли сухой травы принести, то ли за водой сходить.
Ведра они дают мне намеренно меньше, чем себе, и всячески стараются делать больше, чем я.
Будто бы так полагается, что они старше, а я молодой еще и слабый. Все это без слов, как само собой разумеющееся. Впервые я был этим тронут, ведь сколько я прожил без отца вообще, я давно, лет с четырнадцати, привык, что обо мне думал только я сам. Неужели вот это: деревня, Птушенька, запах с поля и речка Свиная – могло изменить отца?
За раками мы ходим каждый день. Отец ловит раков молча, терпеливо, с наслаждением.
Дядя Викентий же молча не может, он смеется, разговаривает с отцом, со мной или с теми же раками. Он уговаривает их, сердится, подтрунивает, насмехается или незлобно клянет. Он говорит:
– Сидит, задом в нору залез, а клешню на клешню положил… Ах, мать твою… На! Хватай! Чего ж ты пятишься, лупоглазенький?.. Рак пятится назад, а щука тянет… Да на, хватай, не стесняйся, голубчик! Ну, ах ты, язви, забрался, ты цапай, цапай – на!..
Раков уже ведра полтора, отец вытряхивает последних из рубашки, говорит:
– Много уже.
Дядя Викентий бормочет, всплескивая водой:
– Не-е… Я сегодня что-то охочий…
Руки у него и у отца изуродованы корягами, изъедены бодягой.
Проходит по тропинке женщина, говорит одобрительно, глядя на машину:
– Ишь, катаются. За раками да на машине… Так прежде и барин не ездил…
– Видал! – хвастливо кричит дядя Викентий. – Теперь на деревне разговору будет сколько лет. Приставкины на своей машине приезжали, а?
Есть в их самохвальстве самоутверждение, как городских преуспевающих людей. А в чем они преуспели? Прошли все, что можно, первые пятилетки, войну, потеряли столько близких, что не сосчитаешь…
– Эх, Серег! – восклицает, хохоча и подпрыгивая на траве, дядя Викентий. – Всех бы наших сюда! А?.. Валентина бы на «Победе», да мово сына с автобусом, да другого на мотоцикле… Так всей колонной ухнуть по деревне… Гляди, мол, наши едут! А, Серег?
Они хихикают, подталкивают друг друга локтями, босиком, с голыми животами. Смешные. Трогательные. Не похожие на тех, которых я до сих пор знал.
Опять я думаю об отце.
После смерти матери он стал действительно другим. Но между потерей матери и нашей встречей с ним была война, целая эпоха в моей и его жизни. Она могла кончиться плохо и для нас и для отца.
Начав от Мурома, через Северный Кавказ, Приазовье, Кишинев, Бухарест и далее, отец прошел весь положенный ему войной путь и в сорок шестом вернулся в Россию, чтобы найти нас. Спасибо полевой треугольной почте с постоянными штампами: «Просмотрено военной цензурой». Полевая почта ни разу не разорвала тонкую, как паутинка, связь, и мы не пропали, не растворились по разным детдомам, безымянные, несущие, как память от прошлого, только свои фамилии. Да то, что мы сами про себя сочинили!
Но одна фамилия, даже родина, придуманная про Смоленщину, значили так мало! Я никогда не думал прежде, что сталось бы со мной и сестренкой, если бы отец не вернулся.
А он мог сто раз не вернуться, теперь я это хорошо понимаю и, наверное, хорошо, что тогда этого не понимал.
Что уберегло отца на минном поле под Новороссийском, когда подорвались его друзья и на отца была уже написана похоронка?..
Что спасло его при лобовой атаке на Голубую дивизию у Сиваша, что тысячу и один раз хранило его там, где другие клали головы?
«Случайность», – сказал бы он сам.
Правда, один раз он рассказал совсем уж невероятный случай, как спасла ему жизнь наша умершая мать.
Будто бы отдыхала их часть после трудного боя, отец спал под деревом на траве. И встала над ним моя мать словно живая, он даже запомнил, что была она одета в самое свое любимое красное платье. Она сказала: «Сережа, проснись, посмотри, где ты лежишь?» Он огляделся и увидел вокруг много грязи и кала, забрал шинель с вещмешком, перешел за бугор и снова заснул. А тут начался артналет, и в дерево попал первый же снаряд, не оставив даже корешков, и многие товарищи отца погибли.
Отец мой, ясное дело, не верит в загробные чудеса, он просто рассказал то, что ему привиделось или приснилось. И стоило ли разубеждать его, если ему очень хотелось, чтобы его любимая жена сохранила ему жизнь даже после своей смерти.
Ему хотелось так, и это произошло. А мне даже нравилось вспоминать этот случай, потому что в нем была моя мать, о ее жертвенности я слышал и прежде. Я точно знал, что если бы моя мать могла спасти жизнь отцу, она бы это сделала и мертвая, такая она уж была.
Ведь все умеет делать мой отец, мне бы его руки!
Как только стал готов дом, пришла в него молодая женщина, новая его жена.
А совсем недавно родилась у отца дочка, которую назвали Светланой.
До кладбища от деревни километр без дороги. Расположено оно на зеленой крутой горе, видной издалека. Машина с крестами на багажнике прошла прямо по клеверу, оставляя двойной след, въехала между деревьями на опушку и встала. Первой от машины пошла Птушенька, в аккуратном, надетом для этого случая платье, в белом платочке на голове. За ней двигался дядя Викентий, держа за руку правнучку Птушеньки, потом отец с лопатой и свертком, где были самогон, закуска и обязательное тут рушниковое полотенце с вышивкой по краям.
Птушенька встала у огромной, единственной тут такой сосны, обхвата в два, повернулась ко всем и сказала:
– Это место ваших, Приставкиных.
Отец ткнул лопатой в землю, огляделся.
– И дед Василий? – спросил дядя Викентий.