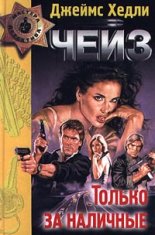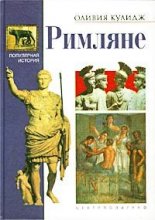Вот жизнь моя. Фейсбучный роман Чупринин Сергей

Научные рецензенты
Владимир Вениаминович Агеносов, доктор филологических наук, профессор Института международной политики и экономики имени А. С. Грибоедова (Москва).
Инна Семеновна Булкина, доктор философии, старший научный сотрудник Института культурной политики Центра культурных исследований при Министерстве культуры Украины (Киев).
Александр Моисеевич Городницкий, доктор геолого-минералогических наук, профессор, главный научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова (Москва).
Юлий Анатольевич Дубов, доктор технических наук (Лондон).
Евгений Анатольевич Ермолин, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой журналистики и издательского дела Ярославского государственного педагогического университета.
Максим Анисимович Кронгауз, доктор филологических наук, профессор РГГУ и РАНХиГС (Москва).
Андрей Семенович Немзер, профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики (Москва).
Александр Львович Осповат, почетный профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, профессор, руководитель направления «Филология» в Национальном исследовательском университете – Высшей школе экономики (Москва).
Виктор Владимирович Селютин, кандидат физико-математических наук, доцент Южного федерального университета, заведующий лабораторией математического моделирования эколого-экономических систем Института математики, механики и компьютерных наук имени И. И. Воровича (Ростов-на-Дону).
Лев Семенович Симкин, доктор юридических наук, профессор (Москва).
Роман Давыдович Тименчик, профессор Еврейского университета в Иерусалиме.
Мария Александровна Черняк, доктор филологических наук, профессор РПГУ имени А. И. Герцена (Санкт-Петербург).
Вячеслав Иванович Шаповалов, доктор филологических наук, профессор Кыргызско-Российского Славянского университета (Бишкек).
От автора
Эта книга родилась будто сама по себе. Нечаянно, комментируя в Фейсбуке чей-то пост, рассказал одну историю из тех, что я называю «подблюдными», поскольку все они уже были опробованы в дружеском застолье, потом вторую, третью. А дальше… Дальше они сами стали выниматься из памяти, выстраиваясь в сюжет, каким я и осознаю свою жизнь – единственную, другой не будет.
Как уже никогда не вернется и время, что родилось на излете оттепели, проползло сквозь вязкие семидесятые – восьмидесятые, рванулось вперед на рубеже девяностых и теперь, шаг за шагом, капля по капле, истекает.
Мое время, время моих ровесников – и чужое, полное тайн и загадок для новых, пошедших в рост поколений.
Его надо бы объяснить.
Так возникли, и опять же сначала в Фейсбуке, комментарии с примечаниями, ссылки на полезные книги и иное всякое, что неожиданно сблизило эту книгу… ну, не с энциклопедией полувека, конечно, я не так самонадеян, а с чем-то вроде подготовительных материалов к ней.
Бог даст, и они пригодятся.
Тем, кто постарше, – для сравнения с собственным опытом.
Тем, кто моложе, – как повод обратиться в будущем к источникам более надежным, чем эта исповедь сына века.
До н/э
Старея, все отчетливее ощущаю свое отличие от тех, кто родился у Грауэрмана[1], а читать учился по Пастернаку.
В доме моих обожаемых родителей книжек не было, кроме численника[2] – помнит ли кто-нибудь смысл этого слова? Первой книгой, которую мне, первокласснику, выдали в школьной библиотеке, были «Детские годы Володи Ульянова», а первой книгой, которую я купил, получив пять рублей в подарок на день рождения, стал сборник повестей и рассказов кабардинского писателя Хачима Теунова[3]. Что до поэзии, то она началась для меня с книги стихов Евгения Евтушенко[4] «Нежность», которую мне оставили (ровесники знают, что это такое) в поселковом универмаге, а критика – со «знаниевской» брошюры[5] Геннадия Красухина[6], ставшего много лет спустя моим товарищем, о жанре поэмы в русской поэзии 1950-1960-х годов.
Не беспокойтесь, я не буду дальше тянуть жалостливый сериал «Детство – В людях – Мои университеты», а подойду сразу к университету. Вернее, к дням подготовки к вступительным экзаменам, когда я, приехав в Ростов, отправился в районную библиотеку за учебными пособиями и взял там составленную Н. А. Трифоновым хрестоматию «Русская литература XX века: Дооктябрьский период».
Вернувшись туда, где мне случилось жить в предэкзаменационные дни, я открыл эту книгу. И мне открылась МОЯ литература. Ахматова. Хлебников. Мандельштам. Ходасевич. Бунин.
И Гумилев. Вполне понятно, что в конце первого курса я уже делал доклад о творчестве Гумилева на студенческой научной конференции. Он был, конечно, постыдно щенячьим, но в перерыве меня поманил к себе латинист Сергей Федорович Ширяев. «Не делом занялись, молодой человек, – сказал он мне брюзгливо. – Уж лучше бы Фурмановым». – «Фурмановым? – опешил я. – Никогда!» – «Ну, раз никогда, – так же брюзгливо молвил Сергей Федорович, – то вот вам номер телефона. Позвоните».
И я позвонил. И я пришел в дом по улице Горького, бок о бок с пожарной частью; ростовчане помнят, кто там жил[7]. Поднялся на третий этаж. Постучал – звонка рядом с дверью так и не появилось до самой смерти хозяина. Мне открыли.
Я вошел – и мне открылся МОЙ мир. Портрет Пастернака на стене. Портрет Солженицына за стеклом книжной полки. И книги, книги, книги, каких я до того не видел даже в университетском спецхране[8].
Так началась МОЯ жизнь. И она пока продолжается.
До шестого класса я доучился в деревне Усть-Шоноша, что в пятидесяти километрах от Коноши и в пятидесяти же от Вельска. Там у меня и первая любовь была. Галя Шухтина, за которой я ухаживал также, как все, наверное, в этом трепетном возрасте. Ну, то есть гонялся за нею за переменах, норовя огреть учебником по макушке, а в классе, моя парта была сзади, окунал кончик ее косы, украшенной бантами, в чернильницу-непроливашку. И Галя, оказывается, отвечала мне взаимностью, так что, когда родители увезли меня на свою родину, мы с моей зазнобой года два даже попереписывались, слали друг другу фотокарточки, и одна у меня до сего дня сохранилась: те же косы, такое же форменное платье, но вздымаемое уже завидной грудью.
Тем дело и кончилось. На десятилетия. Как вдруг получаю официальное приглашение на празднование 870-летия Вельска. В этом городе, что означен в метрике как место моего рождения, меня, по правде говоря, только крестили, вот и вся связь, но молодцы-вельчане, разыскивая, надо думать, земляков по Википедии, не сплошали и… Скажите сами, мог ли я не поехать?
О том, как домчались мы с женой до Вельска поездом «Полярная стрела» (Москва – Лабытнанги), в другой раз. О том, что увидел я на родине, – тоже. Это ведь рассказ о первой любви, согласны? Поэтому час езды на такси по унылому хвойному подлеску, и мы в Усть-Шоноше. «Тормози», – схватил я за плечо водителя, мгновенно опознав барак, в котором детство прошло. И, выскочив из машины, у первой же прохожей спрашиваю, живет ли здесь по-прежнему Галя Шухтина. «А как же», – отвечает. И дорогу мне показала.
Добежал, постучал в дверь. Она открылась. «Сережа, ты приехал», – сказали мне безо всякого изумления.
Вот и всё свиданье. По навесному мостику над Шоношей, загубленной диким лесосплавом, мы все-таки прошлись. И у старой школы постояли. Но – таксист ждет, жена улыбается, и говорить нам с Галей вроде бы не о чем; шутка ли, сорок семь лет прошло с тех пор, как расстались… «Получается, – говорю жене уже на обратной дороге, – не так уж сильно я изменился, если Галя меня сразу узнала». – «Да не узнала она, а знала, что вы здесь», – пробурчал водитель. И протянул мне местную газету, где про всех, кто на юбилей приедет, написано, и с фотографиями.
На минуту я даже расстроился. И тут же себя утешил: значит, ждала и, значит, не была уверена, что к ней заеду, и волновалась. И сейчас еще, наверное, волнуется, как и я волнуюсь.
Меня спрашивают: «А стоило ли вообще становиться москвичом?»
Отвечу. Я учился в Ростовском университете и, по общему мнению, должен был получить рекомендацию в его же аспирантуру. Наверняка поступил бы, наверняка защитил бы кандидатскую, потом докторскую (почему нет?) и к нынешнему дню, скорее всего, заведовал бы в Ростове кафедрой, печатался в соответствующих изданиях, выпускал монографии и т. п.
Не вышло. Так как мы с приятелями затеяли машинописный журнальчик «Одуванчик»[9] тиражом сначала в четыре, потом в десять экземпляров, не что чтобы крамольный, но все-таки, и это, как решило факультетское начальство, не стоило исключения из университета, но стоило невыдачи рекомендации в аспирантуру. Ну и ладно, я поработал в районной газете[10], в областной молодежке[11] и, набравши обязательный тогда двухгодичный производственный стаж, поступил-таки в ИМЛИ[12]. Стал то есть москвичом.
И вот стою я года три или четыре назад на сцене Донской научной библиотеки, рассказываю что-то собравшейся там профессуре, а сам думаю: ребята, а ведь я бы мог быть среди вас и одним из вас и так же слушать заезжего литературного критика из Москвы. Случись так, жизнь, наверное, была бы не хуже, чем моя нынешняя, эта, но проживаю я все-таки эту.
OPUS, говорите вы, MAGNUM[13]?
Мой отец всю свою жизнь проработал железнодорожником – сначала в Ростовской области, потом, уже как ссыльный[14], в Архангельской и, наконец, снова в Ростовской. Совершенно поэтому понятно, что первой газетой, попавшей мне в руки, был «Гудок». И то ли читал я в детстве этот орган Министерства путей сообщения чересчур уж старательно, то ли повлияло то, что старший брат у меня был журналистом, правда спортивным, но после девятого класса я заявился в редакцию районной газеты: хочу, мол, попробовать. Ну, пробуй, сказали мне и дали задание побеседовать с крановщиком, победителем, как сейчас помню, социалистического соревнования.
Прихожу на стройку, спрашиваю, где такой-то. Да у себя, отвечают и показывают рукою высоко-высоко вверх. Я обомлел, но полез, конечно, а когда до кабины добрался, то выяснилось, что крановщика-то и нет. Обедать ушел.
До сих пор иногда снится, как я с этого крана спускался. Руки дрожали. Но заметку все-таки добил, ее напечатали, и со временем я благоприобрел некоторую даже, знаете ли, самоуверенность. Так что и первую в своей жизни литературно-критическую статью – о стихах моего сокурсника, блистательно тогда начинавшего Леши Приймы[15], – опубликовал в университетской многотиражке «За советскую науку» без всякой робости. И за первую рецензию в журнале «Дон»[16] за 1968 год – отчего-то о романе «Зори лютые» кубанского писателя Бориса Тумасова[17] – тоже, не мандражируя, взялся.
А вот когда я уже на четвертом курсе заклеивал конверт, чтобы отправить в «Новый мир»[18] малюхонькую, на две всего машинописные странички, рецензию на сборник стихов ленинградской поэтессы Ирины Маляровой[19], руки у меня опять задрожали. И дрожали ровно до той поры, пока я не взял в университетской читалке наконец-то пришедший журнальный номер – второй за 1970 год и последний, что был подписан к печати Александром Трифоновичем Твардовском.
Две странички всего. Но в «Новом мире»!.. И успел при Твардовском!.. Значит, жизнь удалась. Я же вам говорю – OPUS MAGNUM, как и было сказано.
Служа в 1971 году заведующим отделом промышленности и транспорта в районной газете, я, разумеется, скучал и, признаюсь уж, резвился. Завел при редакции литературное объединение, а в самой газете «Литературную страницу». Собственные стихи на ней печатать, правда, посовестился, благо самодеятельных поэтов по хуторам и станицам и тогда без меня хватало, а вот два рассказа о любви, до того побывавшие в студенческом журнале «Одуванчик», все-таки тиснул.
Что не принесло мне ни славы, ни неприятностей. Как не принесли мне никакого вреда и журналистские шалости, вроде того, что лирические зарисовки – был в арсенале советской печати и такой жанр – о знатных, допустим, доярках, подписывал именем Игоря Северянина, а проблемные статьи о наболевших нуждах, скажем, стрелочников щедро инкрустировал цитатами из поэтов, которые были строжайше запрещены к упоминанию.
Ну, и кто меня поймает? Отдела проверки в маленькой нашей газете, естественно, не было. Цензора тоже, поскольку эти обязанности возлагались на самого редактора. А большое начальство к стихам было глухо.
Один только всего и помню, раз вызвали меня к секретарю райкома по идеологии. И показывает он мне свежий газетный оттиск с моей же руки отчетом о прошедшем заседании районного партхозактива[20]. Где написано, что в докладе первого, наоборот, секретаря рефреном – вы поняли, рефреном! – проходила мысль о чем-то там таком.
Оказывается, наш районный идеолог, человек невинный, но добросовестный, полез-таки за незнакомым термином в словарь и обнаружил, что рефреном могут называть и припев.
«Это что же, – закричал он на меня. – Наш Василий Назарович на трибуне, выходит, частушки пел?!»
Кричал долго. Но я и не оправдывался. Пытался лишь вспомнить, бывают частушки с припевами или все-таки нет.
И тут же о разнице между московской литературной жизнью и провинциальной[21], во всяком случае, тогдашней.
Работаю, еще до всякой аспирантуры, в областной газете «Комсомолец», печатаю первые рецензии в «Новом мире», «Юности»[22], «Дружбе народов»[23]. И, естественно, меня приглашают на семинар молодых критиков в Переделкино[24]. А как вернулся, звонок, зовут в местное отделение Союза писателей. Встречает меня их оргсекретарь и по совместительству детский писатель. Очень дружелюбен, расспрашивает, расхваливает. Вот тебе, говорит, Сергей, талон на приобретение машинописной бумаги по писательскому лимиту[25]. А вот, говорит без перерыва, мои книги. Напишешь о них для «Вечернего Ростова»[26], я уже договорился, а потом расширишь и отдашь в «Дон». Там уж ты сам договоришься, ладно?
Зиновий Самойлович Паперный[27], руководивший переделкинским семинаром и давший мне, кстати, много позже рекомендацию в Союз писателей, будто предвидя все, говорил мне еще в семинарские дни: «Можно, Сережа, быть в провинции прозаиком, можно поэтом. А критиком никак нельзя. Сожрут вас в этой банке с тарантулами». А что, спрашиваю, Москва – это не банка с тарантулами? Тоже, кивает Зиновий Самойлович, банка, но большая-большая, можно в сторонку отползти…
Наладившись на рубеже 60—70-х в критики, стремился я, разумеется, печататься в центральных, как тогда говорили, журналах. Но Москва от Ростова далеко, об Интернете еще и слуха не было, так что, приезжая в столицу сначала студентом, затем журналистом из провинции, я в надежде получить заказ обошел все, кажется, известные мне редакции. Кроме, понятно, «Молодой гвардии»[28] и «Нашего современника»[29], уже тогда мне чужеродных. Для «Юности», ежусь, написал рецензию на первую книжку Татьяны Глушковой[30] – но кто же тогда знал, как время развернет эту ученицу Ильи Сельвинского? А в «Знамени»[31] в ответ на предложенную статью об Арсении Тарковском Дмитрий Викторович Стариков[32], ведавший там критикой, посмотрел, помню, на меня с искренним изумлением: «Почему именно о Тарковском? – И он пренебрежительно щелкнул пальцами. – Таких, как Тарковский, у нас на пятачок пучок. Напишите лучше о Сергее Поделкове[33] – в нем есть масштаб».
Ну надо же, думаю, а я его и не читал. Пришлось топать в сотый на Горького[34], чтобы, стоя у прилавка, листать солидный (масштаб же!) том Поделкова. И уж на то, чтобы этот масштаб не поприветствовать, ума у меня все-таки хватило. А в самоучителе литературного поведения, которым я руководствовался, появилось очередное правило – можно писать только о книгах, которые ты либо уже купил за собственный счет и по собственной воле, либо еще только мечтаешь положить на свою прикроватную тумбочку.
Живя еще в Ростове, но печатаясь уже в столице, я стал приобретать некоторую даже известность в узком, но шумном (тогда, тогда!) кругу местных литераторов. Местная партийная газета «Молот»[35] даже уделила моей нескромной персоне целый абзац. До сих пор помню. Да и как забудешь, если сказано было – цитирую навскидку: «В славном эскадроне донских писателей появилась еще одна критическая сабля».
Причем слова «еще одна» были, как все понимали, типичной для партийно-советской печати гиперболой. Критиков на Дону как тогда не водилось, так и позже они, кажется, не произросли. Поэтому местные мастера поэзии и прозы начали охотиться именно за мною – не потому, что я стал таким уж хорошим критиком, а потому, что был единственным, других нету.
Они охотились, я прятался, видя даже известную доблесть в том, чтобы ни словом не обмолвиться об окружавшем меня – и не то чтобы очень гадком, но каком-то безнадежно сереньком – региональном ландшафте. Тоже, знаете ли, своего рода эмиграция – из постылой малой родины в вымечтанную и желанную, общероссийскую.
Хотя, признаюсь, случалось и мне оскоромиться. Напечатал я, например, в Ростовской молодежке, где тогда служил, обзор поэтического раздела журнала «Дон» – вполне никакой, поскольку и те немногие цветы моего злоречия, что в нем были, начальство выпололо. Опасаться, следовательно, нечего – и вдруг шум, гам, скандал, вызывают, и не куда-нибудь, а в обком партии[36], и это, по нормам тех прекрасных лет, означало неприятности не только для меня, автора, но и для ни в чем не повинного редактора газеты.
Являюсь, куда зван, а мне и говорят: «Вот Виктор Александрович заявление на вас подал. Докладывает, что вы его, товарищ критик, грубо оскорбили». И Виктор Александрович тут же сидит, в упор на меня смотрит. Фронтовик, старейшина нашего эскадрона, грудь в орденских колодках, а стихи ни к черту. «Извините, – отвечаю, – но я ведь о подборке Виктора Александровича вообще, кажется, ничего не написал. Ни одного слова, тем более оскорбительного…»
«Вот то-то, вот-то оно и есть – вскричал оскорбленный поэт, – что ты, сопляк, мою подборку даже не заметил». И – старый человек, фронтовик – тут же в кабинете картинно разрыдался.
С тех пор я так и помню: поэты могут критику простить что угодно, кроме равнодушия к их стихам.
Совсем, простите мне эту рискованную параллель, как случайные спутницы нашей безалаберной юности, каждая из которых (именно каждая) в определенной ситуации, когда «все» уже случилось, непременно говорила: «Теперь ты, наверное, будешь обо мне плохо думать». И не понимала бедная, что все гораздо хуже и что теперь о ней не будут думать совсем.
Теперь еще 60-е, но самый их конец. Я – студент филфака Ростовского университета, а мой друг уже аспирантом, но на философском. Репутация у него в глазах парткома была ни к черту, но диссертация – о французском экзистенциализме – безупречна, так что пришлось допускать к защите. И вот день торжественного акта. Пора начинать, как кто-то из парткомовских философов спохватывается: «А где стенографистка? Нет стенографистки?»
Ее, как вскоре выяснилось, потрудились не приглашать, а между тем без стенограммы протокол защиты будет недействительным. «Ну что, будем отменять?» – обращается председательствующий к членам ученого совета. И тут меня вдруг осенило: «Я, я буду стенографисткой…»
Защита у моего друга, словом, прошла блестяще. Черных шаров[37] накидали умеренно. К стенограмме – до сих пор горжусь – претензий нет. Но искомую степень специалисту по французскому экзистенциализму так и не утвердили – что-то там неподобающее раскопалось в документах, им представленных.
Выбор Москвы, как ПМЖ[38], был для честолюбивого ростовчанина отнюдь не предрешен. Почти на равных котировался и Ленинград, культурная, так сказать, столица. Во всяком случае, в видах своих гумилевских штудий я первым делом отправился не в ЦГАЛИ[39] и не в Ленинку[40], а в Рукописный отдел Пушкинского дома[41].
Квартировал же я или, как в России говорят, останавливался у Сергея Николаевича Артановского[42], к которому как к своему старинному другу меня и направил Леонид Григорьевич Григорьян.
Сергей Николаевич профессорствовал в Институте культуры, был тогда еще молод, уже обеспечен и состоял в очередной раз в разводе, так что, разбираясь с его дивной коллекцией рукописных книг начала 20-х годов, я брал еще и уроки холостяцкого образа жизни – впрок, впрочем, так и не пошедшие.
Особенно восхищало меня то, что Сергей Николаевич, джентльмен до мозга гостей, содержал одновременно экономку, ведавшую хозяйством, и кухарку.
«Дорого же», – сострадал я своему старшему другу. А он отвечал мне наставительно: «Жена, поверьте, обходится гораздо дороже».
Люди, поколением чуть старше, рассказывают, что и пишущие машинки надо было ставить на специальный учет, чтобы в случае чего те, кому положено, могли определить злоумышленника по специфическим особенностям шрифта. Наверное, так, но я о своей «Эрике»[43], что берет, как известно, четыре копии[44], уже никому не заявлял и, ничего поэтому не опасаясь, перепечатывал на ней, что хотелось. Достаточно, впрочем, невинное – стихи там, «Огненный столп» Гумилева, цветаевский «Белый стан» да мандельштамовские «Воронежские тетради». А криминальный самиздат[45] читал, какой друзья давали – то на недельку, а то и на ночь. И в машинописном, и в ротапринтном виде, реже переснятом и отпечатанном на фотографических карточках.
Прорывным, сейчас бы сказали, стало появление ксероксов. Их было мало, только в солидных учреждениях, так что множительная техника эта точно была под строгим контролем первых отделов[46].
Но кого ж это у нас контроль останавливает? Так что распространение сведений, порочащих и т. п.[47], чем раньше занимались только бесстрашные энтузиасты, встало и на коммерческую, можно сказать, основу. Ксерокопии можно было уже купить, и стоили они недешево, поэтому и меня однажды познакомили с неким жучком, который на подведомственном ему ксероксе деньгу заколачивал, и немалую. Намекали даже, что он на них дачу построил – в Жуковке, тогда, правда, еще не столь знаменитой.
И как не боялся, вы спросите. Может, и боялся, но дело-то было немногим страшнее фарцовки[48] и уж точно менее опасное, чем операции с валютой[49], а ведь занимались в 70-е и ими.
Чего в советские годы по-настоящему боялись, так это слушка, что ты, мол, или твой ближайший друг, или твоя девушка тоже стучите[50]. Старожилы наверняка помнят это характерное похлопывание по плечам – там, где могли бы быть погоны. Кто сказал? Все говорят. Проверить такой слушок было невозможно, опровергнуть, соответственно, тоже. И мне до сих пор стыдно перед некоторыми своими знакомцами, что я в слушок о их причастности, так никем и не доказанной, тоже верил[51].
Иногда слушок был и не ложным, так что многие из моих ровесников вспоминают, что и их тоже пытался завербовать человек из ГБ[52].
Со мною – свят, свят! – никто и никогда таких душегрейных разговоров не вел. Но ожидали их все, и все к ним не то чтобы готовились, но с жадностью слушали, как кому-то удалось-таки ловко отбрыкаться.
Мне было ужасно жалко бедолагу, парня действительно отличного. Но отношения с ним я все-таки свел до минимума и на заседаниях нашей университетской литстудии, куда он тоже ходил, стал говорить осмотрительнее и тех, кто неосмотрителен, пресекать.
Лет двадцать назад я придумал фразу, в видах чистоты идейных риз, конечно, рискованную, но, как и сейчас мне кажется, не лишенную смысла.
Вот эта фраза: советская власть, не к ночи будь помянута, существовала так долго, что и в ней успело нарасти кое-что хорошее.
Например, семинары молодых писателей и, в частности, молодых критиков.
Я сам прошел эту школу: Дубулты…[53] Переделкино… Москва… Сначала как семинарист, потом, спустя десятилетие, как руководитель. И не в том, разумеется, дело, что нас чему-то научили или я – позже – кого-то чему-то научил. Но нам кое-что показали вживе, чего на бумаге не увидишь.
Это первое. А вот и второе. Ну, вообразите, вы заведуете отделом промышленности и транспорта районной газеты «Свет Октября», а именно такова первая запись в моей трудовой книжке, – и вдруг получаете приглашение в Дубулты! Покруче, доложу я вам, было потрясение, чем французская виза в паспорте перестроечных уже лет, и стимул идти в профессию очень основательный.
Наконец, третье – люди, ровесники или около того. Покойный ныне иркутянин Женя Раппопорт[54], что в моем альбомчике «Чуприделки» написал: «Для чупринского музея я согласен быть евреем». Блистательный эрудит, тогда омич, а десятилетиями позже краснодарский профессор (и тоже ныне покойный) Сережа Поварцов[55], кому я однажды, путаясь в завистливых соплях, сказал: мы очень с тобой похожи, но ты лучше. Синеглазый, как нестеровский отрок, псковитянин Валя Курбатов[56], на которого так, говоря нынешним словом, запала Мариэтта Сергеевна Шагинян[57], что вызволить его удавалось только саратовскому жителю Сереже Боровикову[58]. Насмешливый вятич Витя Бердинских[59], который не писал еще солидных монографий, но силен был мгновенным рецензионным наскоком.
Э, да что говорить! Мы как были, так и остались на ты и по имени – при всех расхождениях, при всем взаимонепонимании, при всех распрях, на которые был так богат рубеж века. И литература как стала тогда, на этих семинарах, делом для нас домашним, где все на ты и всё по имени, так и осталась. Что, разумеется, самое главное.
И кому это, скажите на милость, мешало? И как молодым писателям уже 2000-х не снимать шапку, встречаясь с Сергеем Александровичем Филатовым[60], который довёз Василия Ширяева[61] с Камчатки в Москву, который открыл Сергея Шаргунова, Дениса Гуцко и Захара Прилепина, вывел Артема Скворцова[62] и Романа Сенчина в руководители семинаров, свел, наконец, вместе чудных «попуганок»[63]?
В лягушатниках, а семинары молодых и есть лягушатники, не живут. И я не сомневаюсь, что птенцы гнезда Филатова еще не раз передерутся. Но как были, так и останутся друг с другом на «ты» и по имени, и литература для них останется делом домашним. Или, если хотите, семейным.
Я ездил на Филатовский форум[64] каждый год, и в этом поеду тоже. Может быть, тоже покажу что-нибудь, что предусмотрено регламентом мастер-класса.
Но так как эта новелла явно подзатянулась и вышла чересчур патетичной, подбавлю-ка я перчику. Скажу о разнице между теми семинарами и нынешними.
Может быть, я и не прав, конечно, пусть меня поправят, но разница, мне кажется, в том, что тогдашние семинаристы едва не наизусть знали книги своих мастеров (тех, конечно, кто того стоил) и завороженно следили за тем, как «свой» мастер рассеянно пролистывал твою машинопись и машинопись твоих товарищей. Нынешние же молодые, хоть с Камчатки, хоть из Литинститута, в большинстве своем книг писателей, отряженных им в мастера, безусловно не читали и вряд ли когда прочтут. Зачем? Если можно волшебный хоровод друг вокруг друга водить ночь за полночь – ту самую ночь за полночь, какую мастера просиживают за чтением рукописей, из которых еще неизвестно, выйдет что-либо путное или нет.
Я поначалу, признаюсь, досадовал. Потом обвыкся – на то, блин, и свобода, чтобы прилежание и почтительность вышли из обращения. Сейчас, как рассказывают мне вузовские приятели, студент, вон, и из аудитории может беспрепятственно выйти, если ему надоест слушать про разницу между юсом большим и юсом малым.
На одном из семинаров молодых критиков в Переделкине лекцию о перспективах литературы социалистического реализма нам читал ведущий специалист по марксистско-ленинской эстетике. Можно сказать, светило.
И так он ловко читал, что все тенденции обнажил, закономерности обнаружил, но не назвал ни одной книги, ни одного живого – на тот год – писателя. Только «Железный поток»[65], с которым не промахнешься. И только, кажется, Леонид Леонов[66], да и то со «Скутаревским».
Дочитал, оглядел зал, ждет вопросов. И кто-то из нас: «Разве же можно, говоря о литературе, обойтись вообще без упоминания конкретных произведений?»
«Можно, – был нам ответ, – марксистское представление о Прекрасном так масштабно, что не стоит эмпирикой мельчить тему».
Тогда я только посмеялся. Но теперь, четыре десятилетия прошло, и сам иногда могу так построить лекцию или статью, чтобы и тренды были налицо, и дискурсы чтобы не бездельничали, а ни одной книги – то есть того, что, собственно, и составляет литературу, – названо не будет.
Наловчился, выходит, и я не мельчить тему.
На встречу с молодыми провинциальными критиками пригласили Катаева[67]. «Вертер» написан еще не был, но «Святой колодец» и «Траву забвения» уже твердили наизусть – по крайней мере, все те, кто, как и я в ту пору, считал литературу, прежде всего, атакой стилем.
Это казалось невозможным, чуть ли не оксюмороном – вы поглядите-ка: лауреат сталинских премий, секретарь, начальник, казалось бы, пробу ставить негде, и гражданская репутация более чем сомнительна, и вдруг такой, ну надо же, такой виртуоз, такой мастер!..
Как тут встречу пропустить, а если повезет, как не спросить о чем-нибудь важном, судьбоносном!
Спросить удавалось, а вот ответы разочаровывали. Валентин Петрович явно отбывал номер и с нами говорил через губу, отнюдь не воспламеняясь. Так что если и мастер-класс это был, то барственной снисходительности. Не больше.
Ровно до тех пор, пока кто-то из нас не начал свой вопрос со слов: «Валентин Петрович, вот вы сегодня лучше всех пишете на русском языке[68]. Скажите, пожалуйста…»
«Скажу, – прервал вопрошателя Катаев. – Скажу, что лучше всех на русском языке сегодня пишет Владимир Набоков[69]. Все услышали, нет? Тогда я повторю – и будто в разрядку – НА-БО-КОВ!»
И, помедлив, обвел глазами зал: «Я – второй».
Семидесятые, знаете ли, годы. Известный своей, знаете ли, самовлюбленностью и своим, знаете ли, конформизмом сталинский лауреат[70].
Прочел в комменте к одной из своих давних записей: «Писателей оправдывает то, что они – прекрасные собутыльники. А среди поэтов иногда встречаются еще и симпатичные барышни…» И нечаянно вспомнилось.
В первой половине семидесятых я побывал подряд на нескольких семинарах молодых критиков. Юноши были разные, а вот барышни – все, как на подбор, страшненькие. Нетрудно было задуматься, что вот, мол, наша профессия только «синим чулкам» и впору. И лишь десятилетия спустя от некоей союзовский функционерки услышал, что такой была сознательная установка писательского начальства. Симпатичных на семинары в Дубулты и Переделкино не брать: чтобы семинаристы и их руководители в особенности не изблядовались.
Теперь-то от писательских союзов только тень и осталось. А девушек, что в критики нынче идут, хоть на подиум вызывай. Да посмотрите, скажу я вам, на попуганок – ведь чудо же, как хороши!..
И снова начало 70-х. Семинар молодых критиков в Переделкине. Уже отужинали. И мы – все как один провинциалы – сидим в закутке под лестницей, вокруг стола, на котором Арсений Александрович Тарковский обычно играл в нарды. А мимо, спускаясь со второго этажа, где и бар был тогда, и бильярдная, проходят писатели.
Да не те, что в Доме творчества взяли на срок или полсрока комнатку с умывальником, но без унитаза. А именитые, статусные, постоянные насельники переделкинских дач.
И один из них, в распахнутой богатой шубе, подле нас присаживается. Мы смущаемся, а он и говорит: «Ей-богу, я даже не знаю, зачем молодые сейчас идут в писатели. Вот я, помню, опубликовал первый роман и тут же получил за него Сталинскую премию. Ну и что что второй степени – все равно у меня через месяц была квартира на улице Горького, автомобиль „ЗИМ“ и жена – балерина Большого театра».
Начало писательских карьер – тема вообще из увлекательнейших. Поэтому нарушу-ка я хронологию и забегу вперед – в год, кажется, 1975-й или что-то вроде. Всесоюзное совещание молодых писателей. Семинар критики. За учительским (руководящим) столом Виктор Ксенофонтович Панков[71], Григорий Абрамович Бровман[72], еще кто-то, а володеет и княжит, конечно, Виталий Михайлович Озеров[73]. Спор ведут в основном Витя Ерофеев, только что прославившийся статьей о маркизе де Саде, и Гога Анджапаридзе[74], за которым давно уже идет слава, что именно от него в Лондоне убежал Анатолий Кузнецов[75]. Гога, понятно, за устои советской литературы, Витя, само собой, в них сомневается. Но оба блистают эрудицией, сыплют цитатами: Гога – по-английски, Витя – по-французски. Наставники дремлют.
И тут встает Коля Машовец[76] (ныне, увы, покойный) из Саратова. И начинает так: «Я как критик-коммунист…» Что он говорил дальше, никого уже не волновало. Ни нас, семинаристов, ни тем более наставников. Как они, бедолаги, встрепенулись от слов, давно не слышанных, как взорлили! И что же? Уже через два месяца тихий аспирант из Саратова стал инструктором ЦК ВЛКСМ по работе с творческой молодежью, потом зам. редактора «Литературной учебы»[77], главным редактором издательства «Молодая гвардия»[78]. Взлет был вертикальным, благодаря всего двум словам, а дальше… Дальше перестройка, не к ночи будь помянута.
А теперь, по странной ассоциации, расскажу о друге, на поколение меня старше, который сызмладу поставил перед собою одну цель – Родине пригодиться. Годы стояли совсем еще глухие, ни о каком диссидентстве, организованном сопротивлении властям и помину не было, так что и выбора не было – надо в партию вступать.
Он и вступил, стал, еще студентом философского факультета МГУ, кандидатом в члены, как это было предписано партийным уставом. А там – человек же яркий, талантливый, прирожденный оратор – был принят в агитгруппу ЦК ВЛКСМ пропагандировать решения XXII и самого антисталинского, кто помнит, съезда. И так успешно пропагандировал, так страстно боролся за восстановление ленинских норм, что из кандидатов был исключен и на два года отправлен – кажется, бетонщиком – строить Братскую ГЭС[79]. Впрочем, в МГУ вернулся и, получив диплом, стал преподавать марксистско-ленинскую (а какую еще?) философию в Таганрогском радиотехническом институте. Параллельно, энергия же неуемная, организовав летний лагерь для трудных подростков. Этот лагерь в свою пору нашумел, приобрел, как сказали бы сейчас, медийную известность, да и потом давал о себе знать – хотя бы тем, что несколько самых неподдающихся питомцев моего друга стали, годы спустя, офицерами Армии обороны Израиля.
Вузовское начальство способностями Ванги[80], конечно, не обладало, но от слишком уж борзого преподавателя постаралось избавиться. Отпустив его в аспирантуру Ростовского университета, где мы, собственно говоря, познакомились. И опять он подал заявление в партию, а пока суд да дело придумал для студентов и аспирантов школу молодого пропагандиста. Взяв на себя обязанности нашего идеологического противника, нам же поручив всеми силами защищать ценности советского образа жизни.
Вам уже смешно? И вы уже, конечно, догадались, что заявление о приеме в партию удовлетворено не было, блестящую защиту кандидатской диссертации каким-то хитрым образом не утвердили, и уехал мой друг по распределению в Хабаровск.
«Так далеко же!..» – сострадал я. «Это смотря от чего далеко», – нимало не храбрясь, а просто чувствуя свои силы, отвечал он мне. И действительно – заявление в партию снова подал и, в подтверждение своей политической зрелости, напросился в лекторы, чтобы по селам и стойбищам разъяснять решения очередного, не помню уж какого, съезда.
Надо ли рассказывать, что через малое время моего друга и из Хабаровска турнули? Я и не буду рассказывать, пропущу полтора десятилетия, наполненных неустанной и для Родины всегда полезной деятельностью, чтобы застать героя моего скорбного повествования уже в дни перестройки и в роли директора крупного дорожно-строительного треста.
Который, это важно, не деньги, как тогда говорили, прокручивал, а действительно строил – дороги, коровники, другие объекты хозяйственного назначения в одной из северных областей России.
Кончилось как обычно. Родина – на этот раз в лице отечественного бизнеса и власти, ставшей до невозможности демократической, – и тут отторгла своего верного сына. Так что сидит мой друг в деревне и пишет книги – не о своем личном опыте, к сожалению, а о том, почему от века к веку проваливаются в нашей стране реформы.
Существует мнение, что в критики выходят неудавшиеся прозаики. Или, еще чаще, поэты.
Мнение небезосновательное. Я ведь тоже писал стихи. Не то чтобы не мог молчать, но в совхозе, куда в сентябре привезли первокурсников на уборку урожая, стихи писали все. Так что и я начал. Правда, стесняясь и никому их не показывая, кроме своего старшего друга, ростовского поэта и переводчика Леонида Григорьевича Григорьяна. Он прочел и сказал: «Культурно». Это был приговор, и веером по редакциям, как советовал Мартин Иден[81], я подборки уже не рассылал.
Врать, впрочем, не хорошо. На четвертом курсе я приехал в Пушкинский дом, поработать с гумилевским архивом, и пошел-таки с жидкой пачечкой стихов почему-то в редакцию журнала «Звезда»[82]. Меня встретил заведовавший там поэзией и показавшийся мне престарелым Николай Леопольдович Браун[83]. Полистал, пожевал губами и вопросительно протянул руку: «Годится. Давайте теперь паровоз[84], и пойдете у нас в молодежном номере».
Паровоз!.. Пусть кто-нибудь другой расскажет молодым поэтам, что обозначало это слово на тогдашнем литературном жаргоне. Я ведь не толковый словарь отшумевшей цивилизации пишу, а рассказываю о своей жизни – единственной и неповторимой, как любая другая.
В общем, профессионального стихотворца из меня не получилось, но с тех пор я с пониманием и состраданием смотрю на юношей (и особенно девушек) бледных со взором горящим, от которых никто не требует теперь паровозов, но требуют, надо думать, чего-то иного.
В утешение же себе люблю повторять, что большого вреда русской поэзии я все-таки не нанес.
1973–1988
Баловаться воспоминаниями так баловаться. Поэтому вытащу-ка я из своей памяти сценку с давно покойным Александром Львовичем Дымщицем[85]. Это имя сегодня если и вспоминают, то исключительно с дурной стороны. А я вот Александру Львовичу лично обязан.
Подаю, помнится, документы в очную аспирантуру Института мировой литературы (ИМЛИ), а у меня их не берут: иногородний, у института нет мест в общежитии… – словом, не берут. Спускаюсь, приунывши, со второго этажа и сталкиваюсь с А. Л., который за полгода до этого читал лекцию на переделкинском семинаре молодых критиков и, должно быть, запомнил меня в лицо. Спросив, в чем дело, велел подождать, а сам скрылся за заветной дверью отдела аспирантуры. Через пять минут прошел мимо, не сказавши мне ни слова. А еще через пять соответствующая тетка сама вышла ко мне и забрала документы. Пустяк, вы скажете. Конечно, пустяк, но без него ни в аспирантуру бы мне не поступить, ни спустя три года в «Лит. газету» не попасть, а может и вообще не стать москвичом.
Спасибо Александру Львовичу я так, кажется, тогда и не сказал.
Курсовые работы в университете мне разрешали писать о Гумилеве. Но как тема для дипломной не годились ни Гумилев, ни современные поэты, что меня уже все сильнее начинали занимать. Что бы такое, думаю, выбрать, и Георгий Сергеевич Петелин[86], заведовавший в Ростовском университете кафедрой, вдруг спрашивает: «А кого вы, Сережа, любите перечитывать?» – «Бунина», – отвечаю. «А еще?» – «Еще Толстого». – «Отлично, – резюмировал мой учитель. – За него и беритесь».
Я взялся, сочинил выпускную работу «Жан-Жак Руссо и Лев Толстой как критики культуры», не вполне, мне и сейчас кажется, пустую, и ее же в виде реферата подал в аспирантуру. И все вроде бы хорошо, но Толстого на ученом совете в ИМЛИ оставили за кем-то еще, а мне… «Вот, – благодушно говорит тогдашний директор Борис Леонтьевич Сучков[87], – в стране до сих пор нет ни одного специалиста по русскому натурализму. А надо бы, надо… – И уже ко мне: – Вы хоть Боборыкина-то читали? Или Арцыбашева?»
Я смутился. Но… мужик и охнуть не успел, как тема была уже утверждена. Самоуправство, казалось бы, глупейший случай, но я и Борису Леонтьевичу, и случаю считаю себя обязанным. Во-первых, потому что увлекся, но об этом отдельно. А во-вторых, откуда нам знать, какие именно струны задевает Провидение, угадывая нашу внутреннюю сущность? Побывав автором диссертации и, соответственно, нескольких статей о литераторах, которых, кроме меня, никто во второй половине XX века не читал, я по прошествии времени стал понимать, что могу, конечно, написать и о Толстом, и о Чехове, но зачем? Чтобы стать автором одной из десятков тысяч работ, посвященных и тому классику, и другому? Скажу даже сильнее. Мне, человеку по натуре честолюбивому, совсем не улыбалась и роль однолюба – ведущего специалиста по биографии и творчеству самого великого имярека: всё равно ведь затеряешься в тени, особенно величественной. Литература каждому из нас сулит такой обширный, такой соблазнительный выбор, и что же мне теперь, как Щеголеву, выходить замуж за Пушкина?[88]
Это я шутки шучу, конечно. Но отчасти все-таки объясняю причину, по какой в 1980-е, то есть в годы максимального издательского внимания к классике, включая и второй, третий ее ряды, подготовил не что-нибудь, а издания Николая Успенского, Власа Дорошевича, все того же Пьера Бобо и Куприна, чьи книги навсегда, казалось бы, ушли с освещенной авансцены.
То же и с современной словесностью. Ну, зачем, скажите на милость, писать мне тридцать вторую рецензию, допустим, на «Обитель» Захара Прилепина, если вслед за мною выйдет еще не одна чертова дюжина обозревателей и если мои скромные соображения на этот счет уже так или иначе, пусть вразброс, пусть не очень точно, но изложены другими более скорыми на язык ораторами? Я уж лучше о самых ярких критиках последнего полувека напишу, чтобы появилась книга – может быть, и не во всем удачная, но в своем роде единственная. И лучше, чего никто из моих коллег тоже не делал, попробую в кучку собрать всё, что о современной литературе знаю, – пусть стоит себе на полке «Жизнь по понятиям» как памятник 1990-2000-м.
Или вот Фейсбук. Я и ходу в него еще не знал, когда в «Знамени», поочередно с Натальей Ивановой, начал вести «Попутное чтение». Рецензии на книжные новинки? Да нет, никакие не рецензии, конечно, скорее фейсбучного типа, разве что на бумаге, посты, где главное – впечатление высказать, не утруждая ни себя, ни читателей доказательствами. Так вроде бы никто из профессионалов еще не делал – поэтому отчего же мне не попробовать?
«Эка ты расхвастался», – скажет мне жена без всякого одобрения. Ну, простите, больше не буду. Это раз. А два… «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их…»
Сказано о стихах, но только ли о стихах?
Не знаю, как в Москве, а в Ростове-на-Дону на рубеже 1960–1970 годов филологи по Дерриде[89] еще не ботали, Лакана[90] и Бодрийяра[91] не знали. На пике моды был структурализм в его тартуском изводе и, штудируя «Труды по знаковым системам»[92], я, помнится, даже и словарик для себя составлял, перелагая термины, кружащие голову, на язык родных осин.
Поэтому надо ли говорить, что первую главу собственной дипломной работы я написал тоже по-птичьи[93], щеголяя своей, сказали бы сейчас, продвинутостью?
Мой научный руководитель Георгий Сергеевич Петелин, автор вполне себе традиционных работ о Бальзаке и Стендале, не возражал. Лишь попросил, ссылаясь на свою позитивистскую замшелость, лично для него перевести на родную речь то, что я в ажитации насочинял. А то, говорит, чувствую, что на защите я вас как должно защитить не сумею. Так что сели мы рядком, и уже фразе на десятой – пятнадцатой мои щеки бурно запунцовели. Ибо всё, ну или почти всё, что у меня было изложено так кучеряво, так, знаете ли, по-современному, в переводе на язык классического литературоведения выглядело удручающе бледно. Во всяком случае, обыкновенно. Биться было не из-за чего, и надо ли говорить, что с тех самых пор я уже почти полвека прикладываю все силы, чтобы обойтись без филологического новояза? И в собственных сочинениях что вроде бы удается. И в редакторской практике, что, признаюсь, выходит куда хуже. Ведь сколько ни тверди иному просвещенному автору: «Да говори просто – ты довольно умен для этого»[94], – он все равно в статью, хоть бы и о трагедиях Озерова подпустит таких дискурсов, таких, с позволения сказать, нарративов, что либо святых выноси, либо пасуй перед смесью французского с нижегородским.
Я и пасую, то есть попустительствую, особенно если имею дело с автором молодым; глядишь, мол, еще и сам выправится. Со мною не согласятся, но я-то уверен: исключая стиховедение и, может быть, специальные области теории литературы, почти обо всем можно написать так, что читатель только языком прицокнет: вот статья, а все понятно, все на русском языке. Недаром же все первые лица из размышлявших и размышляющих об истории нашей литературы – от Михаила Леоновича Гаспарова до Александра Павловича Чудакова, от Сергея Георгиевича Бочарова до Романа Давыдовича Тименчика[95] – говорят с нами на таком прекрасном русском языке, что прозаиков завидки берут. Зачитаешься, бывает, и думаешь: а что, если не только критика, но и наука о литературе тоже неотъемлемая и законная часть изящной словесности? Только настоящая, конечно, наука. И словесности часть, в самом деле, изящной.
Став аспирантом ИМЛИ, я оказался приписанным к Отделу русской классической литературы. Заседали сотрудники этого Отдела (обязательно с большой буквы) по средам.
Я и сейчас, закрыв глаза, как живых вижу тогдашних столпов отечественного литературоведения. Заведующий Отделом (и мой научный руководитель) Константин Николаевич Ломунов[96]. А ошуюю и одесную – Кирилл Васильевич Пигарев[97], Ульрих Рихардович Фохт[98], Лидия Дмитриевна Опульская[99],Андрей Леопольдович Гришунин[100], Уран Абрамович Гуральник[101] и, разумеется, член-корреспондент Академии наук Петр Алексеевич Николаев[102]].
Ведь были люди в наше время, не то что нынешнее племя!.. Боюсь, правда, что мало кто и тогда, и сейчас сумел бы отличить эстетические воззрения Урана Абрамовича от научной позиции Петра Алексеевича.
Но входили в Отдел, конечно, и другие. Сияющая обаянием, в том числе интеллектуальным, Екатерина Васильевна Старикова[103], хмурый остроумец Зиновий Самойлович Паперный, блистательный Юрий Владимирович Манн…[104]Не они, разумеется, одни стоят доброй памяти, но я, пожалуй, уйду пока от персоналий к общим для Отдела проблемам.
Одна из них состояла в том, что надо было время от времени жучить Александра Павловича Чудакова. Самый младший по возрасту он ходил (так, по крайней мере, казалось) во всеобщих любимцах, но поступал не всегда подобающе. Так, например, в отличие от большинства ведущих и старших научных сотрудников, что заполняли своими трудами малотиражные и безгонорарные (sic!) имлийские сборники, Александр Павлович с его отменным пером и ума палатой был зван еще и в «Вопросы литературы»[105], и вообще во все издания, которые могли до него дотянуться. А следовательно, находясь на академической службе, дерзал получать гонорары.
Что было, разумеется, абсолютно неприемлемо этически. Так как же его, молодого, незрелого, было не жучить старшим товарищам?
Нам, имлийцам, вузовские аспиранты завидовали. Еще бы! У них комсомольская жизнь била ключом и, как тогда шутили, всё больше по голове. Да и потом – то припашут (слово уже нынешнее) к приему вступительных экзаменов, то позовут ассистентами на семинары. А еще ведь сентябрьские выезды на картошку[106], где бог бы с ней, с картошкой, главное – удержать подопечных студентов, чтобы они совсем уж не разгулялись.
То ли дело академический институт. От хиленькой комсомольской организации, куда под предводительством Славы Бэлзы[107], будущего телепросветителя, входили Витя Ерофеев и несколько известных ныне литературоведов, никто ничего никогда не требовал. Совсем ничего. Так что обязанностью только и было носить крышку гроба на частых тогда в институте гражданских панихидах.
И еще овощная база.
Об этом вместилище гнилой картошки и подгнивающей капусты мне пару дней назад напомнил Юрий Владимирович Манн, крупнейший в мире знаток Гоголя и русского романтизма. «Когда я первый раз туда отправился, – рассказал он, посверкивая стеклышками очков, – то, выйдя из метро, стал спрашивать, где же она, Кунцевская. А вы, мне ответили, как увидите людей тоже в очках, так за ними и пристраивайтесь. Всем, кто в очках, в одно место дорога»[108].
И лучшие, действительно, люди бродили тогда по этим садам Академа[109]. В фуфаечках и, у кого были, в болотных сапогах. Чудаков Александр Павлович, Бочаров Сергей Георгиевич[110], иные многие… Посланцы из других институтов на овощной базе в Кунцеве, конечно, квасили по-черному. Но не мы, не филологи. Разве что чекушку раздавим, не более. Атак… Иногда и стихи читали там же, у контейнеров, но чаще продолжали начатые ранее и всегда актуальные, всегда захватывающие разговоры – о Бестужеве-Марлинском и о пэоне втором[111]. Или все-таки о четвертом?
Годы прошли, но я так и перевозил свой ватничек и свои резиновые сапоги с одной съемной квартиры на другую. Вдруг, думал, еще пригодятся.
Как научный руководитель, Константин Николаевич Ломунов большого вреда мне не причинил. Диссертацию посмотрел уже после предзащиты, но, впрочем, до самого торжественного акта. И потребовал двух изменений.
Первое. Во всех фразах и оборотах типа «радикально-демократическая и либеральная критика поддержала (или, наоборот, осудила)» снять неуместный соединительный союз «и». Чтобы и первой, несомненной, и второй, сомнительной, критикам были посвящены отдельные фразы. Или – можно и так, сказал профессор, – если суждение правильное, оставить одну радикально-демократическую, если неправильное – оставить, соответственно, одну либеральную.
И второе требование. Открыть список использованной литературы классиком (понятно, простите за тавтологию, что не литературы). Любым.
И я, помнится, в видах скорой защиты выбрал Энгельса. Со временем, когда я плотнее вошел в литературно-критический, как тогда говорили, «цех», выяснилось, что угадал я правильно. Тогда, в 70-е, цитаты из классиков уже отнюдь не были обязательным условием публикации (защиты – да, а публикации – не обязательно). Чем большинство моих коллег – критиков и филологов – невозбранно и пользовались.
Кроме тех, кто хотел попасться начальству на глаза. И тогда особенно уж бесстыжие всюду, куда можно, совали что-нибудь из Ленина или постановления очередного пленума ЦК КПСС. Те, кто лучше о себе думал, могли подпустить что-нибудь из Энгельса, считавшегося почему-то наиболее нравственно приемлемым. А щеголи – как правило, из выпускников вольнодумной Академии общественных наук при ЦК нашей партии[112] – с особым шиком цитировали все-таки Маркса. Но непременно – «Из ранних произведений»[113].
Скажи мне, что за книги у тебя на полках стоят, и я скажу, одной ли мы с тобой крови. В нашем поколении этот критерий срабатывал безошибочно. И кто из нас, придя в квартиру к полузнакомым людям, не скользил взглядом – хоть бы и расположившись уже за пиршественным столом – по разнорослым книжным рядам? Что-то отмечая с чувством избирательного родства, и у меня, мол, такие же дома, а на чем-то тормозя даже и с ревностью: где же это они раздобыли то, за чем я давно и безуспешно охочусь…
Вот позвала как-то меня, еще аспиранта, к себе в гости дальняя родственница моей жены. Она тогда продавщицей работала в «Синтетике» на Калининском – ну, москвичи, кому за 50, даже за 40, этот магазин сразу вспомнят и поймут, что с дефицитом у нашей милой Гали проблем не было.
И действительно: в спальне этажерочка для себя, с Пикулем[114], Юлианом Семеновым[115], зарубежными детективами – это, теперь-то понятно, взамен дамских романов, которых на русском языке тогда еще не было. А в гостиной… Ну, глаз не отвести: два, даже три, может быть, полированных шкафа, а в них – всё, что филологическая душенька пожелать может. И «синий» Мандельштам, и «агатовая» Ахматова[116], и академический Достоевский, и альбомы – то Дега, то Чюрленис, – и Эйдельман[117], и Аверинцев, и Лотман…
И все томики не потрепанные, как у меня дома, а чистенькие, с иголочки. Спрашиваю осторожно: зачем это тебе? «Ну как, – отвечает. – Я ведь замуж выйду? Выйду. Дети появятся? Само собою. А как вырастут – у них уже и библиотека будет. Так что спасибо скажут».
На скучном языке такая заготовка книжек впрок называется, наверное, отложенным потреблением. Сейчас, дескать, мне не до книг, зато вот выйду на пенсию и тогда уж начитаюсь. Или детям, действительно, пригодится, внукам. И страшно подумать, какие фантастические тиражи оседали, помимо государственных библиотек, по домам у такой вот Гали, у такого, к примеру, Петра Ивановича. Не решусь сказать, была ли наша страна самой читающей в мире. Но вот то, что нигде, наверное, книжное собирательство не было столь престижным, столь прочно вошедшим в обычай, как у нас, – это уж точно.
А Галя… Много лет мы с ней не встречались, поэтому я и не знаю, говорят ли нынче ее выросшие дети спасибо за шкафы, набитые когдатошним дефицитом. Зачем гадать, если с ума нейдет недавний разговор с одним моим старшим товарищем, который, собравшись вдруг помирать, начал спешно отдавать старые долги, приводить в порядок архивы. И надо, говорит, книги еще куда-то, пока я в силах, пристроить, вон их сколько за жизнь накопилось. «Ну что ты торопишься, – сержусь я. – Во-первых, и сам еще, Бог даст, почитаешь. И дети твои в конце концов сами разберутся». – «Э, – отмахивается он от меня, еще, с его точки зрения, молодого и глупого. – Дети-то, конечно, всё выбросят. Но им неловко это будет делать, стыдно как-то перед памятью обо мне. Уж лучше я их от этой неловкости и этой докуки сам избавлю».
И опять аспирантские, 70-е. Самиздат как один из трех (наряду с библиотекой ИМЛИ и толстыми литературными журналами) источников и составных частей самообразования. И зовут меня, помнится, на публичную лекцию в Институт, тоже помнится, стали и сплавов.
В зале – битком. А перед собравшимися – Григорий Соломонович Померанц[118], чье имя я, к стыду своему, раньше не слышал.
К стыду – поскольку именно та лекция многое мне – и в жизни и в себе самом – объяснила. Речь шла о процессе европеизации неевропейских стран, что, во-первых, вписывало Россию, лишая ее права на исключительность, в общий цивилизационный поток, а во-вторых, давало простое объяснение нашего едва ли уже не трехсотлетнего дуализма: и в Европу, изнемогая, тянемся, и Европою никак стать не можем. Ибо Европа, – говорил Григорий Соломонович, сам в Европе никогда, кажется, не бывавший, – это, при всех региональных и прочих, вплоть до личностных, различиях, есть царство цивилизационной однородности, мир единых стандартов жизни и общественного консенсуса в жизнепонимании. Тогда как Россия, подобно любой другой неевропейской стране, ставшей на путь европеизации, клочковата или, как говорил Померанц, лоскутообразна: в одной квартире могут жить интеллектуалы высшей европейской пробы, а в соседней – ну, вы понимаете кто.
Насчет квартир, может быть, еще и метафора. А вот то, что в десятке километров от космодрома в Плесецке наши русские люди по-прежнему живут и думают, как при Василии II Темном, известно каждому, кто прочел рассказы Галины Турченко в «Знамени» (2014, № 10) или посмотрел фильм Андрона Михалкова-Кончаловского «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына».
Естественно, что, став, спустя десятилетие, одним из руководителей «Знамени», я первым делом позвонил Григорию Соломоновичу и попросил разрешения опубликовать ту давнюю лекцию в журнале. «Почему именно ее? – удивился Померанц. – В ней многое, мне кажется, устарело».
Разве?
Мне-то кажется, что ключ лоскутообразности и сейчас многое открывает. И в нынешнем состоянии страны. И в таких, как я сам, людях: вроде бы и продвинутых, либералах и «западниках», как раньше говорили, по убеждениям, но живущих с постоянной оглядкой на свое детство и на свою родню, знать ничего не знающую ни о правах человека, ни о том, о чем спорят на страницах хотя бы даже и «Знамени».
Помните, как у Шукшина: одна нога в лодке, а другая все-таки на берегу…[119]
Кандидатские мы защищали вместе с Владимиром Ивановичем, тогда еще Володей, Новиковым[120] он по русской эпиграмме, я по русскому натурализму. Вместе и банкет для членов Ученого совета заказывали. И не где-нибудь, не как-нибудь, а в шикарном ресторане «Прага», в отдельном кабинете. Что по цене было тогда вполне доступно даже и понаехавшим в Москву вчерашним аспирантам.
Ну, банкет как банкет. Один из моих тогдашних оппонентов Владимир Иванович Гусев[121], теперь-то уже более четверти века со мною не здоровающийся, вошел в предание тем, что зубами разгрызал один стеклянный фужер за другим. Сановный член-корреспондент Академии наук Владимир Родионович Щербина[122] время от времени подсказывал, чтобы закуску ему подкладывали поаппетитнее, а напитки подливали подороже. Шармер Ульрих Рихардович Фохт норовил за коленку ухватить случайную аспирантку, неосторожно усевшуюся с ним рядом. Остальные же почтенные члены почтенного совета явно томились, отбывая положенный ритуал. Пока…
Пока вдруг не выяснилось, что в соседнем кабинете гуляют членши Комитета советских женщин[123]. «Хорош бабец», – заглянув туда, сказал один глубокоуважаемый филолог другому – и понеслось! Оба банкета как-то сами собою перемешались, и таких отчаянных, таких половецких плясок, как в тот вечер, я, боюсь, уже никогда больше не увижу. Одна печаль: Валентина Терешкова, заправлявшая советскими женщинами, сразу же незаметно удалилась, как и полагается руководительнице высокого ранга. Что профессоров, конечно, огорчило, когда же это еще удастся пройтись с космонавтом в знойном танго, зато подопечным Валентины Владимировны позволило пуститься во все тяжкие. Или почти во все.
Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя. В девяностые, по случаю уже докторской защиты, никакого загула и близко не было. Тихонько отужинали с оппонентами, книжки друг другу подарили с трогательными надписями – вот и вся недолга. То ли с деньгами было уже не слава богу, то ли, еще скорее, кураж повыветрился.
Защитив в ИМЛИ кандидатскую диссертацию о русском натурализме конца XIX – начала XX века, выпустив однотомник, а затем и трехтомник Петра Дмитриевича Боборыкина, я какое-то время с гордостью числил себя ведущим (да что ведущим – единственным в мире!) специалистом по творчеству этого мало кем читанного писателя.
Пока, годы были еще глухие, не раздался телефонный звонок и меня не попросил о встрече какой-то немец, тоже, оказывается, что-то там раскопавший в драматической жизни и судьбе Пьера Бобо. Так что уселись мы, как сейчас помню, в редакции «Литературной газеты», и гость из ФРГ выложил на стол свою монографию – на чистом немецком языке и толстенную-претолстенную, с бездною, надо думать, новонайденных фактов, смелых открытий и глубоких предположений.
Я этим триумфом германской филологии был, разумеется, сражен, но разговор поддерживаю и, применительно к какой-то повести Петра Дмитриевича замечаю, что она, де, полемична по отношению к «Крейцеровой сонате». Мой собеседник, вообще-то сильный в интеллектуальном пинг-понге, этот ход почему-то пропускает. Ну и ладно. Я пускаюсь в сопоставления нашего общего героя с Лесковым, с Помяловским, и тут ученый немец, безо всякого смущения, говорит, что этих писателей он не читал[124]. Зачем ему, он ведь специалист по Боборыкину.
И мое априорное почтение к западной русистике сильно поубавилось. Мне, я знаю, скажут, что в России тоже было достаточно специалистов, подобных флюсу, и назовут имена европейских и американских историков литературы, отличающихся и фантастической эрудицией, и широтой научного кругозора, Но вот именно что отличающихся – от основной массы гелертеров[125], что, застряв в своей компетенции, не покладая рук трудятся в ней будто в узкой штольне и не то чтобы не умеют, но принципиально, в силу своих научных убеждений не хотят приподнять голову над поверхностью.
Впрочем, антизападническое высокомерие мне явно не к лицу. Поэтому признаю-ка я лучше, что и в российской высшей школе, особенно в результате Болонской прививки[126], сделали сейчас сознательную ставку не на подготовку гуманитариев с общекультурной выучкой, а на производство специалистов, которые знают пусть немногое, зато в пределах своей компетенции знают все.
Наверное, это и правильно, наверное, прогрессивно.
Признанные достижения советской школы художественного перевода и советской детской поэзии обычно объясняют тем, что вода дырочку найдет. Не печатали «взрослые» стихи Генриха Сапгира[127] или прозу Юза Алешковского – вот и стали они, пусть на время, писателями для детей. Рассыпали в 46-м набор первой книги Арсения Тарковского, а он взял да и ушел в восточные переводы, те самые, от которых голова болит.
Талант как река. Если истощается, то по внутренним причинам. А столкнувшись с внешней преградой, не пересыхает, но может сменить русло.
Это всего лишь метафора, конечно, и, конечно же, неточная. Так что скажу по-другому: для сильного писателя – с именем, с судьбою, с амбициями – вынужденный уход со своего пути на боковую тропку, безусловно, драма. Тогда как для жанров, что раньше считались вспомогательными, да и для целых, случалось, ветвей словесности – едва ли не подарок. Сказано ведь про Москву, что пожар способствовал ей много к украшенью.
Поэтому ни слова больше ни про детскую литературу, ни про художественный перевод, то есть ни слова о том, что и без меня известно. Взглянем лучше под этим же углом зрения на историю отечественной филологии. На то, как укрепился и, особенно в послеоотепельные десятилетия, бурно расцвел в ней жанр комментария. Всякого – от реального до текстологического и интертекстуального.
Полномасштабные труды типа «Актуальные проблемы теории литературы» или «Классическое наследие и современность» оставили начальникам или тем, кто в эти начальники рвался. Зачем? Затем, чтобы ни при какой погоде в эти труды не заглядывать. И, брезгливо отстраняясь от всего, что маркировано как идеология, заниматься делом – то есть расшифровывать <нрзб>, прояснять в рукописях темные места, ликовать, что удалось установить отчество одного из фигурантов одного из писем Александра Ивановича Тургенева[128]. Ида, протаскивать, было такое слово, в нонпарельный набор то, что крупным шрифтом было непредставимо. Не забыть ведь: первая на родине публикация пастернаковского «Гамлета» прошла в комментариях будущего академика Вячеслава Всеволодовича Иванова к книге Льва Семеновича Выготского «Психология искусства» (М., 1965).
Да и я помню, как почти полностью привел в одном из примечаний «Слово» («В оный день, когда над миром новым…») Николая Гумилева. Милая молодая женщина, мой редактор, взглянула на меня не без ужаса. Хорошо, я заменил крамольное имя никаким словосочетанием «старый поэт»: вдруг пройдет – не через редактора, конечно, а сквозь цензуру.
И прошло ведь. Как многое тогда проходило – складывающийся помалу массив академических, научно выверенных изданий, пополняя хотя и облегченными, зато комментированными сборниками полузабытых второ– и третьеразрядных писателей, за которые взялись не только профессиональные литературоведы, но и критики, но и, случалось, поэты или прозаики.
И выросла культура филологических комментариев, претендующая на то, что только она-то и есть наука, строгое и точное знание – в отличие как от начальнических глобалок, так и от партизанских вылазок в стиле ярко талантливых, но недисциплинированных Владимира Николаевича Турбина[129] и Георгия Дмитриевича Гачева[130].
И, слава богу, конечно. Но… В одном прибывает, в другом убывает. И не сбросить со счетов, что как раз в те же 60-80-е, когда филология из разреженных концептуальных высот опустилась у нас на землю грешных фактов, филология в Европе, наоборот, от всякой дисциплины отвязавшись, пустилась в продуцирование всё новых и новых кружащих голову концепций и гипотез.
Итог? Комментируя всё, комментируем теперь и эти гипотезы.