Сестра моя, жизнь (сборник) Пастернак Борис
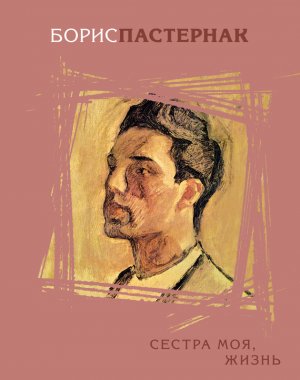
- С тех пор стал над недрами парка сдвигаться
- Суровый, листву леденивший октябрь.
- Зарями ковался конец навигации,
- Спирало гортань, и ломило в локтях.
- Не стало туманов. Забыли про пасмурность.
- Часами смеркалось. Сквозь все вечера
- Открылся в жару, в лихорадке и насморке,
- Больной горизонт — и дворы озирал.
- И стынула кровь. Но, казалось, не стынут
- Пруды, и — казалось, с последних погод
- Не движутся дни, и, казалося — вынут
- Из мира прозрачный, как звук, небосвод.
- И стало видать так далеко, так трудно
- Дышать, и так больно глядеть, и такой
- Покой разлился, и настолько безлюдный,
- Настолько беспамятно звонкий покой!
1916
- Потели стекла двери на балкон.
- Их заслонял заметно-зимний фикус.
- Сиял графин. С недопитым глотком
- Вставали вы, веселая на выказ, —
- Смеркалась даль, — спокойная на вид, —
- И дуло в щели, — праведница ликом, —
- И день сгорал, давно остановив
- Часы и кровь, в мучительно великом
- Просторе долго, без конца горев
- На остриях скворешниц и дерев,
- В осколках тонких ледяных пластинок,
- По пустырям и на ковре в гостиной.
1916
«…В конторе заводов я вел некоторое время военный стол и освобождал целые волости военнообязанных, прикрепленных к заводам и работавшим на оборону.
Зимой заводы сообщались с внешним миром допотопным способом. Почту возили из Казани, расположенной в двухстах пятидесяти верстах, как во время «Капитанской дочки», на тройках. Я один раз проделал этот зимний путь…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»
К стихам из книги «Поверх барьеров» Пастернак относился как к поискам средств выражения и писал родителям:
«…Сейчас во всех сферах творчества нужно писать только этюды, для себя, с технической целью и рядом с этим накоплять такой опыт, который лишен эфемерности и случайности…»
Положительными достижениями стилистики новой книги, по мнению Пастернака, были «объективный тематизм и мгновенная, рисующая движение живописность». Эти качества достигались новаторскими приемами, родственными современной живописи, подчеркнутой яркостью, динамическим смещением, разложением формы.
«…В ноябре или декабре Бобров показал мне книгу Пастернака „Поверх барьеров“, которая была своеобразным ответом на совершающиеся события. Несколько стихотворений, посвященных войне, были искажены цензурой. Остальные в каком-то смысле передавали внутренний смысл разбушевавшихся стихий… В ней все было перевернуто, разбросано, разорвано и некоторые строфы напоминали судорожно сведенные руки. Как поэтическое явление книга со всей отчетливостью выражала его творческий метод, с которым он впоследствии упорно боролся, пока отчасти не вышел из этой борьбы победителем, добившись понятности и относительной простоты. К тому времени, когда писалось „Поверх барьеров“, у него должно было сложиться некоторое поэтическое самосознание, я не скажу полная уверенность в себе…
Книга вышла в канун революции, в начале 17-го года. Во многом она, по своему внутреннему смыслу, созвучна ей. Поэт часто оказывается тем, что Тютчев назвал «органа глас глухонемой»[26]. Знал ли он об этом? Может быть, иначе он не написал бы своего «Петра»…»
К.Г. Локс.
Из «Повести об одном десятилетии»
Зимнее небо
- Цельною льдиной из дымности вынут
- Ставший с неделю звездный поток.
- Клуб конькобежцев вверху опрокинут.
- Чокается со звонкою ночью каток.
- Реже-реже-ре-же ступай, конькобежец,
- В беге ссекая шаг свысока.
- На повороте созвездьем врежется
- В небо Норвегии скрежет конька.
- Воздух железом к ночи прикован,
- О, конькобежцы! Там — все равно,
- Что, как орбиты змеи очковой,
- Ночь на земле, и как кость домино;
- Что языком обомлевшей лягавой
- Месяц к скобе примерзает; что рты,
- Как у фальшивомонетчиков, — лавой
- Дух захватившего льда налиты[27].
1915
Душа
- О вольноотпущенница, если вспомнится,
- О, если забудется, пленница лет.
- По мнению многих, душа и паломница,
- По-моему — тень без особых примет.
- О, — в камне стиха, даже если ты канула,
- Утопленница, даже если — в пыли,
- Ты бьешься, как билась княжна Тараканова,
- Когда февралем залило равелин[28].
- О внедренная! Хлопоча об амнистии,
- Кляня времена, как клянут сторожей,
- Стучатся опавшие годы, как листья,
- В садовую изгородь календарей.
1915
Раскованный голос
- В шалящую полночью площадь,
- В сплошавшую белую бездну
- Незримому ими — «Извозчик!»
- Низринуть с подъезда. С подъезда
- Столкнуть в воспаленную полночь
- И слышать сквозь темные спаи
- Ее поцелуев — «На помощь!»
- Мой голос зовет, утопая.
- И видеть, как в единоборстве
- С метелью, с лютейшей из лютен,
- Он — этот мой голос — на черствой
- Узде выплывает из мути…
1915
- Я понял жизни цель и чту
- Ту цель, как цель, и эта цель —
- Признать, что мне невмоготу
- Мириться с тем, что есть апрель.
- Что дни — кузнечные мехи
- И что растекся полосой
- От ели к ели, от ольхи
- К ольхе, железный и косой,
- И жидкий, и в снега дорог,
- Как уголь в пальцы кузнеца,
- С шипеньем впившийся поток
- Зари без края и конца.
- Что в берковец[29] церковный зык,
- Что взят звонарь в весовщики,
- Что от капели, от слезы
- И от поста болят виски.
1915
Стрижи
- Нет сил никаких у вечерних стрижей
- Сдержать голубую прохладу.
- Она прорвалась из горластых грудей
- И льется, и нет с нею сладу.
- И нет у вечерних стрижей ничего,
- Что б там, наверху, задержало
- Витийственный возглас их: о торжество,
- Смотрите, земля убежала!
- Как белым ключом закипая в котле,
- Уходит бранчливая влага, —
- Смотрите, смотрите — нет места земле
- От края небес до оврага.
1915
После дождя
- За окнами давка, толпится листва,
- И палое небо с дорог не подобрано.
- Все стихло. Но что это было сперва!
- Теперь разговор уж не тот и по-доброму.
- Сначала всё опрометью, вразноряд
- Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
- И попранным парком из ливня — под град,
- Потом от сараев — к террасе бревенчатой.
- Теперь не надышишься крепью густой.
- А то, что у тополя жилы полопались, —
- Так воздух садовый, как соды настой,
- Шипучкой играет от горечи тополя.
- Со стекол балконных, как с бедер и спин
- Озябших купальщиц, — ручьями испарина.
- Сверкает клубники мороженый клин,
- И градинки стелются солью поваренной.
- Вот луч, покатясь с паутины, залег
- В крапиве, но кажется, это не надолго,
- И миг недалек, как его уголек
- В кустах разожжется и выдует радугу.
1915, 1928
Импровизация
- Я клавишей стаю кормил с руки
- Под хлопанье крыльев, плеск и клёкот.
- Я вытянул руки, я встал на носки,
- Рукав завернулся, ночь терлась о локоть.
- И было темно. И это был пруд
- И волны. — И птиц из породы люблю вас,
- Казалось, скорей умертвят, чем умрут
- Крикливые, черные, крепкие клювы.
- И это был пруд. И было темно.
- Пылали кубышки с полуночным дегтем.
- И было волною обглодано дно
- У лодки. И грызлися птицы у локтя.
- И ночь полоскалась в гортанях запруд.
- Казалось, покамест птенец не накормлен,
- И самки скорей умертвят, чем умрут
- Рулады в крикливом, искривленном горле.
1915
Из поэмы
- Я тоже любил, и дыханье
- Бессонницы раннею ранью
- Из парка спускалось в овраг, и впотьмах
- Выпархивало на архипелаг
- Полян, утопавших в лохматом тумане,
- В полыни и мяте и перепелах.
- И тут тяжелел обожанья размах,
- Хмелел, как крыло, обожженное дробью,
- И бухался в воздух, и падал в ознобе,
- И располагался росой на полях.
- А там и рассвет занимался. До двух
- Несметного неба мигали богатства,
- Но вот петухи начинали пугаться
- Потемок и силились скрыть перепуг,
- Но в глотках рвались холостые фугасы,
- И страх фистулой голосил от потуг,
- И гасли стожары, и, как по заказу,
- С лицом пучеглазого свечегаса
- Показывался на опушке пастух.
- Я тоже любил, и она пока еще
- Жива, может статься. Время пройдет,
- И что-то большое, как осень, однажды
- (Не завтра, быть может, так позже когда-нибудь)
- Зажжется над жизнью, как зарево, сжалившись
- Над чащей. Над глупостью луж, изнывающих
- По-жабьи от жажды. Над заячьей дрожью
- Лужаек, с ушами ушитых в рогожу
- Листвы прошлогодней. Над шумом, похожим
- На ложный прибой прожитого. Я тоже
- Любил, и я знаю: как мокрые пожни
- От века положены году в подножье,
- Так каждому сердцу кладется любовью
- Знобящая новость миров в изголовье.
- Я тоже любил, и она жива еще.
- Все так же, катясь в ту начальную рань,
- Стоят времена, исчезая за краешком
- Мгновенья. Все так же тонка эта грань.
- По-прежнему давнее кажется давешним.
- По-прежнему схлынувши с лиц очевидцев,
- Безумствует быль, притворяясь незнающей,
- Что больше она уж у нас не жилица.
- И мыслимо это? Так значит, и впрямь
- Всю жизнь удаляется, а не длится
- Любовь, удивленья мгновенная дань?
1916, 1928
«…Когда в марте 1917 года на заводах узнали о разразившейся в Петербурге революции, я поехал в Москву…
Из Тихих гор гнали в кибитке, крытом возке на полозьях, вечер, ночь напролет и часть следующего дня. Замотанный в три азяма и утопая в сене, я грузным кулем перекатывался на дне саней, лишенный свободы движений. Я дремал, клевал носом, засыпал и просыпался и закрывал и открывал глаза.
Я видел лесную дорогу, звезды морозной ночи. Высокие сугробы горой горбили узкую проезжую стежку. Часто возок крышей наезжал на нижние ветки нависших пихт, осыпал с них иней и с шорохом проволакивался под ними, таща их на себе. Белизна снежной пелены отражала мерцание звезд и освещала путь. Светящийся снежный покров пугал в глубине, внутри чащи, как вставленная в лес горящая свеча.
Три лошади, запряженные гусем, одна другой в затылок, мчали возок, то одна, то другая сбиваясь в сторону и выходя из ряда. Ямщик поминутно выравнивал их и, когда кибитка клонилась набок, соскакивал с нее, бежал рядом и плечом подпирал ее, чтобы она не упала…
Ямской стан в лесу, совершенно, как в сказках о разбойниках. Огонек в избе. Шумит самовар, и тикают часы. Пока довезший кибитку ямщик разоблачается, отходит от мороза и негромко, по-ночному, во внимание к спящим за перегородкой, разговаривает с собирающей ему поесть становихой, новый утирает губы, застегивает армяк и выходит на мороз закладывать свежую тройку.
И опять гон во всю, свист полозьев и дремота и сон…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»
Локс встретил на улице сияющего Пастернака в первые дни его возвращения в Москву.
«…Он был счастлив, он был доволен. „Подумайте, — сказал он мне при первой встрече, — когда море крови и грязи начинает выделять свет…“ Тут красноречивый жест довершил его восторг. Тотчас было приступлено к делу и задуман роман из времени Великой Французской революции. Помню ряд книг, взгромоздившихся на его столе, взятых из университетской библиотеки, из Румянцевской, не знаю еще откуда. Огромные тома с планами Парижа той эпохи, где изображались не только улицы, но и дома на этих улицах, книги с подробностями быта, нравов, особенностей времени — все это требовало колоссальной работы. Понятно, что замысел скоро оборвался. Воплотилось только несколько сцен в драматической форме, которые потом были напечатаны в одной из газет. Однако он читал мне начало одной главы. Ночь, человек сидит за столом и читает Библию. Это все, что у меня осталось в памяти. Характерно тем не менее, что прежде всего ему пришла в голову Французская революция. Казалось, было бы проще идти по прямым следам, писать о русской революции, но правильный инстинкт художника подсказывал ему верное решение. Роман об эпохе можно писать после того, как она закончилась…»
К.Г. Локс.
Из «Повести об одном десятилетии»
Приехав в Москву, Пастернак снова снял ту маленькую комнату в Лебяжьем переулке с видом на Кремль, воспоминание о которой связывалось у него с творчески счастливым 1913-м годом. Таким же, как он надеялся, будет и теперешний, 1917-й. Он возобновил свои отношения с друзьями. Вскоре по приезде к нему пришла в гости Елена Виноград. Она была двоюродной сестрой друга его детства Александра Штиха, они были знакомы уже много лет.
Из суеверья
- Коробка с красным померанцем
- Моя каморка.
- О, не об номера ж мараться[30]
- По гроб, до морга!
- Я поселился здесь вторично
- Из суеверья.
- Обоев цвет, как дуб, коричнев,
- И — пенье двери.
- Из рук не выпускал защелки,
- Ты вырывалась,
- И чуб касался чудной челки
- И губы — фиалок.
- О неженка, во имя прежних
- И в этот раз твой
- Наряд щебечет, как подснежник
- Апрелю: «Здравствуй!»
- Грех думать — ты не из весталок:
- Вошла со стулом,
- Как с полки, жизнь мою достала
- И пыль обдула.
1917
Свою маленькую комнату Пастернак назвал спичечным коробком с фирменной этикеткой того времени — изображением огненно-красного померанца, то есть горького апельсина. Елена Виноград навсегда запомнила то платье, в котором тогда была. Она признавалась:
«…Я подошла к двери, собираясь выйти, но он держал дверь и улыбался, так сблизились чуб и челка. А „ты вырывалась“ сказано слишком сильно, ведь Борис Леонидович по сути своей был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказала с укоризной: „Боря“, и дверь тут же открылась…»
Елене Виноград было 20 лет, она училась на Высших женских курсах. Недавно она потеряла на войне жениха. Желание утешить ее горе толкало Пастернака к ней. Она очень любила лес и природу. Их совместные прогулки описаны в стихах Пастернака, давших начало книге «Сестра моя жизнь».
Воробьевы горы
- Грудь под поцелуи, как под рукомойник!
- Ведь не век, не сряду, лето бьет ключом.
- Ведь не ночь за ночью низкий рев гармоник
- Подымаем с пыли, топчем и влечем.
- Я слыхал про старость. Страшны прорицанья!
- Рук к звездам не вскинет ни один бурун.
- Говорят — не веришь. На лугах лица нет,
- У прудов нет сердца. Бога нет в бору.
- Расколышь же душу! Всю сегодня выпень.
- Это полдень мира. Где глаза твои?
- Видишь, в высях мысли сбились в белый кипень
- Дятлов, туч и шишек, жара и хвои.
- Здесь пресеклись рельсы городских трамваев.
- Дальше служат сосны, дальше им нельзя.
- Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,
- Разбежится просек, по траве скользя.
- Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,
- Просит роща верить: мир всегда таков.
- Так задуман чащей, так внушен поляне,
- Так на нас, на ситцы пролит с облаков.
1917
«…Множество встрепенувшихся и насторожившихся душ останавливали друг друга, стекались, толпились и, как в старину сказали бы, „соборне“, думали вслух. Люди из народа отводили душу и беседовали о самом важном, о том, как и для чего жить и какими способами устроить единственное мыслимое и достойное существование.
Заразительная всеобщность их подъема стирала границу между человеком и природой. В это знаменитое лето 1917 года, в промежутке между двумя революционными сроками, казалось, вместе с людьми митинговали и ораторствовали дороги, деревья и звезды. Воздух из конца в конец был охвачен горячим тысячеверстным вдохновением и казался личностью с именем, казался ясновидящим и одушевленным…
Это ощущение повседневности, на каждом шагу наблюдаемой и в то же время становящейся историей, это чувство вечности, сошедшей на землю и всюду попадающейся на глаза, это сказочное настроение попытался я передать в тогда написанной по личному поводу книге лирики «Сестра моя жизнь».
Борис Пастернак.
Из фрагмента «Сестра моя жизнь»
Весенний дождь
- Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
- Лак экипажей, деревьев трепет.
- Под луною на выкате гуськом скрипачи
- Пробираются к театру. Граждане, в цепи!
- Лужи на камне. Как полное слез
- Горло — глубокие розы, в жгучих
- Влажных алмазах. Мокрый нахлест
- Счастья — на них, на ресницах, на тучах.
- Впервые луна эти цепи и трепет
- Платьев и власть восхищенных уст
- Гипсовою эпопеею лепит,
- Лепит никем не лепленный бюст.
- В чьем это сердце вся кровь его быстро
- Хлынула к славе, схлынув со щек?
- Вон она бьется: руки министра
- Рты и аорты сжали в пучок.
- Это не ночь, не дождь и не хором
- Рвущееся: «Керенский ура!»,
- Это слепящий выход на форум
- Из катакомб, безысходных вчера.
- Это не розы, не рты, не ропот
- Толп, это здесь, пред театром — прибой
- Заколебавшейся ночи Европы,
- Гордой на наших асфальтах собой.
1917
Свидетели многочисленных уличных сборищ, Пастернак и Елена Виноград как-то оказались вечером на Театральной площади в день приезда в Москву военного министра А.Ф. Керенского. Его выступление в Большом театре перелилось в приветственный митинг на площади. Министра в открытом автомобиле засыпали красными розами. В стихотворении, посвященном митингу 26 мая 1917 года, Пастернак передал поразившее его чувство на глазах рождающейся истории, — «чувство вечности, сошедшей на землю».
Плачущий сад
- Ужасный! — Капнет и вслушается:
- Всё он ли один на свете
- Мнет ветку в окне, как кружевце,
- Или есть свидетель.
- Но давится внятно от тягости
- Отеков — земля ноздревая,
- И слышно: далеко, как в августе,
- Полуночь в полях назревает.
- Ни звука. И нет соглядатаев.
- В пустынности удостоверясь,
- Берется за старое — скатывается
- По кровле, за желоб и через.
- К губам поднесу и прислушаюсь:
- Всё я ли один на свете, —
- Готовый навзрыд при случае, —
- Или есть свидетель.
- Но тишь. И листок не шелохнется.
- Ни признака зги, кроме жутких
- Глотков и плескания в шлепанцах,
- И вздохов и слез в промежутке.
1917
Девочка
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.
- Из сада, с качелей, с бухты-барахты
- Вбегает ветка в трюмо!
- Огромная, близкая, с каплей смарагда[31]
- На кончике кисти прямой.
- Сад застлан, пропал за ее беспорядком,
- За бьющей в лицо кутерьмой.
- Родная, громадная, с сад, а характером —
- Сестра! Второе трюмо!
- Но вот эту ветку вносят в рюмке
- И ставят к раме трюмо.
- Кто это, — гадает, — глаза мне рюмит[32]
- Тюремной людской дремой?
1917
- Ты в ветре, веткой пробующем,
- Не время ль птицам петь,
- Намокшая воробышком
- Сиреневая ветвь!
- У капель — тяжесть запонок,
- И сад слепит, как плес,
- Обрызганный, закапанный
- Милльоном синих слез.
- Моей тоскою вынянчен
- И от тебя в шипах,
- Он ожил ночью нынешней,
- Забормотал, запах.
- Всю ночь в окошко торкался,
- И ставень дребезжал.
- Вдруг дух сырой прогорклости
- По платью пробежал.
- Разбужен чудным перечнем
- Тех прозвищ и времен,
- Обводит день теперешний
- Глазами анемон.
1917
- Душистою веткою машучи,
- Впивая впотьмах это благо,
- Бежала на чашечку с чашечки
- Грозой одуренная влага.
- На чашечку с чашечки скатываясь,
- Скользнула по двум, — и в обеих
- Огромною каплей агатовою
- Повисла, сверкает, робеет.
- Пусть ветер, по таволге[33] веющий,
- Ту капельку мучит и плющит.
- Цела, не дробится, — их две еще
- Целующихся и пьющих.
- Смеются и вырваться силятся
- И выпрямиться, как прежде,
- Да капле из рылец не вылиться
- И не разлучатся, хоть режьте.
1917
В июне 1917 года Елена Виноград уехала в Саратовскую губернию составлять списки для выборов в органы местного самоуправления — земства. «Уезжая, она оставила вместо себя заместительницу», — написал Пастернак объяснение к стихотворению, посвященному фотографии смеющейся Елены.
Заместительница
- Я живу с твоей карточкой, с той, что хохочет,
- У которой суставы в запястьях хрустят,
- Той, что пальцы ломает и бросить не хочет,
- У которой гостят и гостят и грустят.
- Что от треска колод, от бравады Ракочи[34],
- От стекляшек в гостиной, от стекла и гостей
- По пианино в огне пробежится и вскочит —
- От розеток, костяшек, и роз, и костей.
- Чтоб прическу ослабив, и чайный и шалый,
- Зачаженный бутон заколов за кушак,
- Провальсировать к славе, шутя, полушалок
- Закусивши, как муку, и еле дыша.
- Чтобы комкая корку рукой мандарина
- Холодящие дольки глотать, торопясь
- В опоясанный люстрой, позади, за гардиной,
- Зал, испариной вальса запахший опять.
1917
Через некоторое время Пастернак поехал к Елене и провел в Романовке, где она была в то время, четыре дня, — «из четырех громадных летних дней сложило сердце эту память правде», — писал он об этой поездке позже, вспоминая «из всех картин, что память сберегла», их ночную прогулку по степи. Этой прогулке посвящено стихотворение «Степь». Ночной туман, скрывавший небо и землю, постепенно рассеивался, проступали отдельные предметы, мир создавался заново у них на глазах. Вспоминались первые слова Книги Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю».
Степь
- Как были те выходы в тишь хороши!
- Безбрежная степь, как марина.
- Вздыхает ковыль, шуршат мураши,
- И плавает плач комариный.
- Стога с облаками построились в цепь
- И гаснут, вулкан на вулкане.
- Примолкла и взмокла безбрежная степь,
- Колеблет, относит, толкает.
- Туман отовсюду нас морем обстиг,
- В волчцах волочась за чулками,
- И чудно нам степью, как морем, брести
- Колеблет, относит, толкает.
- Не стог ли в тумане? Кто поймет?
- Не наш ли омет? Доходим. — Он.
- — Нашли! Он самый и есть. — Омет,
- Туман и степь с четырех сторон.
- И Млечный Путь стороной ведет
- На Керчь, как шлях, скотом пропылен.
- Зайти за хаты, и дух займет:
- Открыт, открыт с четырех сторон.
- Туман снотворен, ковыль, как мед,
- Ковыль всем Млечным Путем рассорён.
- Туман разойдется, и ночь обоймет
- Омет и степь с четырех сторон.
- Тенистая полночь стоит у пути,
- На шлях навалилась звездами,
- И через дорогу за тын перейти
- Нельзя, не топча мирозданья.
- Когда еще звезды так низко росли,
- И полночь в бурьян окунало,
- Пылал и пугался намокший муслин,
- Льнул, жался и жаждал финала?
- Пусть степь нас рассудит и ночь разрешит,
- Когда, когда не: — В Начале
- Плыл Плач Комариный, Ползли Мураши,
- Волчцы по Чулкам Торчали?
- Закрой их, любимая! Запорошит!
- Вся степь как до грехопаденья:
- Вся — миром объята, вся — как парашют,
- Вся — дыбящееся виденье!
1917
Душная ночь
- Накрапывало, — но не гнулись
- И травы в грозовом мешке.
- Лишь пыль глотала дождь в пилюлях,
- Железо в тихом порошке.
- Селенье не ждало целенья,
- Был мак, как обморок глубок,
- И рожь горела в воспаленьи,
- И в лихорадке бредил Бог.
- В осиротелой и бессонной,
- Сырой, всемирной широте
- С постов спасались бегством стоны,
- Но вихрь, зарывшись, коротел.
- За ними в бегстве слепли следом
- Косые капли. У плетня
- Меж мокрых веток с ветром бледным
- Шел спор. Я замер. Про меня!
- Я чувствовал, он будет вечен,
- Ужасный, говорящий сад.
- Еще я с улицы за речью
- Кустов и ставней — не замечен;
- Заметят — некуда назад:
- Навек, навек заговорят.
1917
Еще более душный рассвет
- Все утро голубь ворковал
- У вас в окне.
- На желобах,
- Как рукава сырых рубах,
- Мертвели ветки.
- Накрапывало. Налегке
- Шли пыльным рынком тучи,
- Тоску на рыночном лотке,
- Боюсь, мою
- Баюча.
- Я умолял их перестать.
- Казалось, — перестанут.
- Рассвет был сер, как спор в кустах,
- Как говор арестантов.
- Я умолял приблизить час,
- Когда за окнами у вас
- Нагорным ледником
- Бушует умывальный таз
- И песни колотой куски,
- Жар наспанной щеки и лоб
- В стекло горячее, как лед,
- На подзеркальник льет.
- Но высь за говором под стяг
- Идущих туч
- Не слышала мольбы
- В запорошенной тишине,
- Намокшей, как шинель,
- Как пыльный отзвук молотьбы,
- Как громкий спор в кустах.
- Я их просил —
- Не мучьте!
- Не спится.
- Но — моросило, и топчась
- Шли пыльным рынком тучи,
- Как рекруты, за хутор, поутру.
- Брели не час, не век,
- Как пленные австрийцы,
- Как тихий хрип,
- Как хрип:
- «Испить,
- Сестрица».
1917
- Дик прием был, дик приход,
- Еле ноги уволок.
- Как воды набрала в рот,
- Взор уперла в потолок.
- Ты молчала. Ни за кем
- Не рвался с такой тугой.
- Если губы на замке,
- Вешай с улицы другой.
- Нет, не на дверь, не в пробой,
- Если на сердце запрет,
- Но на весь одной тобой
- Немутимо белый свет.
- Чтобы знал, как балки брус
- По-над лбом проволоку,
- Что в глаза твои упрусь,
- В непрорубную тоску.
- Чтоб бежал с землей знакомств,
- Видев издали, с пути
- Гарь на солнце под замком,
- Гниль на веснах взаперти.
- Не вводи души в обман,
- Оглуши, завесь, забей.
- Пропитала, как туман,
- Груду белых отрубей.
- Если душным полднем желт
- Мышью пахнущий овин,
- Обличи, скажи, что лжет
- Лжесвидетельство любви.
1917
- Попытка душу разлучить
- С тобой, как жалоба смычка,
- Еще мучительно звучит
- В названьях Ржакса и Мучкап[35].
- Я их, как будто это ты,
- Как будто это ты сама,
- Люблю всей силою тщеты
- До помрачения ума.
- Как ночь, уставшую сиять,
- Как то, что в астме — кисея,
- Как то, что даже антресоль
- При виде плеч твоих трясло.
- Чей шопот реял на брезгу[36]?
- О, мой ли? Нет, душою — твой,
- Он улетучивался с губ
- Воздушней капли спиртовой.
- Как в неге прояснялась мысль!
- Безукоризненно. Как стон.
- Как пеной, в полночь, с трех сторон
- Внезапно озаренный мыс.
1917
В то лето Пастернак пережил «чудо становления книги», как он называл впоследствии то состояние поэтического подъема, когда одно стихотворение рождалось непосредственно вслед за другим как развитие мелодии, слагаясь в циклы, или главы, из которых составлялась книга. Стихов было написано гораздо больше, чем вошло в книгу, они подвергались строгому отбору. Пастернак никогда не считал отдельное стихотворение чем-то ценным, в его глазах смысл представляла собой только книга стихов, создающая особый мир, со своим воздухом, небом и землей. Стихотворная книга принципиально отличается от сборника, включающего написанные по разным поводам вещи, лишенные единства взгляда, чувства и дыхания.
«…Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести — и больше ничего… Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян. Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала виды, — и вот она выросла и — такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.
А недавно думали, что сцены в книге — инсценировки. Это — заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.
Неумение найти и сказать правду — недостаток, который никаким уменьем говорить неправду не покрыть. Книга— живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены — это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть…
Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растет, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись…»
Борис Пастернак.
Из статьи «Несколько положений», 1918
Сложа весла
- Лодка колотится в сонной груди,
- Ивы нависли, целуют в ключицы,
- В локти, в уключины — о, погоди,
- Это ведь может со всяким случиться!
- Этим ведь в песне тешатся все.
- Это ведь значит — пепел сиреневый,
- Роскошь крошеной ромашки в росе,
- Губы и губы на звезды выменивать!
- Это ведь значит — обнять небосвод,
- Руки сплести вкруг Геракла громадного,
- Это ведь значит — века напролет
- Ночи на щелканье славок проматывать!
1917
Не трогать
- «Не трогать, свеже выкрашен», —
- Душа не береглась,
- И память — в пятнах икр и щек,
- И рук, и губ, и глаз.
- Я больше всех удач и бед
- За то тебя любил,
- Что пожелтелый белый свет
- С тобой — белей белил.
- И мгла моя, мой друг, божусь,
- Он станет как-нибудь
- Белей, чем бред, чем абажур,
- Чем белый бинт на лбу!
1917
Подражатели
- Пекло, и берег был высок.
- С подплывшей лодки цепь упала
- Змеей гремучею — в песок,
- Гремучей ржавчиной — в купаву.
- И вышли двое. Под обрыв
- Хотелось крикнуть им: «Простите,
- Но бросьтесь, будьте так добры,
- Не врозь, так в реку, как хотите.
- Вы верны лучшим образцам.
- Конечно, ищущий обрящет.
- Но… бросьте лодкою бряцать:
- В траве терзается образчик».
1919
- Ты так играла эту роль!
- Я забывал, что сам — суфлер!
- Что будешь петь и во второй,
- Кто б первой не совлек.
- Вдоль облаков шла лодка. Вдоль
- Лугами кошеных кормов.
- Ты так играла эту роль,
- Как лепет шлюз — кормой!
- И низко рея на руле
- Касаткой об одном крыле,
- Ты так! — ты лучше всех ролей
- Играла эту роль.
1917
Как у них
- Лицо лазури пышет над лицом
- Недышащей любимицы реки.
- Подымется, шелохнется ли сом, —
- Оглушены. Не слышат. Далеки.
- Очам в снопах, как кровлям, тяжело.
- Как угли, блещут оба очага.
- Лицо лазури пышет над челом
- Недышащей подруги в бочагах,
- Недышащей питомицы осок.
- То ветер смех люцерны вдоль высот,
- Как поцелуй воздушный, пронесет,
- То княженикой с топи угощен,
- Ползет и губы пачкает хвощом
- И треплет речку веткой по щеке,
- То киснет и хмелеет в тростнике.
- У окуня ли екнут плавники, —
- Бездонный день — огромен и пунцов,
- Поднос Шелони[37] — черен и свинцов.
- Не свесть концов и не поднять руки…
- Лицо лазури пышет над лицом
- Недышащей любимицы реки.
1917
Пастернак старался разбить печальную убежденность Елены в том, «что чересчур хорошего в жизни не бывает» или «что всегда все знаешь наперед», — как она писала ему, — научить ее верить в достижимость счастья. Но ни стихи, ни письма Пастернака не утешали ее, после гибели жениха она не могла найти для себя место в жизни и писала Борису:
«…Живет, смотрит и говорит едва одна треть моя, две трети не видят и не смотрят, всегда в другом месте…
В Романовке с Вами я яснее всего заметила это: я мелкой была, я была одной третью, старалась вызвать остальную себя — и не могла…
Вы пишете о будущем… для нас с Вами нет будущего — нас разъединяет не человек, не любовь, не наша воля, — нас разъединяет судьба. А судьба родственна природе и стихии и ей я подчиняюсь без жалоб.
На земле этой нет Сережи. Значит от земли этой я брать ничего не стану. Буду ждать другой земли, где будет он, и там, начав жизнь несломанной, я стану искать счастья…
Я несправедливо отношусь к Вам — это верно. Мне моя боль кажется больнее Вашей — это несправедливо, но я чувствую, что я права. Вы неизмеримо выше меня. Когда Вы страдаете, с Вами страдает и природа, она не покидает Вас, также как и жизнь, и смысл, Бог. Для меня же жизнь и природа в это время не существуют. Они где-то далеко, молчат и мертвы…»
- Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе
- Расшиблась весенним дождем обо всех,
- Но люди в брелоках высоко брюзгливы
- И вежливо жалят, как змеи в овсе.
- У старших на это свои есть резоны.
- Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
- Что в грозу лиловы глаза и газоны
- И пахнет сырой резедой горизонт.
- Что в мае, когда поездов расписанье
- Камышинской веткой[38] читаешь в купе,
- Оно грандиозней Святого писанья,
- И черных от пыли и бурь канапе.
- Что только нарвется, разлаявшись, тормоз,
- На мирных сельчан в захолустном вине,
- С матрацев глядят, не моя ли платформа,
- И солнце, садясь, соболезнует мне.
- И в третий плеснув, уплывает звоночек
- Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
- Под шторку несет обгорающей ночью,
- И рушится степь со ступенек к звезде.
- Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
- И фата-морганой любимая спит
- Тем часом, как сердце, плеща по площадкам,
- Вагонными дверцами сыплет в степи.
1917
Через некоторое время Пастернак снова поехал к Елене. Начинался сентябрь. Теперь она жила в уездном городе Балашове. Елена Александровна до конца жизни вспоминала того медника около дома, где она жила, и юродивого на базаре, которых упоминал Пастернак в своем стихотворении.
Балашов
- По будням медник подле вас
- Клепал, лудил, паял,
- А впрочем — масла подливал
- В огонь, как пай к паям.
- И без того душило грудь,
- И песнь небес: «Твоя, твоя!»
- И без того лилась в жару
- В вагон, на саквояж.
- Сквозь дождик сеялся хорал
- На гроб и в шляпы молокан,
- А впрочем — ельник подбирал
- К прощальным облакам.
- И без того взошел, зашел
- В больной душе, щемя, мечась,
- Большой, как солнце, Балашов
- В осенний ранний час.
- Лазурью июльскою облит,
- Базар синел и дребезжал.
- Юродствующий инвалид
- Пиле, гундося, подражал.
- Мой друг, ты спросишь, кто велит,
- Чтоб жглась юродивого речь?
- В природе лип, в природе плит,
- В природе лета было жечь.
1917
Мой друг, ты спросишь, кто велит
Чтоб жглась юродивого речь?
- Давай ронять слова,
- Как сад — янтарь и цедру,
- Рассеянно и щедро,
- Едва, едва, едва.
- Не надо толковать,
- Зачем так церемонно
- Мареной и лимоном
- Обрызнута листва.
- Кто иглы заслезил
- И хлынул через жерди
- На ноты к этажерке
- Сквозь шлюзы жалюзи.
- Кто коврик за дверьми
- Рябиной иссурьмил,
- Рядном сквозных, красивых
- Трепещущих курсивов.
- Ты спросишь, кто велит,
- Чтоб август был велик,
- Кому ничто не мелко,
- Кто погружен в отделку
- Кленового листа
- И с дней экклезиаста[39]
- Не покидал поста
- За теской алебастра?
- Ты спросишь, кто велит,
- Чтоб губы астр и далий
- Сентябрьские страдали?
- Чтоб мелкий лист ракит
- С седых кариатид
- Слетал на сырость плит
- Осенних госпиталей?
- Ты спросишь, кто велит?
- — Всесильный Бог деталей
- Всесильный Бог любви
- Ягайлов и Ядвиг[40].
- Не знаю, решена ль
- Загадка зги загробной,
- Но жизнь, как тишина
- Осенняя — подробна.
1917
- Весна была просто тобой,
- И лето — с грехом пополам,
- Но осень, но этот позор голубой
- Обоев, и войлок, и хлам!
- Разбитую клячу ведут на махан,
- И ноздри с коротким дыханьем
- Заслушались мокрой ромашки и мха,
- А то и конины в духане.
- В прозрачность заплаканных дней целиком
- Губами и глаз полыханьем
- Впиваешься, как в помутнелый флакон
- С невыдохшимися духами.
- Не спорить, а спать. Не оспаривать,
- А спать. Не распахивать наспех
- Окна, где в беспамятных заревах
- Июль, разгораясь, как яспис[41],
- Расплавливал стекла и спаривал
- Тех самых пунцовых стрекоз,
- Которые нынче на брачных
- Брусах — мертвей и прозрачней
- Осыпавшихся папирос.
- Как в сумерки сонно и зябко
- Окошко! Сухой купорос[42].
- На донышке склянки — козявка
- И гильзы задохшихся ос.
- Как с севера дует! Как щупло
- Нахохлилась стужа! О вихрь,
- Общупай все глуби и дупла,
- Найди мою песню в живых!
1917
Послесловье
- Нет, не я вам печаль причинил.
- Я не стоил забвения родины.
- Это солнце горело на каплях чернил,
- Как в кистях запыленной смородины.
- И в крови моих мыслей и писем
- Завелась кошениль.
- Этот пурпур червца от меня независим.
- Нет, не я вам печаль причинил.
- Это вечер из пыли лепился и, пышучи,
- Целовал вас, задохшися в охре пыльцой.
- Это тени вам щупали пульс. Это, вышедши
- За плетень, вы полям подставляли лицо
- И пылали, плывя, по олифе калиток,
- Полумраком, золою и маком залитых.
- Это — круглое лето, горев в ярлыках
- По прудам, как багаж солнцепеком заляпанных,
- Сургучом опечатало грудь бурлака
- И сожгло ваши платья и шляпы.
- Это ваши ресницы, слипались от яркости,
- Это диск одичалый, рога истесав
- Об ограды, бодаясь, крушил палисад.
- Это — запад, карбункулом вам в волоса
- Залетев и гудя, угасал в полчаса,
- Осыпая багрянец с малины и бархатцев.
- Нет, не я, это — вы, это ваша краса.
1917
- Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
- — Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
- А пока не разбудят, любимую трогать
- Так, как мне, не дано никому.
- Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
- Трогал так, как трагедией трогают зал.
- Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
- Лишь потом разражалась гроза.
- Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья,
- Звезды долго горлом текут в пищевод,
- Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
- Осушая по капле ночной небосвод.
1917
27 октября 1917 года в Москве было установлено военное положение, и в воскресенье 29-го числа началась орудийная пальба. На улицах стали строить баррикады и рыть окопы. Такой окоп был вырыт и в Сивцевом Вражке, недалеко от дома, где снимал комнату Борис Пастернак. Его брат Александр в своих воспоминаниях описал увиденные из окон дома на Волхонке отряды юнкеров, которые избрали себе укрытием парапеты сквера у храма Христа Спасителя. Борис успел прийти на Волхонку в момент некоторого затишья и застрял там на три дня. Дом простреливался с двух сторон. Через стекла и дерево рам пробивались отдельные пули.
«…От невообразимого шума и гама, в который вмешивался треск пулемета и густой бас канонады — мы сразу оглохли, будто пробкой заткнуло уши. Долго выстоять было трудно, хотя страха я не ощутил никакого: стрельба шла перекидным огнем через двор; но общая картина звукового пейзажа была такова, что больно было ушам и голове; визг металла, форменным образом режущего воздух, был высок и свистящ — невозможно было находиться в этом аду…
Так длилось долго, казалось — вечность! Выходить на улицу нельзя было и думать. Телефон молчал, лампочки не горели и не светили, а только изредка вдруг самоосвещались красным полусветом, дрожа и только на доли минуты…»
А.Л. Пастернак.
Воспоминания
Но когда на третий день вдруг прекратился обстрел, тишина показалась еще более неестественной и страшной и так действовала на нервы, что страшно было ее нарушить разговором. Борис подошел к пианино, но тотчас отошел прочь, увидев какой ужас его намерение вызвало в брате. Он вскоре ушел к себе.
«…В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушия, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии… При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную пальбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошаньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы…»
Борис Пастернак.
Из повести «Охранная грамота»
Вдохновение
- По заборам бегут амбразуры,
- Образуются бреши в стене,
- Когда ночь оглашается фурой
- Повестей, неизвестных весне.
- Без клещей приближенье фургона
- Вырывает из ниш костыли
- Только гулом свершенных прогонов,
- Подымающих пыль издали.
- Этот грохот им слышен впервые.
- Завтра, завтра понять я вам дам,
- Как рвались из ворот мостовые,
- Вылетая по жарким следам,
- Как в российскую хвойную скорбкость
- Скипидарной, как утро, струи
- Погружали постройки свой корпус
- И лицо окунал конвоир.
- О, теперь и от лип не в секрете:
- Город пуст по зарям оттого,
- Что последний из смертных в карете
- Под стихом и при нем часовой.
- В то же утро, ушам не поверя,
- Протереть не успевши очей,
- Сколько бедных, истерзанных перьев
- Рвется к окнам из рук рифмачей!
1921
В последнем четверостишии речь идет о чтении утренних газет, ежедневно заполняемых рифмованными прописями пробудившихся борзописцев. Этот же сюжет повторяется в стихах из цикла «К Октябрьской годовщине» (1927), рисующих картины той осени.
- Густая слякоть клейковиной
- Полощет улиц колею:
- К виновному прилип невинный,
- И день, и дождь, и даль в клею.
- Ненастье настилает скаты,
- Гремит железом пласт о пласт,
- Свергает власти, рвет плакаты,
- Натравливает класс на класс.
- Костры. Пикеты. Мгла. Поэты
- Уже печатают тюки
- Стихов потомкам на пакеты
- И нам под кету и пайки.
- Тогда, как вечная случайность,
- Подкрадывается зима
- Под окна прачечных и чайных
- И прячет хлеб по закромам.
- Коротким днем, как коркой сыра,
- Играют крысы на софе
- И, протащив по всей квартире,
- Укатывают за буфет.
- На смену спорам оборонцев —
- Как север, ровный Совнарком[43],
- Безбрежный снег, и ночь и солнце,
- С утра глядящее сморчком.
- Пониклый день, серьё и быдло,
- Обидных выдач жалкий цикл,
- По виду — жизнь для мотоциклов
- И обданных повидлой игл.
- Для галок и красногвардейцев,
- Под черной кожи мокрый хром.
- Какой еще заре зардеться
- При взгляде на такой разгром?
- На самом деле ж это — небо
- Намыкавшейся всласть зимы,
- По всем окопам и совдепам[44]
- За хлеб восставшей и за мир.
- На самом деле это где-то
- Задетый ветром с моря рой
- Горящих глаз Петросовета,
- Вперенных в небывалый строй.
- Да, это то, за что боролись.
- У них в руках — метеорит.
- И будь он даже пуст, как полюс,
- Спасибо им, что он открыт.
- Однажды мы гостили в сфере
- Преданий. Нас перевели
- На четверть круга против зверя.
- Мы — первая любовь земли.
1927
После разгона Учредительного собрания, ставшего крушением надежд на установление в стране законности и порядка, — подтверждением страшных предчувствий стало убийство революционными матросами в ночь с 7-го на 8 января 1918 года в Мариинской больнице двух депутатов: министра Временного правительства А.И. Шингарева и государственного контролера Ф.Ф. Кокошкина.
- Мутится мозг. Вот так? В палате?
- В отсутствие сестер?
- Ложились спать, снимали платье.
- Курок упал и стер?
- Кем были созданы матросы,
- Кем город в пол-окна,
- Кем ночь творцов; кем ночь отбросов,
- Кем дух, кем имена?
- Один ли Ты, с одною страстью,
- Бессмертный, крепкий дух,
- Надмирный, принимал участье
- В творенье двух и двух?
- Два этих — пара синих блузок.
- Ничто. Кровоподтек.
- Но если тем не «мир стал узок»,
- Зачем их жить завлек?
- Сарказм на Маркса. О, тупицы!
- Явитесь в чем своем.
- Блесните! Дайте нам упиться!
- Чем? Кровью? — Мы не пьем.
- Так вас не жизнь парить просила?
- Не жизнь к верхам звала?
- Пред срывом пухнут кровью жилы
- В усильях лжи и зла.
1918
Русская революция
- Как было хорошо дышать тобою в марте
- И слышать на дворе, со снегом и хвоёй,
- На солнце, поутру, вне лиц, имен и партий,
- Ломающее лед дыхание твое!
- Казалось, облака несут, плывя на запад,
- Народам со дворов, со снегом и хвоёй,
- Журчащий как ручьи, как солнце сонный запах —
- Всё здешнее, всю грусть, всё русское твое.
- И теплая капель, буравя спозаранку
- Песок у желобов, грачи и звон тепла
- Гремели о тебе, о том, что иностранка,
- Ты по сердцу себе приют у нас нашла.
- Что эта изо всех великих революций
- Светлейшая, не станет крови лить, что ей
- И Кремль люб, и то, что чай тут пьют из блюдца.
- Как было хорошо дышать красой твоей!
- Смеркалось тут… Меж тем свинец к вагонным дверцам
- (Сиял апрельский день) — вдали, в чужих краях
- Навешивался вспех ганноверцем, ландверцем[48].
- Дышал локомотив. День пел, пчелой роясь.
- А здесь стояла тишь, как в сердце катакомбы.
- Был слышен бой сердец. И в этой тишине
- Почудилось: вдали курьерский несся, пломбы
- Тряслись, и взвод курков мерещился стране.
- Он — «С Богом, — кинул, сев; и стал горланить: —
- К черту! —
- Отчизну увидав: — Черт с ней, чего глядеть!
- Мы у себя, эй жги, здесь Русь, да будет стерта!
- Еще не всё сплылось; лей рельсы из людей!
- Лети на всех парах! Дыми, дави и мимо!
- Покуда целы мы, покуда держит ось.
- Здесь не чужбина нам, дави, здесь край родимый.
- Здесь так знакомо всё, дави, стесненья брось!»
- Теперь ты — бунт. Теперь ты — топки полыханье.
- И чад в котельной, где на головы котлов
- Пред взрывом плещет ад Балтийскою лоханью
- Людскую кровь, мозги и пьяный флотский блёв.
1918
В стихотворении, не издававшемся при жизни Пастернака и сохранившемся в бумагах его брата, особое возмущение автора вызвано открытой ненавистью Ленина к России и всему русскому, весенней тишине противостоит громовая резкость («стал горланить») ленинских призывов к насилию. В заметке 1957 года, посвященной лету 1917 года и роли Ленина, Пастернак писал о «не имеющей примера смелости его обращения к разбушевавшейся стихии», о его «готовности не считаться ни с чем». Заметка была написана по требованию редакции, не допускавшей к изданию очерк Пастернака «Люди и положения» без каких-либо слов о его отношении к революции. Общая тональность восхищения атмосферой революционного лета давала возможность в положительном смысле воспринимать откровенно страшные слова о «душе и совести» «великой русской бури», «лицом и голосом» которой стал Ленин. Теперь время дало возможность снять со слов Пастернака вуаль заглушавшего смысл обязательного тона славословий и обнажить точную правду высказанных Ленину обвинений:
«…Он, не колеблясь, взял на себя ответственность за кровь и ломку, каких не видел мир, он не побоялся кликнуть клич к народу, воззвать к самым затаенным и заветным его чаяньям, он позволил морю разбушеваться, ураган пронесся с его благословения…»
«…Настала зима, какую именно предсказывали. Она еще не так пугала, как две наступившие вслед за нею, но была уже из их породы, темная, голодная и холодная, вся в ломке привычного и перестройке всех основ существования, вся в нечеловеческих усилиях уцепиться за ускользающую жизнь.
Их было три подряд, таких страшных зимы, одна за другой, и не всё, что кажется теперь происшедшим с семнадцатого на восемнадцатый год, случилось действительно тогда, а произошло, может статься, позже. Эти следовавшие друг за другом зимы слились вместе и трудно отличимы одна от другой. Старая жизнь и молодой порядок еще не совпадали. Между ними не было ярой вражды, как через год, во время гражданской войны, но недоставало и связи. Это были стороны расставленные отдельно, одна против другой, и не покрывавшие друг друга…»
Борис Пастернак.
Из романа «Доктор Живаго»
Весной 1918 года Елена Виноград вышла замуж за наследника текстильных мануфактур А.Н. Дороднова, чтобы успокоить мать, волновавшуюся за ее судьбу, и уехала с мужем в село Яковлевское Костромской губернии. Еще год тому назад Пастернак боялся подобного шага и старался удержать Елену от тривиальности такого поступка, от ненужной жертвы и писал:
- Достатком, а там и пирами
- И мебелью стиля жакоб
- Иссушат, убьют темперамент,
- Гудевший как ветвь жуком.
- Он сыплет искры с зубьев,
- Когда, сгребя их в ком,
- Ты бесов самолюбья
- Терзаешь гребешком.
- В осанке твоей: «С кой стати?»,
- Любовь, а в губах у тебя
- Насмешливое: «Оставьте,
- Вы хуже малых ребят».
- О свежесть, о капля смарагда
- В упившихся ливнем кистях,
- О сонный начес беспорядка,
- О дивный, божий пустяк!
1917
Забегая вперед скажем, что брак Елены не был счастливым, а наследственные заводы ее мужа вскоре были национализированы. Первым откликом Пастернака на известие о замужестве Елены стало стихотворение:
- Весна, я с улицы, где тополь удивлен,
- Где даль пугается, где дом упасть боится,
- Где воздух синь, как узелок с бельем
- У выписавшегося из больницы.
- Где воздух пуст, как прерванный рассказ,
- Оставленный звездой без продолженья
- К недоуменью тысяч шумных глаз,
- Бездонных и лишенных выраженья.
1918
Согласие Елены на этот поспешный брак представлялось Пастернаку страшной победой мужской силы и соблазна обеспеченности над женской неискушенностью. Образ поверженной амазонки уподобляется в его стихотворении падению героини «Фауста» Гретхен:
Маргарита
- Разрывая кусты на себе, как силок,
- Маргаритиных стиснутых губ лиловей,
- Горячей, чем глазной Маргаритин белок,
- Бился, щелкал, царил и сиял соловей.
- Он как запах от трав исходил. Он как ртуть
- Очумелых дождей меж черемух висел.
- Он кору одурял. Задыхаясь ко рту
- Подступал. Оставался висеть на косе.
- И, когда изумленной рукой проводя
- По глазам, Маргарита влеклась к серебру,
- То казалось, под каской ветвей и дождя
- Повалилась без сил амазонка в бору.
- И затылок с рукою в руке у него,
- А другую назад заломила, где лег,
- Где застрял, где повис ее шлем теневой,
- Разрывая кусты на себе, как силок.
1919
- Мне в сумерки ты всё — пансионеркою,
- Всё — школьницей. Зима. Закат лесничим
- В лесу часов. Лежу и жду, чтоб смерклося.
- И вот — айда! Аукаемся, кличем.
- А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
- Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
- Она — твой шаг, твой брак, твое замужество,
- И тяжелей дознаний трибунала.
- Ты помнишь жизнь? Ты помнишь, стаей горлинок
- Летели хлопья грудью против гула.
- Их вихрь крутил, кутя, валясь прожорливо
- С лотков на снег, их до панелей гнуло!
- Перебегала ты! Ведь он подсовывал
- Ковром под нас салазки и кристаллы!
- Ведь жизнь, как кровь из облака пунцового
- Пожаром вьюги озарясь, хлестала!
- Движенье, помнишь? Помнишь время? Лавочниц?
- Палатки? Давку? За разменом денег
- Холодных, звонких, — помнишь, помнишь давешних
- Колоколов предпраздничных гуденье?
- Увы, любовь! Да, это надо высказать!
- Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
- Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
- Гляжу, страшась бессонницы огромной.
- Мне в сумерки ты будто всё с экзамена,
- Всё — с выпуска. Чижи, мигрень, учебник.
- Но по ночам! Как просят пить, как пламенны
- Глаза капсюль и пузырьков лечебных!
1918–1919
Елена Александровна вспоминала, что как-то зимой, грустная, расстроенная, приходила к Пастернаку в Сивцев Вражек. Он ее утешал, говорил, что скоро жизнь возьмет свое и все наладится и «в Охотном ряду снова будут зайцы висеть». Отголоски этого разговора слышны в этом стихотворении, включенном в цикл «Болезнь», написанный после перенесенной в ноябре 1918 года тяжелой инфлуэнцы, унесший в тот год множество жизней. Ослабленный недоеданием, больной находился в критическом состоянии. Горячечный бред, холод в комнате, которую нельзя было натопить из-за отсутствия дров. Его выходила мать, переехавшая на время к сыну. В стихах этого цикла отразились проносившиеся в болезненном сознании обрывки тяжелых событий этого года и страшные картины террора. Классическое уподобление государства, в данном случае — Кремля — кораблю, отразившееся в следующем стихотворении, берет свое начало в Элегии греческого поэта VI века до новой эры Феогнида.
Кремль в буран 1918 года
- Как брошенный с пути снегам
- Последней станцией в развалинах,
- Как полем в полночь, в свист и гам,
- Бредущий через силу в валяных,
- Как пред концом, в упаде сил
- С тоски взывающий к метелице,
- Чтоб вихрь души не угасил,
- К поре, как тьмою все застелется,
- Как схваченный за обшлага
- Хохочущею вьюгой нарочный,
- Ловящий кисти башлыка,
- Здоровающеюся в наручнях,
- А иногда! — А иногда,
- Как пригнанный канатом накороть
- Корабль, с гуденьем, прочь к грядам
- Срывающийся чудом с якоря,
- Последней ночью, несравним
- Ни с чем, какой-то странный, пенный весь,
- Он, Кремль, в оснастке стольких зим,
- На нынешней срывает ненависть.
- И грандиозный, весь в былом,
- Как визьонера дивинация[49],
- Несется, грозный, напролом,
- Сквозь неистекший в девятнадцатый.
- Под сумерки к тебе в окно
- Он всею медью звонниц ломится.
- Боится, видно, — год мелькнет, —
- Упустит и не познакомится.
- Остаток дней, остаток вьюг,
- Сужденных башням в восемнадцатом,
- Бушует, прядает вокруг,
- Видать — не нагулялись насыто.
- За морем этих непогод
- Предвижу, как меня, разбитого,
- Ненаступивший этот год
- Возьмется сызнова воспитывать.
1918–1919
Январь 1919 года
- Тот год! Как часто у окна
- Нашептывал мне, старый: «Выкинься».
- А этот, новый, все прогнал
- Рождественскою сказкой Диккенса[50].
- Вот шепчет мне: «Забудь, встряхнись!»
- И с солнцем в градуснике тянется
- Тот-в-точь, как тот дарил стрихнин
- И падал в пузырек с цианистым.
- Его зарей, его рукой,
- Ленивым веяньем волос его
- Почерпнут за окном покой
- У птиц, у крыш, как у философов.
- Ведь он пришел и лег лучом
- С панелей, с снеговой повинности.
- Он дерзок и разгорячен,
- Он просит пить, шумит, не вынести.
- Он вне себя. Он внес с собой
- Дворовый шум и — делать нечего:
- На свете нет тоски такой,
- Которой снег бы не вылечивал.
1919
Зима в том году выдалась особенно снежной. В стихотворении упоминается снеговая повинность, то есть обязанность, возложенная на сословия, лишенные избирательных прав и рабочих карточек, расчищать улицы, занесенные длительными снегопадами, разгружать товарные составы. Об участии Пастернака в такой работе вспоминала его сестра Лидия:
«…В первые послереволюционнае годы холода и голода, когда приходилось заниматься тяжелым физическим трудом, главным образом именно нам с Борей выпадала редкая и счастливая возможность принести домой полный мешок мороженой картошки, напиленных от разрушенного дома дров или пойти в соседнюю деревню за санями с крестьянскими продуктами. Однажды после снегопада, а это случалось часто в послереволюционные зимы, транспорт перестал ходить и целые поезда с самыми важными товарами стояли один за другим на окраинах Москвы, правительство издало декрет о мобилизации неслужащего населения на расчистку путей… Ранним зимним серым утром наша маленькая группа встретилась с соседями, на вид столь же оробевшими, и мы вместе пошли на окраину города по еще пустым улицам. Мы представляли собой грустное зрелище, — те, что ждали нас, главным образом пожилые люди из старой интеллигенции, худые, с бледными лицами, усталые, в неподходящей для работы одежде, с трудом волочили ноги по грязному снегу; казалось, мы никогда не доберемся до места. Когда мы, наконец, добрались, солнце встало, небо было голубым и казалось необъятным, сугробы ослепительно сверкали, было радостно и свежо. Нам дали ломы и лопаты и показали, где нужно работать. Для меня это было подобно замечательной лыжной прогулке, и даже еще лучше — в этом была целесообразность. Я не могла понять, как другие оставались угрюмы и огорчались. Испытанное Борей живо описано им в одной из лучших глав романа „Доктор Живаго“ — расчистка железнодорожных путей во время зимней поездки в Сибирь семьи Живаго…».
Гложущая боль утраты сказалась в цикле «Разрыв», первоначальное название которого «Приступ» соотносится со словами из 3-го стихотворения «приступ печали» и более соответствует тому душевному состоянию, которое переживал Пастернак, узнав о замужестве Елены Виноград.
Разрыв
- О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
- Разрыве столько грез, настойчивых еще!
- Когда бы человек, — я был пустым собраньем
- Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щек!
- Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
- По крепости тоски, по юности ее
- Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
- Я б штурмовал тебя, позорище мое!
- От тебя все мысли отвлеку
- Не в гостях, не за вином, так на небе.
- У хозяев, рядом, по звонку
- Отопрут кому-нибудь когда-нибудь.
- Вырвусь к ним, к бряцанью декабря.
- Только дверь — и вот я! Коридор один.
- «Вы оттуда? Что там говорят?
- Что слыхать? Какие сплетни в городе?
- Ошибается ль еще тоска?
- Шепчет ли потом: «Казалось — вылитая»,
- Приготовясь футов с сорока
- Разлететься восклицаньем: «Вы ли это?»
- Пощадят ли площади меня?
- Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
- Когда вас раз сто в теченье дня
- На ходу на сходствах ловит улица!»
- Помешай мне, попробуй. Приди покусись потушить
- Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть
- в пустоте Торричелли[51].
- Воспрети, помешательство, мне, — о, приди, посягни!
- Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
- О, туши ж, о, туши! Горячее!
- Разочаровалась! Ты думала — в мире нам
- Расстаться за реквиемом лебединым?
- В расчете на горе, зрачками расширенными
- В слезах, примеряла их непобедимость?
- На мессе б со сводов посыпалась стенопись,
- Потрясшись игрой на губах Себастьяна[52].
- Но с нынешней ночи во всем моя ненависть
- Растянутость видит, и жаль, что хлыста нет.
- Впотьмах, моментально опомнясь, без медлящего
- Раздумья решила, что все перепашет.
- Что — время. Что самоубийство ей не для чего,
- Что даже и это есть шаг черепаший.
- Мой друг, мой нежный, о точь-в-точь, как ночью,
- в перелете с Бергена[53] на полюс,
- Валящим снегом с ног гагар сносимый жаркий пух,
- Клянусь, о нежный мой, клянусь, я не неволюсь,
- Когда я говорю тебе — забудь, усни, мой друг.
- Когда, как труп затертого до самых труб норвежца[54],
- В виденьи зим, не движущих заиндевелых мачт,
- Ношусь в сполохах глаз твоих шутливым — спи, утешься,
- До свадьбы заживет, мой друг, угомонись, не плачь.
- Когда совсем как север вне последних поселений,
- Украдкой от арктических и неусыпных льдин,
- Полночным куполом полощущий глаза слепых тюленей,
- Я говорю — не три их, спи, забудь: все вздор один.
- Рояль дрожащий пену с губ оближет.
- Тебя сорвет, подкосит этот бред,
- Ты скажешь: — милый! — Нет, — вскричу я, — нет!
- При музыке?! — Но можно ли быть ближе,
- Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
- Меча в камин комплектами, погодно?
- О пониманье дивное, кивни,
- Кивни, и изумишься! — ты свободна.
- Я не держу. Иди, благотвори.
- Ступай к другим. Уже написан Вертер[55],
- А в наши дни и воздух пахнет смертью:
- Открыть окно — что жилы отворить.
1918
«…А ужасная зима была здесь в Москве, Вы слыхали, наверное. Открылась она так. Жильцов из нижней квартиры погнал Изобразительный отдел вон; нас, в уваженье к отцу и ко мне, пощадили, выселять не стали. Вот мы и уступили им полквартиры, уплотнились.
Очень, очень рано, неожиданно рано выпал снег, в начале октября зима установилась полная. Я словно переродился и пошел дрова воровать у Ч.К[56]. по соседству. Так постепенно сажень натаскал. И еще кое-что в том же духе. — Видите вот и я — советский стал. Я к таким ужасам готовился, что год мне, против ожиданий, показался сносным и даже счастливым — он протек «еще на земле», вот в чем счастье…
Тут советская власть постепенно выродилась в какую-то мещанскую атеистическую богадельню. Пенсии, пайки, субсидии, только еще не в пелеринках интеллигенция и гулять не водят парами, а то совершенный приют для сирот, держат впроголодь и заставляют исповедовать неверье, молясь о спасенье от вши, снимать шапки при исполнении интернационала и т. д. Портреты ВЦИКа[57], курьеры, присутственные и неприсутственные дни. Вот оно. Ну стоило ли такую кашу заваривать».
Борис Пастернак — Дмитрию Петровскому
Из письма 6 апреля 1920
«…Когда я теперь пытаюсь вспомнить его точный облик, ясно вижу его в последние годы перед нашей разлукой сидящим за столом, за работой, в шерстяном свитере, ноги в валенках, перед ним кипящий самовар, стакан крепкого чая, до которого легко можно дотянуться рукой. Он его постоянно доливал, пил, продолжая писать. Я вижу еще, как он присел перед голландкой, мешая поленья — этого он никому не доверял делать, — или как он идет тихо, не спеша, аккуратно несет полную лопату горящего угля из одной печки в другую, потом старательно подметает упавшие куски; я вспоминаю, что так однажды у него загорелись валенки. Я вижу еще, как давным-давно, когда я была маленькой, он импровизировал на рояле поздно вечером, наполняя темноту печалью и невыразимой тоской. Под его пальцами вырастала музыка бушующих волн, целый мир, неведомый, с ужасом любви и разлуки, поэзии и смерти; Боря переставал быть нашим братом и становился чем-то непостижимым, страшным, демоном, гением. Со слезами на глазах мы плакали, моля Бога, чтоб Он его нам вернул. Но он часто возвращался, когда мы уже спали…»
Лидия Пастернак-Слейтер.
Из «Заметок»
- Сейчас мы руки углем замараем,
- Вмуруем в камень самоварный дым,
- И в рукопашной с медным самураем,
- С кипящим солнцем в комнаты влетим.
- Но самурай закован в серый панцирь.
- К пустым сараям не протоптан след.
- Пролеты комнат канули в пространство.
- Зари не будет, в лавках чаю нет.
- Тогда скорей на крышу дома слазим,
- И вновь в роях недвижных верениц
- Москва с размаху кувыркнется наземь,
- Как ящик из-под киевских яиц.
- Испакощенный тёс ее растащен.
- Взамен оград какой-то чародей
- Огородил дощатый шорох чащи
- Живой стеной ночных очередей.
- Кругом фураж, не дожранный морозом.
- Застряв в бурана бледных челюстях,
- Чернеют крупы палых паровозов
- И лошадей, шарахнутых врастяг.
- Пещерный век на пустырях щербатых
- Понурыми фигурами проныр
- Напоминает города в Карпатах:
- Москва — войны прощальный сувенир.
- Дырявя даль, и тут летали ядра,
- Затем, что воздух родины заклят,
- И половина края — люди кадра,
- А погибать без торгу — их уклад.
- Затем, что небо гневно вечерами,
- Что распорядок штатский позабыт,
- И должен рдеть хотя б в военной раме
- Военной формы не носивший быт.
- Теперь и тут некстати блещет скатерть
- Зимы; и тут в разрушенный очаг,
- Как наблюдатель на аэростате,
- Косое солнце смотрит натощак.
Из романа в стихах «Спекторский», 1928
В поздние годы «образ разрухи» был осмыслен Пастернаком логически как откровенное лицемерие слов Ленина о борьбе с разрухой, тогда так революционной тактикой большевиков, методом, призванием и специальностью было
«…заводить разруху там, где ее не было, анархической, насильнической расправой со всем имеющимся налицо, точно жизнь — сырье для их исторической обработки. Но органическая действительность не минерал, с нею надо договариваться, а не ломать и дробить ее. Ленин хочет ввести новые формы плавания на смену прежним и для того, чтобы разбить противников, выпускает воду из бассейна, называет этот акт победой над старой теорией водоплавания, пробует плавать по-новому, удивляется, что у него не выходит, и рвет и мечет против всех по поводу того, что в бассейне нет воды, как будто воду выпустили они, а не он…»
Пастернак поступил на службу в Комиссию по охране культурных ценностей, созданную при Наркомпросе во главе с В.Я. Брюсовым. Работа состояла в оформлении «охранных грамот» на библиотеки, художественные собрания и жилую площадь. Кроме службы, пришлось, оставив оригинальные работы, взяться за переводы.
Необходимым подспорьем стал также огород. Летом 1918 года родители с сестрами жили на даче друзей на Очаковской платформе по Киевской железной дороге. Подняли и засеяли несколько грядок, в предчувствии голодной зимы растили овощи и картошку. Борис приезжал туда в субботу вечером и проводил там воскресенье. Именно здесь по воскресеньям, наработавшись за день на огороде, после вечерней поливки он написал цикл стихотворений «Тема с вариациями». Взаимосвязанность работы на земле и за письменным столом определялась для Пастернака значением слова «культура», которое своим латинским происхождением подтверждало это единство.
Стихи, посвященные Пушкину — «Тема с вариациями», легли в основу новой стихотворной книги. Пастернак выбрал переломный момент пушкинской биографии, его прощание с романтизмом. Последний год пребывания Пушкина в Одессе был отмечен крушением надежд, связанных с кишиневским кружком генерала Орлова. Поиски свободы толкали его в игру страстей, любовь перемежалась муками ревности. Его стихотворение «К морю» («Прощай, свободная стихия…») — прощание с морем, как олицетворением романтических идеалов и мечты о свободе. Сходный момент прощания с молодостью и романтизмом переживал в это время сам Пастернак.
«Сестру мою жизнь» Пастернак посвятил Лермонтову как вечно живому началу творческой смелости, и Демон был образом лермонтовского мятежного духа; олицетворением пушкинской глубины и тайны в «Темах с вариациями» стал Сфинкс. Ореол таинственности, отличавший пушкинские стихи кишиневского периода, мог вызывать ассоциации со сфинксом, но главный опорой в создании этого образа стало генетическое родство «Египта древнего живущих изваяний» и африканского происхождения Пушкина.
Известной иллюстрацией к стихотворению Пушкина стала картина Репина и Айвазовского «Прощай, свободная стихия». Л.О. Пастернак писал этот сюжет в Одессе в 1911 году. Обе эти композиции отразились в цикле Пастернака.
Тема
- Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
- Скала и Пушкин. Тот, кто и сейчас,
- Закрыв глаза, стоит и видит в сфинксе
- Не нашу дичь: не домыслы втупик
- Поставленного грека, не загадку,
- Но предка: плоскогубого хамита[58],
- Как оспу, перенесшего пески,
- Изрытого, как оспою, пустыней,
- И больше ничего. Скала и шторм.
- В осатаненьи льющееся пиво
- С усов обрывов, мысов, скал и кос,
- Мелей и миль. И гул, и полыханье
- Окаченной луной, как из лохани,
- Пучины. Шум и чад и шторм взасос.
- Светло как днем. Их озаряет пена.
- От этой точки глаз нельзя отвлечь.
- Прибой на сфинкса не жалеет свеч
- И заменяет свежими мгновенно.
- Скала и шторм. Скала и плащ и шляпа.
- На сфинсовых губах — соленый вкус
- Туманностей. Песок кругом заляпан
- Сырыми поцелуями медуз.
- Он чешуи не знает на сиренах,
- И может ли поверить в рыбий хвост
- Тот, кто хоть раз с их чашечек коленных
- Пил бившийся как об лед отблеск звезд?
- Скала и шторм и — скрытый ото всех
- Нескромных — самый странный, самый тихий,
- Играющий с эпохи Псамметиха
- Углами скул пустыни детский смех…
1918
«Вторая, подражательная вариация» ориентирована на вступление к «Медному всаднику» и, помимо прямого цитирования первых строк, она воспроизводит размер и ритмический рисунок пушкинского оригинала с забегающими друг за друга анжамбеманами. Здесь также не назван по имени герой стихотворения, как у Пушкина Петр I, — что поднимает его на уровень неназываемого бога.
- На берегу пустынных волн
- Стоял он, дум великих полн.
- Был бешен шквал. Песком сгущенный,
- Кровавился багровый вал.
- Такой же гнев обуревал
- Его, и чем-то возмущенный,
- Он злобу на себе срывал.
- В его устах звучало «завтра»,
- Как на устах иных «вчера».
- Еще не бывших дней жара
- Воображалась в мыслях кафру[59],
- Еще не выпавший туман
- Густые целовал ресницы.
- Он окунал в него страницы
- Своей мечты. Его роман[60]
- Вставал из мглы, которой климат
- Не в силах дать, которой зной
- Прогнать не может никакой,
- Которой ветры не подымут
- И не рассеют никогда
- Ни утро мая, ни страда.
- Был дик открывшийся с обрыва
- Бескрайний вид. Где огибал
- Купальню гребень белогривый,
- Где смерч на воле погибал,
- В последний миг еще качаясь,
- Трубя и в отклике отчаясь,
- Борясь, чтоб захлебнуться вмиг
- И сгинуть вовсе с глаз. Был дик
- Открывшийся с обрыва сектор
- Земного шара, и дика
- Необоримая рука,
- Пролившая соленый нектар
- В пространство слепнущих снастей,
- На протяженье дней и дней,
- В сырые сумерки крушений,
- На милость черных вечеров…
- На редкость дик, на восхищенье
- Был вольный этот вид суров.
- Он стал спускаться. Дикий чашник
- Гремел ковшом, и через край
- Бежала пена. Молочай,
- Полынь и дрок за набалдашник
- Цеплялись, затрудняя шаг,
- И вихрь степной свистел в ушах.
- И вот уж бережок, пузырясь,
- Заколыхал камыш и ирис
- И набежала рябь с концов.
- Но неподернуто-свинцов
- Посередине мрак лиловый.
- А рябь! Как будто рыболова
- Свинцовый грузик заскользил,
- Осунулся и лег на ил
- С непереимчивой ужимкой,
- С какою пальцу самолов[61]
- Умеет намекнуть без слов:
- Вода, мол, вот и вся поимка.
- Он сел на камень. Ни одна
- Черта не выдала волненья,
- С каким он погрузился в чтенье
- Евангелья морского дна.
- Последней раковине дорог
- Сердечный шелест, капля сна,
- Которой мука солона,
- Ее сковавшая. Из створок
- Не вызвать и клинком ножа
- Того, чем боль любви свежа.
- Того счастливейшего всхлипа,
- Что хлынул вон и создал риф,
- Кораллам губы обагрив,
- И замер на устах полипа.
1918
Любовно рисуются знакомые с детства картины Одесского взморья, штормового лета 1911 года.
Замыкает тему «Вариация третья, макрокосмическая», возвращаясь к уподоблению Сфинкса и Пушкина. При этом Сахара, к которой «прислушивается» Сфинкс, оказывается той «пустыней мрачной и скупой», где усталый путник повстречал на перепутье шестикрылого посланника Божия. Вдохновенная ночь создания «Пророка» знаменует собой рождение нового отношения к своему призванию, новый уровень послушания полученным впечатлениям, осознанную жертвенность. Просветленность, посещающая творца в такие минуты и именуемая откровением, — это чувство непосредственной причастности к жизни мироздания, которая позволяет услышать «неба содроганье и гад морских подводный ход», ощутить ветерок с Марокко и увидеть восход солнца на Ганге.
- Мчались звезды. В море мылись мысы.
- Слепла соль. И слезы высыхали.
- Были темны спальни. Мчались мысли,
- И прислушивался сфинкс к Сахаре.
- Плыли свечи. И казалось, стынет
- Кровь колосса. Заплывали губы
- Голубой улыбкою пустыни.
- В час отлива ночь пошла на убыль.
- Море тронул ветерок с Марокко.
- Шел самум. Храпел в снегах Архангельск.
- Плыли свечи. Черновик «Пророка»
- Просыхал, и брезжил день на Ганге.
Поэма «Цыганы» была для Пушкина знаком критического отношения к герою литературных канонов романтизма и одновременно отражением душевной усталости от пережитых страстей того года, — подобные моменты переживал Пастернак, создавая свои «Вариации». Они стали ответом на весенние события в жизни Елены Виноград и означали отказ от типических, банальных ситуаций, диктуемых романтическим миропониманием.
- Облако. Звезды. И сбоку —
- Шлях и — Алеко. — Глубок
- Месяц Земфирина ока: —
- Жаркий бездонный белок.
- Задраны к небу оглобли.
- Лбы голубее олив.
- Табор глядит исподлобья,
- В звезды мониста вперив.
- Это ведь кровли Халдеи
- Напоминает! Печет,
- Лунно: а кровь холодеет.
- Ревность? Но ревность не в счет!
- Стой! Ты похож на сирийца.
- Сух, как скопец-звездочет.
- Мысль озарилась убийством.
- Мщенье? Но мщенье не в счет!
- Тень как навязчивый евнух.
- Табор покрыло плечо.
- Яд? Но по кодексу гневных
- Самоубийство не в счет!
- Прянул, и пыхнули ноздри.
- Не уходился еще?
- Тише, скакун, — заподозрят.
- Бегство? Но бегство не в счет!
Гордая позиция самостоятельного существования была подорвана прямой необходимостью спасать от голода родителей и сестер. Критический момент заставил Пастернака летом 1920 года обратиться в Лито Наркомпроса с ходатайством об академическом пайке. Перечисляя сделанные за 7 месяцев переводные работы, которые в итоге составили более 10 наименований и 12 тысяч стихов, он писал:
«…Это именно та степень напряжения, та форма и та каторжная обстановка работы, когда ее проводник и выполнитель, первоначально двинутый на этот путь силою призванья, постепенно покидает область искусства, а затем и свободного ремесла и наконец, вынуждаемый обстоятельствами видит себя во власти какого-то непосильного профессионального оброка, который длится, становится все тяжелей и тяжелей и которого нельзя прервать в силу роковой социальной инерции. Между тем единственный источник продовольствованья, ему доступный, — спекулятивный рынок становится все более и более недостижим, все дальше и дальше уходит от него в область какого-то сказочного и трагического издевательства над его несвоевременным гражданским простодушием… Я знаю, два основанья требуются для него „пайка“. Наличность действительной потребности, скажем лучше — нужды. Как мог, я показал ее… Другое основанье для получения академического пайка — художественное значенье соискателя, его одаренность. Здесь кончается мое заявленье. Кому об этом и судить, как не Лито, если вообще это выяснимо.
Член-учредитель Всероссийского Профсоюза писателей. Член президиума Профсоюза поэтов.
Б. Пастернак».
«…Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда, как оно — губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться. Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия. Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит, и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторою болезнью…»
Б. Пастернак.
Из статьи «Несколько положений», 1918
Характерным явлением этих лет были литературные кафе, которые некоторым образом заменяли исчезнувшие издательства, служа распространению поэзии среди публики. Поэты читали свои произведения посетителям, выступления переходили в диспуты и споры. Непременным участником таких вечеров был Маяковский, ставший, по словам Пастернака, «живой истиной и оправданием этого поприща», тогда как он сам, устыдившись однажды «сибаритской доступности победы эстрадной», сторонился подобных выступлений.
Шекспир
- Извозчичий двор и встающий из вод
- В уступах — преступный и пасмурный Тауэр,
- И звонкость подков, и простуженный звон
- Вестминстера, глыбы, закутанной в траур.
- И тесные улицы; стены, как хмель,
- Копящие сырость в разросшихся бревнах,
- Угрюмых, как копоть, и бражных, как эль,
- Как Лондон, холодных, как поступь, неровных.
- Спиралями, мешкотно падает снег.
- Уже запирали, когда он, обрюзгший,
- Как сползший набрюшник, пошел в полусне
- Валить, засыпая уснувшую пустошь.
- Оконце и зерна лиловой слюды
- В свинцовых ободьях. — «Смотря по погоде.
- А впрочем… А впрочем, соснем на свободе.
- А впрочем — на бочку! Цирюльник, воды!»
- И, бреясь, гогочет, держась за бока,
- Словам остряка, не уставшего с пира
- Цедить сквозь приросший мундштук чубука
- Убийственный вздор.
- А меж тем у Шекспира
- Острить пропадает охота. Сонет,
- Написанный ночью с огнем, без помарок,
- За дальним столом, где подкисший ранет[62]
- Ныряет, обнявшись с клешнею омара,
- Сонет говорит ему:
- «Я признаю
- Способности ваши, но, гений и мастер,
- Сдается ль, как вам, и тому на краю
- Бочонка, с намыленной мордой, что мастью
- Весь в молнию я, то есть выше по касте,
- Чем люди, — короче, что я обдаю
- Огнем, как, на нюх мой, зловоньем ваш кнастер?
- Простите, отец мой, за мой скептицизм
- Сыновний, но сэр, но милорд, мы — в трактире.
- Что мне в вашем круге? Что ваши птенцы
- Пред плещущей чернью? Мне хочется шири!
- Прочтите вот этому. Сэр, почему ж?
- Во имя всех гильдий и биллей! Пять ярдов —
- И вы с ним в бильярдной, и там — не пойму,
- Чем вам не успех популярность в бильярдной?»
- — Ему?! Ты сбесился? — И кличет слугу,
- И, нервно играя малаговой веткой[63],
- Считает: полпинты, французский рагу —
- И в дверь, запустя в привиденье салфеткой.
Претензии сонета к автору, обрекающему своих «птенцов» на узость трактирного круга, — это предостережения Маяковскому, лирическая сила которого терпела ущерб от выступлений в кафе, где он завоевывал дешевую популярность завсегдатаев и рукоплесканье черни. Иронический вопрос: «Чем вам не успех популярность в бильярдной?» — открыто обращен к Маяковскому, страстному игроку в бильярд. Точностью попадания этого упрека он вызывает бешенство у героя стихотворения. В образе Шекспира Пастернак емко и лаконично рисует характерные детали поведения и внешнего облика Маяковского, — «остряка, не уставшего с пира // Цедить сквозь приросший мундштук чубука // Убийственный вздор». Современники запомнили и передали в своих воспоминаниях примеры «убийственного» остроумия Маяковского, которое с особенной страстью проявлялось во время публичных диспутов, а его приросшая к губе папироса запечатлена также на многих фотографиях.
В 1922 году надписывая Маяковскому только что вышедшую книгу «Сестра моя жизнь», Пастернак выразил трагическое недоумение, которое вызывал отказ его друга от высоких возможностей лирического самовыражения в пользу поденной мелочи случайных и временных задач. Сопоставляя бесстрашие раннего Маяковского и силу его гневного вызова обществу с теперешними бессодержательными и «неуклюже зарифмованными прописями», Пастернак писал:
Маяковскому
- Холщовая буря палаток
- Раздулась гудящей Двиной
- Движений, когда вы, крылатый,
- Возникли борт о борт со мной.
- И вы с прописями о нефти?
- Теряясь и оторопев,
- Я думаю о терапевте,
- Который вернул бы вам гнев.
- Я знаю, ваш путь неподделен,
- Но как вас могло занести
- Под своды таких богаделен
- На искреннем этом пути.
1922
«…Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда, в сохраненьи всей внешности, ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображенье и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался…»
Б. Пастернак.
Из повести «Охранная грамота»
В первых числах мая 1921 года в Москву приезжал Александр Блок, уже совсем больной. В очерке «Люди и положения» Пастернак вспоминал, что
«…представился ему в коридоре или на лестнице Политехнического музея в вечер его выступления в аудитории музея. Блок был приветлив со мной, сказал, что слышал обо мне с лучшей стороны, жаловался на самочувствие, просил отложить встречу с ним до улучшения его здоровья…»
Встрече не суждено было состояться, через два месяца Москву потрясло известие о его смерти.
«…С Блоком прошли и провели свою молодость я и часть моих сверстников… У Блока было все, что создает великого поэта, — огонь, нежность, проникновение, свой образ мира, свой дар особого все претворяющего прикосновения, своя сдержанная, скрадывающаяся, вобравшаяся в себя судьба…
Прилагательные без существительных, сказуемые без подлежащих, прятки, взбудораженность, юрко мелькающие фигурки, отрывистость — как подходил этот стиль к духу времени, таившемуся, сокровенному, едва вышедшему из подвалов, объяснявшемуся языком заговорщиков, главным лицом которого был город, главным событием — улица…
Черты действительности как током воздуха занесены вихрем блоковской впечатлительности в его книги. Даже самое далекое, что могло показаться мистикой, что можно бы назвать «божественным». Это не метафизические фантазии, а рассыпанные по всем его стихам клочки церковно-бытовой реальности, места из ектеньи, молитвы перед причащением и панихидных псалмов, знакомые наизусть и сто раз слышанные на службах.
Суммарным миром, душой, носителем этой действительности был город блоковских стихов, главный герой его повести, его биографии.
Этот город, этот Петербург Блока — наиболее реальный из Петербургов, нарисованных художниками новейшего времени. Он до безразличия одинаково существует в жизни и воображении, он полон повседневной прозы, питающей поэзию драматизмом и тревогой, и на улицах его звучит то общеупотребительное, будничное просторечие, которое освежает язык поэзии.
В то же время образ этого города составлен из черт, отобранных рукой такою нервною, и подвергся такому одухотворению, что весь превращен в захватывающее явление редчайшего внутреннего мира…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»






