Сестра моя, жизнь (сборник) Пастернак Борис
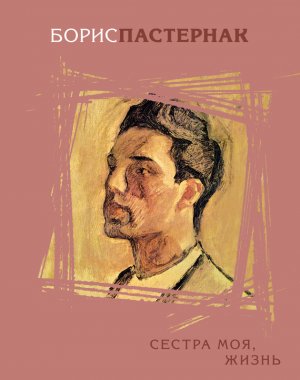
Стихотворение обращено к В.Э. Мейерхольду и его жене, актрисе Зинаиде Николаевне Райх, и написано после посещения спектакля «Горе уму». Оно должно было поддержать Мейерхольда, на которого и на З.Н. Райх обрушились несправедливые критические нападки. Образ режиссера как творца мира и создателя человека, возникающий в последних строфах стихотворения соотносится с первыми главами Книги Бытия.
Цикл стихотворных посвящений объединяло горячее сочувствие людям, чья судьба нуждалась в поддержке: Ахматовой, Цветаевой, Мейерхольдам. При подготовке книги к ним прибавились написанное ранее, к пятидесятилетнему юбилею, стихотворение Брюсову и несколько позже — Борису Пильняку.
Брюсову
- Я поздравляю вас, как я б отца
- Поздравил бы при той же обстановке.
- Жаль, что в Большом театре под сердца
- Не станут стлать, как под ноги, цыновки.
- Жаль, что на свете принято скрести
- У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
- Что прошлое смеется и грустит,
- А злоба дня размахивает палкой.
- Вас чествуют. Слегка страшит обряд,
- Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
- И золото судьбы посеребрят,
- И, может, серебрить в ответ обяжут.
- Что мне сказать? Что Брюсова горька
- Широко разбежавшаяся участь?
- Что ум черствеет в царстве дурака?
- Что не безделка — улыбаться, мучась?
- Что сонному гражданскому стиху
- Вы первый настежь в город дверь открыли?
- Что ветер смел с гражданства шелуху
- И мы на перья разодрали крылья?
- Что вы дисциплинировали взмах
- Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
- И были домовым у нас в домах
- И дьяволом недетской дисциплины?
- Что я затем, быть может, не умру,
- Что, до смерти теперь устав от гили,
- Вы сами, было время, поутру
- Линейкой нас не умирать учили?
- Ломиться в двери пошлых аксиом,
- Где лгут слова и красноречье храмлет?…
- О! Весь Шекспир, быть может, только в том,
- Что запросто болтает с тенью Гамлет.
- Так запросто же! Дни рожденья есть.
- Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
- Так легче жить. А то почти не снесть
- Пережитого слышащихся жалоб.
1923
Обращение к тени в последней строфе объясняется тем, что на юбилейном вечере 15 декабря 1923 года в ответ на официальные поздравления Брюсов прочел цитату из стихотворения А.А. Фета «На 50-летие музы»:
- Нас отпевают. В этот день
- Никто не подойдет с хулою.
- Всяк благодарною хвалою
- Немую провожает тень.
Борису Пильняку
- Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
- Вовек не вышла б к свету темнота,
- И я — урод, и счастье сотен тысяч
- Не ближе мне пустого счастья ста?
- И разве я не мерюсь пятилеткой,
- Не падаю, не подымаюсь с ней?
- Но как мне быть с моей грудною клеткой
- И с тем, что всякой косности косней?
- Напрасно в дни великого совета,
- Где высшей страсти отданы места,
- Оставлена вакансия поэта:
- Она опасна, если не пуста.
1931
Конец двадцатых годов был исторически тяжелым, жестоким временем. У Пастернака появилось чувство конца творческих и жизненных возможностей. Отсюда разговор об опасности «вакансии поэта» и творческих ограничениях, которые приходится терпеть.
«…Работаю я сейчас над клубком, который последовательными очередями обязался распутать к осени. Это — совокупность трех взаимно связанных работ, по исполнении которых у меня оформится материал для четырехтомного собрания сочинений, а вместе с тем отдельными выпусками будут подготовлены к печати: сборник прозы и „Спекторский“ — роман в стихах…
Часть фабулы в романе, приходящуюся на военные годы и революцию, я отдал прозе, потому что характеристики и формулировки, в этой части всего более обязательные и разумеющиеся, стиху не под силу…
Когда я ее кончу, можно будет приняться за заключительную главу «Спекторского»…
Затем, в пополнение сборника прозы мне останется дописать полуфилософскую биографического содержания вещь, начатую прошлой зимой и брошенную на первой трети. Вчерне она называется «Охранной грамотой»…»
Из анкеты «Писатели о себе», 1929
Осенью 1929 года Пастернак написал последние главы «Спекторского». В окончательном виде растянувшаяся на годы работа встретила недоумение критики и вызывала у автора сомнения в ее художественной состоятельности. Он чистосердечно признавался в этом редактору Ленгиза П.Н. Медведеву, объясняя неудачу несбывшимися надеждами на преобразования в обществе:
«…Когда пять лет назад я принялся за нее, я назвал ее романом в стихах. Я глядел не только назад, но и вперед. Я ждал каких-то бытовых и общественных превращений, в результате которых была бы восстановлена возможность индивидуальной повести, то есть фабулы об отдельных людях, репрезентативно примерной и всякому понятной в ее личной узости, а не прикладной широте. В этом я обманулся, я по-детски преувеличил скорость вероятной дифференциации нового общества и части старого в новых условьях… Я только хочу сказать, что начинал я в состояньи некоторой надежды на то, что взорванная однородность жизни и ее пластическая очевидность восстановится в теченье лет, а не десятилетий, при жизни, а не в историческом гаданьи. И как бы я ни был мал, такой ход придал бы мне силы — а ее рост, при живом росте общих нравственных сил, и есть единственная фабула лирического поэта. Потому что даже и о гибели можно в полную краску писать только, когда она обществом уже преодолена и оно вновь находится в состояньи роста…»
Борис Пастернак — П.Н. Медведеву.
Из письма 6 ноября 1929
Ленгиз, с которым был заключен договор на «Спекторского», выражал колебания «по неясности его общественных тенденций» и «идеологической несоответственности» окончания романа. В последних главах дана мрачная картина Москвы 1919 года, зарисовки разрушенного быта чередуются с размышлениями об общественных сторонах уклада, который зачеркивал возможность индивидуальной судьбы и биографии широтою исторического масштаба:
- Поэзия, не поступайся ширью.
- Храни живую точность: точность тайн.
- Не занимайся точками в пунктире
- И зерен в мере хлеба не считай.
- Недоуменьем меди орудийной
- Стесни дыханье и спроси чтеца:
- Неужто, жив в охвате той картины,
- Он верит в быль отдельного лица?
«…Все б это ничего, но разговор пошел как с уличенным мошенником: на букве идеологии стали настаивать, точно она — буква контракта.
Точно именно в договоре было сказано, что в шахты будут спускать безболезненно, под хлороформом или местной анестезией, и это будет не мучительно, а даже наоборот; и террор не будет страшен. Точно я по договору — выразил готовность изобразить революцию как событье, культурно выношенное на заседаньях Ком. Академии в хорошо освещенных и отопленных комнатах при прекрасно оборудованной библиотеке. Наконец, точно в договор был вставлен предостерегающий меня параграф о том, что изобразить пожар — значит призывать к поджогу…»
Борис Пастернак — П.Н. Медведеву.
Из письма 30 декабря 1929
Образ оскорбленной девочки, выбросившейся из окна и перелетевшей «в руки черни», дан как символ восставшего времени и олицетворение революции.
- По всей земле осипшим морем грусти,
- Дымясь, гремел и стлался слух о ней,
- Марусе тихих русских захолустий,
- Поколебавшей землю в десять дней.
Именно эти последние страницы «Спекторского» автор считал «самым достойным местом» романа.
«…Из всей рукописи, находящейся сейчас у Вас, самое достойное (поэтически и по-человечески) место — это страницы конца, посвященные тому, как восстает время на человека и обгоняет его. Это была очень трудная, очень неуловимая по своей широте тема, и я доволен ее разрешеньем. Я никогда не расстанусь с сознаньем, что тут и в этой именно форме я о революции ближайшей сказал гораздо больше и более по существу, чем прагматико-хронистической книжкой «1905-й год» — о революции девятьсот пятого года…»
Борис Пастернак. — П.Н. Медведеву.
Из письма 28 ноября 1929
«…Как все это, в общем, тяжело! Сколько кругом ложных карьер, ложных репутаций, ложных притязаний! И неужели я самое яркое в ряду этих явлений? Но я никогда ни на что не притязал. Как раз в устраненье этой видимости, совершенно невыносимой, я стал писать «Охранную грамоту». Я готов быть осужденным и вычеркнутым из поминанья за дело, на основаньи моей действительной наличности, но не иначе. Я никогда победителем себя не чувствовал и об этом не думал. Но и «литературой» не занимался. Отсюда усиленный автобиографизм моих последних вещей: я не любуюсь тут ничем, я отчитываюсь как бы в ответ на обвиненье, потому что давно себя чувствую двойственно и неловко. Поскорей бы довести до конца совокупность этих разъяснительных работ. И тогда я буду надолго свободен, я писательство брошу…»
Борис Пастернак — П.Н. Медведеву.
Из письма 30 декабря 1929
«…После службы к Пастернаку. Узнал от него, что рукопись „Спекторского“ послана в Ленгиз, но Медведев ответил оттуда, что есть какие-то затруднения с печатанием из-за редакционных неувязок. Борис Леонидович смущен: „Переделывать невозможно…“ Кроме того, он очень рассчитывал на получение гонорара…
Он сказал, что когда после написания первых глав он перечитывал рукопись, то «Спекторский» представлялся ему как вещь с реальной фабулой. Но в процессе работы все осложнилось. Думая о конце поэмы, он предполагал, что все устроится, как нужно. «Сейчас же творится такое, что ничего связать нельзя»… Он и теперь считал, что сможет связать конец «Спекторского» с задуманным планом, например, определить героя на службу и пр., но что «это противоречит всему».
«Есть люди, пишущие радостно, но не все же. Для Гоголя всякое писание было трагедией. Я пишу только от несчастья. И так было всегда. Я понимаю, что если смотреть с точки зрения современных требований абсолютно трезво и рассудочно, то все мои писания — бред. Ранние вещи более понятны».
Пастернак сказал далее: «Я хотел бы надолго уйти от всего, если бы был обеспечен. Не стал бы печатать сейчас конец „Спекторского“, дал бы ему отлежаться и переделал бы его. При втором издании „Двух книг“, перечитывая свои стихи в корректуре, я пришел от них в ужас. Футуризм отжил. Для меня живут только стихи, переделанные позднее. Маяковский и Асеев переменились, и я не могу оставаться самим собой. Впрочем, увидев стихи напечатанными, я успокоился.
Я не живу сейчас. Дома, когда ко мне приходят, я в ужасе, так как сам не чувствую себя дома, все временно. Убрал со стен многие произведения отца. Спокойнее только в гостях…»
Лев Горнунг. Из дневниковых записей
«Встреча за встречей»
Пастернака мучило сознание двойственности своего положения при общем догматизме и проработочном характере критики. В 1929 году общественность с восторженным энтузиазмом включилась в кампанию по разоблачению «правой опасности» в литературе, провоцируя и поддерживая истерические потоки самооговаривания. С вызовом человека, доведенного до крайности, Пастернак писал поэту В.М. Саянову, редактору журнала «Звезда», выразившему ему свои симпатии:
«…Ваши слова, что редакция считает меня „одним из наиболее близких и нужных сотрудников Звезды“, лишний раз напоминают мне о ложности моего положенья, угнетающего меня год от году все больше, и в котором я не повинен. Ведь я не вредитель. Книги мои выходят не под крепом, не за слоем матовой кальки. В них все прозрачно. Что же Вы в них нашли актуального и полезного? Разве я не индивидуальность? Мне никогда это не казалось попутной случайностью, от которой можно отвлечься, что-нибудь сохранив в остатке. Но разве это не то, с чем теперь борются с таким воодушевленьем? И как можно признавать меня, если и Британская энциклопедия относится ко мне незаслуженно лестно, в статье о русской литературе[83]. Если бы у меня не было семьи и в нравственном плане я не был средним человеком, то, глядя, что творится кругом, я должен был бы выступить в печати с возраженьями против благожелательной критики. Все это скверная и мучительная загадка…»
«Последним годом поэта» назвал Пастернак 1929 год в «Охранной грамоте». Эту, «из века в век повторяющуюся странность», применительно к Маяковскому 1930-го и Пушкину 1836 года, он характеризовал так:
«…Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.
Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство…
Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще и неназванный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимостью сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть…
Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рождение? Так это смерть?…»
Те же полные трагического недоумения вопросы со всей остротой стояли в это время перед Пастернаком.
«…Я стал отягощать искусство прощальными теоретическими вставками, вроде завещательных истин, в каком-то не оставляющем меня чаяньи моего близкого конца, либо полного физического, либо частичного и естественного, либо же, наконец, невольно-условного…»
Борис Пастернак — Лидии Пастернак.
Из письма 26 февраля 1930
Под прикрывающим страшные предчувствия эвфемизмом Пастернак перечисляет в письме к сестре виды своей возможной гибели: самоубийство, скоропостижная смерть или арест. Пастернак чувствует «языком не победимую тяжесть и еле преодолимый сердечный мрак», против его воли отражающийся в работе. «Какой-то безысходный, не тот, лирически молодой, а окостенело разрастающийся автобиографизм все теснее охватывает все то, что я делаю. И тут кончается искусство».
Предложение, оборванное на резком диссонансе, было гармонически разрешено и озарено светом лирики.
- О, знал бы я, что так бывает
- Когда пускался на дебют,
- Что строчки с кровью — убивают,
- Нахлынут горлом и убьют.
- От шуток с этой подоплекой
- Я б отказался наотрез.
- Начало было так далеко,
- Так робок первый интерес.
- Но старость — это Рим, который
- Взамен турусов и колес
- Не читки требует с актера,
- А полной гибели всерьез.
- Когда строку диктует чувство,
- Оно на сцену шлет раба,
- И тут кончается искусство,
- И дышат почва и судьба.
1932
«…Как перерождает, каким пленником времени делает эта доля, это нахождение себя во всеобщей собственности, эта отовсюду прогретая теплом неволя. Потому что и в этом извечная жестокость несчастной России: когда она дарит кому-нибудь любовь, избранник уже не спасется с глаз ее. Он как бы попадает перед ней на римскую арену, обязанный ей зрелищем за ее любовь. И если от этого не спасся никто, что же сказать мне, любовь к которому затруднена ей так чрезвычайно, как любовь Германии к Heine… Я назвал тебе мой долг перед судьбой…»
Борис Пастернак — Жозефине Пастернак.
Из письма 11 февраля 1932
«…Я буду говорить сейчас глупости. Но допусти их в их мыслимости, в идеале. Чем больше я буду совершенствоваться, чем ближе буду к правде, тем больше буду говорить о родине, тем больше я буду ее куском. Тем вернее тогда, что я причиню ей страданье, что ей со мною будет трудно, что застенчивая (и тем понятная мне и прекрасная) она будет дошедшее до нее скрывать и отворачиваться от меня всякий раз, как между нами будут вырастать природные ее ревнители, перед легкостью и простотой которых ей стыдно будет трудности, которой я ее наградил. Веянье племенного недружелюбья почти никогда меня не касалось. Да я и не увидел бы в нем обиды. Сознанье же того, что чем естественнее и безотчетней меня тянет к русской памяти, тем неестественней ей будет со мной — составляет невеселый круг, о котором я никогда не забываю…»
Борис Пастернак — Марине Цветаевой.
Из письма 29 июня 1928
«…На днях думал о смерти, и конечно твое «Знаю умру на заре[84]» неотступно звучало, я был близок слезам. С тех твоих слов, в том тоне, я записал в духе того, что говорю сейчас.
- Рослый стрелок, осторожный охотник,
- Призрак с ружьем на разливе души!
- Не добирай меня сотым до сотни,
- Чувству на корм по частям не кроши.
- Дай мне подняться над смертью позорной.
- С ночи одень меня в тальник и лед.
- Утром спугни с мочажины озерной.
- Целься, все кончено! Бей меня в лет.
- За высоту ж этой звонкой разлуки,
- О пренебрегнутые мои,
- Благодарю и целую вас, руки
- Родины, робости, дружбы, семьи.
То есть они-то и подымают на высоту.
Твое, все твое, не оскорбляйся, я не крал, не помню, откуда. И вообще это не так, потому что слова «Бей меня в лёт» (в них весь смысл) должны быть восклицаньем, отделенной точкой, то есть что-то вроде того: Стой до скончания. Бей меня в лёт!
Я это тебе не как стихи (слабые!), а чтобы услышала, что мне грустно…»
Борис Пастернак — Марине Цветаевой.
Из письма 29 июня 1928
«…Общеизвестно слово „самоанализ“ и достойная оценка ему давно и навсегда дана. Меньше говорится о том сумасшествии, о том „самоанализе“, который без ведома и тайно от нас, пока нас спасает привычка, и вдруг открыто на наших глазах, когда мы остаемся одни, производит вся наша нервная система, все, что попадает в объектив, когда нас снимают во весь рост. Этот распад, этот от здоровья неотличимый бред, дает отдаленное понятье о грязи и позоре, заключающихся в смерти, в смерти вообще, не в моей для Вас, а в моей без меня. Стараешься держаться на достойной высоте над этим переполохом горячих и щемящих частностей. Начинаешь думать, что прежде, да и всю жизнь, тебя поддерживали на ней друзья, родительская семья, потом твоя собственная, то есть всегда чьи-то другие руки, которые следовало целовать по тому аду, от которого они тебя спасали, и которые не всегда ценил, как они того заслуживали…»
Борис Пастернак — Раисе Ломоносовой.
Из письма 15 июня 1928
«…Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли…
Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья…
За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.
По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню…»
Борис Пастернак.
Из «Охранной грамоты»
Смерть поэта
- Не верили, — считали — бредни,
- Но узнавали: от двоих,
- Троих, от всех. Равнялись в строку
- Остановившегося срока
- Дома чиновниц и купчих,
- Дворы, деревья и на них
- Грачи, в чаду от солнцепека
- Разгоряченно на грачих
- Кричавшие, чтоб дуры впредь не
- Совались в грех.
- И как намедни
- Был день. Как час назад. Как миг
- Назад. Соседний двор, соседний
- Забор, деревья, шум грачих.
- Лишь был на лицах влажный сдвиг,
- Как в складках порванного бредня.
- Был день, безвредный день, безвредней
- Десятка прежних дней твоих.
- Толпились, выстроясь в передней,
- Как выстрел выстроил бы их.
- Как сплющив, выплеснул из стока б
- Лещей и щуку минный вспых
- Шутих[85], заложенных в осоку,
- Как вздох пластов нехолостых.
- Ты спал, постлав постель на сплетне,
- Спал и, оттрепетав, был тих, —
- Красивый, двадцатидвухлетний,
- Как предсказал твой тетраптих[86].
- Ты спал, прижав к подушке щеку,
- Спал, — со всех ног, со всех лодыг
- Врезаясь вновь и вновь с наскоку
- В разряд преданий молодых.
- Ты в них врезался тем заметней,
- Что их одним прыжком достиг.
- Твой выстрел был подобен Этне
- В предгорьи трусов и трусих.
- Друзья же изощрялись в спорах,
- Забыв, что рядом — жизнь и я.
- Так что ж еще? Что ты припер их
- К стене, и стер с земли, и страх
- Твой порох выдает за прах?
- Но мрази только он и дорог.
- На то и рассуждений ворох,
- Чтоб не бежала за края
- Большого случая струя,
- Чрезмерно скорая для хворых.
- Так пошлость свертывает в творог
- Седые сливки бытия.
1930
«…Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то прорывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к временам, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал…
Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.
И тогда я с той же необязательностью подумал, что человек этот был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови…»
Борис Пастернак.
Из «Охранной грамоты»
Смерть Маяковского предельно усугубила душевный мрак Пастернака и подтвердила его безысходность. Прощаясь с Маяковским, он прощался со своей молодостью, со всем тем, что наполняло его жизнь и служило оправданием, прощался с живым, полноприемным искусством. Это подтолкнуло его давнее желание съездить за границу, повидать родителей и, может быть, Марину Цветаеву. Но начав хлопоты, он вскоре убедился, что разрешения ему не дают. В крайности он решился просить помощи Горького.
«…До этой зимы у меня было положено, что как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался. Но теперь чувствую, — обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а может быть, и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и я не знаю, — когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть, поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец. Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, — вот моя просьба…
Надо ли говорить, в каких чувствах я пишу Вам, и как равно готов принять любой Ваш ответ, потому что с радостью признаю над собой право даже и осудить меня за желанье и быть о нем особого мненья. Но если бы Вы нашли нужным замолвить обо мне, Ваше слово всесильно, — я знаю. Будьте же моей судьбою в ту или другую сторону. В обоих случаях равное спасибо».
Борис Пастернак — М. Горькому.
Из письма 31 мая 1930
Горький ответил отказом:
«…Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу, — подождите!..»
Пастернак не стал оспаривать высказанного недоверия.
«…Дорогая Марина!
Я хочу, чтобы ты это знала. Этой весной я хлопотал и получил отказ. Я писал Г «орькому», слово которого в этих вопросах всесильно, и вчера получил ответ. Под разными предлогами он отклоняет мою просьбу и советует подождать. Не могу, но хотел бы научиться верить, что это слово что-нибудь значит, то есть что время изменит что-то и приблизит, что это не навсегда, что попытку можно будет возобновить…»
Борис Пастернак — Марине Цветаевой.
Из письма 20 июня 1930
Из недавно опубликованной переписки Горького с наркомом внутренних дел Г.Г. Ягодой, известно, что он сообщал своему адресату, что отказал в просьбе Пастернаку, человеку «безусловно порядочному», опасаясь, что тот, в силу своего «безволия» может поддаться влиянию «белоэмигрантов».
В письме к Ромену Роллану осенью 1930 года Пастернак писал, что своим отказом Горький его «задушил».
«…Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилен сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в созданьи настоящего и живой любви у меня к нему нет.
Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мной будет…»
Б. Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 11 июня 1930
Лишившись возможности поехать в Германию, Пастернак присоединился к своим друзьям, собиравшимся в Ирпень под Киевом. В год «великого перелома», то есть коллективизации деревни, ждали голода и надеялись, что на Украине будет сытнее. Удобные комнаты, казавшиеся раем по сравнению с московской скученностью коммунальной квартиры, успешная работа по доработке «Спекторского» в сочетании с оживленными разговорами с друзьями, позволили Пастернаку по-новому взглянуть на окружающее.
Сложилась живая атмосфера общения с людьми, глубоко ценившими и любившими его. Это были замечательный музыкант Г.Г. Нейгауз с красавицей женой и детьми, талантливый историк философии В.Ф. Асмус тоже с женой и дочерью, семья младшего брата Александра и его шурин, историк литературы и германист Н.Н. Вильям-Вильмонт. Сочетание музыки в блестящем исполнении Нейгауза, легкости и артистичности его характера с глубокомыслием Асмуса и красноречием Вильям-Вильмонта представали истинным праздником братства и дружбы, которому век назад поклонялись поэты пушкинской поры. Столетие Болдинской осени и маленькой трагедии Пушкина «Пир во время чумы» рождало непосредственные ассоциации с картинами «сплошной коллективизации», полным ходом шедшей вокруг. Недавняя гибель Маяковского, чтение и разбор его стихов вызывали мысли о бессмертии из диалогов Платона.
Лето
- Ирпень — это память о людях и лете,
- О воле, о бегстве из-под кабалы,
- О хвое на зное, о сером левкое
- И смене безветрия, вёдра и мглы.
- О белой вербене, о терпком терпеньи
- Смолы; о друзьях, для которых малы
- Мои похвалы и мои восхваленья,
- Мои славословья, мои похвалы.
- Пронзительных иволог крик и явленье
- Китайкой и углем желтило стволы,
- Но сосны не двигали игол от лени
- И белкам и дятлам сдавали углы.
- Сырели комоды, и смену погоды
- Древесная квакша вещала с сучка,
- И балка у входа ютила удода,
- И, детям в угоду, запечье — сверчка.
- В дни съезда шесть женщин топтали луга.
- Лениво паслись облака в отдаленьи.
- Смеркалось, и сумерек хитрый манёвр
- Сводил с полутьмою зажженный репейник,
- С землею — саженные тени ирпенек
- И с небом — пожар полосатых панёв.
- Смеркалось, и, ставя простор на колени,
- Загон горизонта смыкал полукруг.
- Зарницы вздымали рога по-оленьи,
- И с сена вставали и ели из рук
- Подруг, по приходе домой тем не мене
- От жуликов дверь запиравших на крюк.
- В конце, пред отъездом, ступая по кипе
- Листвы облетелой в жару бредовом,
- Я с неба, как с губ, перетянутых сыпью,
- Налет недомолвок сорвал рукавом.
- И осень, дотоле вопившая выпью,
- Прочистила горло; и поняли мы,
- Что мы на пиру в вековом прототипе —
- На пире Платона во время чумы.
- Откуда же эта печаль, Диотима?
- Каким увереньем прервать забытье?
- По улицам сердца из тьмы нелюдимой!
- Дверь настежь! За дружбу, спасенье мое!
- И это ли происки Мэри-арфистки,
- Что рока игрою ей под руки лег
- И арфой шумит ураган аравийский,
- Бессмертья, быть может, последний залог.
1930
Под именем Диотимы, «сведущей женщины» из платоновского диалога «Пир», в стихотворении выведена жена Асмуса Ирина Сергеевна. Под именем Мэри из «Пира во время чумы» Пушкина — пианистка Зинаида Николаевна Нейгауз. Последние слова стихотворения представляют собой перифраз слов Председателя из «Пира во время чумы» Пушкина.
«…А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, — работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского Голода[87], но мир здоровый и ровный…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 20 октября 1930
«…Вечерами собирались и слушали музыку. Борис Леонидович просто обожал игру Генриха Густавовича, а Нейгауз был влюблен в его стихи и часто читал их мне вслух наизусть, пытаясь приобщить меня к ним.
Однажды он выступал в Киеве, играл E-moll-ный концерт Шопена для фортепиано с оркестром. Надвигалась гроза, сверкали молнии. Концерт был назначен в городском саду под открытым небом, и мы боялись — не разбежится ли публика, но дождь хлынул после его исполнения. Посвященное Нейгаузу стихотворение Бориса Леонидовича «Баллада» навеяно именно этим концертом…»
Зинаида Пастернак.
Из «Воспоминаний»
В 1950-х годах во время работы над романом «Доктор Живаго» Пастернак вспоминал время своей страстной влюбленности в Зинаиду Николаевну Нейгауз, которая охватила его летом 1930 года, в атмосфере противоречивых чувств подступавших к ним отовсюду гибели и несчастья. Он выразил это в романе, говоря о влечении Юрия Живаго к Ларе.
Открытость характера не позволяла ему делать тайны из своего увлечения. Зинаида Николаевна вспоминала:
«…Вскоре по приезде в Москву он пришел к нам в Трубниковский. Он зашел в кабинет к Генриху Густавовичу, закрыл дверь, и они долго беседовали. Когда он ушел, я увидела по лицу мужа, что что-то случилось. На рояле лежала рукопись двух баллад. Одна была посвящена мне, другая Нейгаузу. Оба стихотворения мне страшно понравились. Генрих Густавович запер дверь и сказал, что ему надо серьезно со мной поговорить. Оказалось, что Борис Леонидович приходил сказать ему, что он меня полюбил и это чувство у него никогда не пройдет. Он еще не представлял себе, как все это сложится в жизни, но он вряд ли сможет без меня жить. Они сидели и плакали, оттого, что очень любили друг друга и были дружны.
Я рассмеялась и сказала, что это все несерьезно. Я просила мужа не придавать этому разговору никакого значения, говорила, что этому не верю, а если это правда, то все скоро пройдет…»
Баллада
- Дрожат гаражи автобазы,
- Нет-нет, как кость, взблеснет костел.
- Над парком падают топазы,
- Слепых зарниц бурлит котел
- В саду — табак, на тротуаре —
- Толпа, в толпе — гуденье пчел.
- Разрывы туч, обрывки арий,
- Недвижный Днепр, ночной Подол.
- «Пришел», — летит от вяза к вязу.
- И вдруг становится тяжел,
- Как бы достигший высшей фазы
- Бессонный запах матиол.
- «Пришел», — летит от пары к паре,
- «Пришел», — стволу лепечет ствол.
- Потоп зарниц, гроза в разгаре,
- Недвижный Днепр, ночной Подол.
- Удар, другой, пассаж, — и сразу
- В шаров молочный ореол
- Шопена траурная фраза
- Вплывает, как больной орел.
- Под ним — угар араукарий[88],
- Но глух, как будто что обрел,
- Обрывы донизу обшаря,
- Недвижный Днепр, ночной Подол.
- Полет орла как ход рассказа.
- В нем все соблазны южных смол
- И все молитвы и экстазы
- За сильный и за слабый пол.
- Полет — сказанье об Икаре.
- Но тихо с круч ползет подзол,
- И глух, как каторжник на Каре[89],
- Недвижный Днепр, ночной Подол.
- Вам в дар баллада эта, Гарри.
- Воображенья произвол
- Не тронул строк о вашем даре:
- Я видел все, что в них привел.
- Запомню и не разбазарю:
- Метель полночных матиол.
- Концерт и парк на крутояре.
- Недвижный Днепр, ночной Подол.
1930
- Красавица моя, вся стать,
- Вся суть твоя мне по сердцу,
- Вся рвется музыкою стать,
- И вся на рифмы просится.
- А в рифмах умирает рок,
- И правдой входит в наш мирок
- Миров разноголосица.
- И рифма не вторенье строк,
- А гардеробный номерок,
- Талон на место у колонн
- В загробный гул корней и лон.
- И в рифмах дышит та любовь,
- Что тут с трудом выносится,
- Перед которой хмурят бровь
- И морщат переносицу.
- И рифма не вторенье строк,
- Но вход и пропуск за порог,
- Чтоб сдать, как плащ за бляшкою
- Болезни тяжесть тяжкую,
- Боязнь огласки и греха
- За громкой бляшкою стиха.
- Красавица моя, вся суть,
- Вся стать твоя, красавица,
- Спирает грудь и тянет в путь,
- И тянет петь и — нравится.
- Тебе молился Поликлет[90].
- Твои законы изданы.
- Твои законы в далях лет.
- Ты мне знакома издавна.
1931
«…Я оставил семью, жил одно время у друзей (и у них кончил „Охранную грамоту“), теперь у других, в квартире Пильняка, в его кабинете. Я ничего не могу сказать, потому что человек, которого я люблю, не свободен, и это жена друга, которого я никогда не смогу разлюбить. И все-таки это не драма, потому что радости здесь больше, чем вины и стыда…»
Борис Пастернак — Сергею Спасскому.
Из письма 15 февраля 1931
- Любимая, — молвы слащавой,
- Как угля, вездесуща гарь.
- А ты — подспудной тайной славы
- Засасывающий словарь.
- А слава — почвенная тяга.
- О, если б я прямей возник!
- Но пусть и так, — не как бродяга,
- Родным войду в родной язык.
- Теперь не сверстники поэтов,
- Вся ширь проселков, меж и лех
- Рифмует с Лермонтовым лето
- И с Пушкиным гусей и снег.
- И я б хотел, чтоб после смерти,
- Как мы замкнемся и уйдем,
- Тесней, чем сердце и предсердье,
- Зарифмовали нас вдвоем.
- Чтоб мы согласья сочетаньем
- Застлали слух кому-нибудь
- Всем тем, что сами пьем и тянем
- И будем ртами трав тянуть.
1931
Борис Пастернак — Зинаиде Нейгауз
30 апреля 1931.
«Родная моя, удивительная, бесподобная, большая, большая!
Сегодня тридцатое, сейчас утро. Мне хочется все это запомнить. Все ушли из дому, я один с Аидой в Борисовой квартире. Вчера были гости, утром стол стоял еще раздвинутый на две доски под длинной белой скатертью, весь солнечный, заставленный серебром и зеленым стеклом, с двумя горшками левкоев, дверь на балкон была открыта, там тоже было солнце, стекло и зелень.
Через час я пойду к Жене и проведу у нее часть дня, больше, чем бывал там эти месяцы, когда забегал к ней редко и лишь на минутку.
Этим начнется наше прощанье с ней. Я не знал, что оно будет так легко. Что оно будет ясною спокойной весной, среди стихов, вызванных чем-либо столь огромным, маловероятным, очевидным, как ты, со взглядом, открыто и просто вперенным в наше время, с такою верой в землю и ее смысл.
Я не знал, что перед разлукой с ней буду полон чем бы то ни было подобным тебе, — буду переполнен тобою — буду разливать тебя, упрощающую все до полного счастья, — все, чего касается твое влияние, все, на что падает твоя волна. Я не знал, что буду избавлен при прощаньи от душевных подмен, от легкости нелюбви или прирожденного бесчувствия, — но что это будет ничем не омраченное светлое прощанье с дорогим: в мире, равном себе везде, везде живым и милостивым, равном себе без конца, верном и полном тобою…»
Письма писались из дома Бориса Пильняка, который предоставил Пастернаку на время своего отъезда в Америку свой кабинет. После возвращения хозяина, Пастернак еще некоторое время жил у Пильняка. Аида — имя собаки Пильняка, большого египетского дога.
12 мая 1931.
«Сейчас вернулся[91], телеграмму отправил. Все время вижу вас обоих, тебя и Адика, с закатом, англичанином и пр. Как чудесны эти первые часы пути, когда так облагораживающе сказывается усталость и вдруг получаешь право молчать, сидеть на мягком диване и засматриваться на быстро сменяющиеся картины — право, как бы заслуженное суматохой сборов и волненьями большого, рано начавшегося дня. Природа в дороге кажется наградой, которой тебя признали достойной, это возвышает и трогает — почти что подымаешься в собственном мнении, — ты замечала?…
А когда возвращаюсь на Волхонку, вижу Женю. Я вижу ее превращающим взглядом разлуки, и она у меня получается такой, какой была гимназисткой — прелестной, беззащитной, принимающей на себя мир, как дуновенье ветра или тень, а не вонзающей в него взгляд, или замысел, или деятельное желанье. И сердце исходит у меня болью о ней. О ней, а не по ней. Вот в том-то и дело, что ты есть, а то — должно было быть, и это не теперь, а было всегда. И это не в укор ей. Я мало знал людей, которых бы так стоило и надо было бы любить, как ее, — и не за нравственные только качества, а и за внешность: за историю ее внешности, за судьбу ее внешности и ее метаморфоз.
Но так именно и любит большинство людей. Любят любовью дополняющей, довоспитывающей, отделяются завесою взаимных снисхождений от природы и именно эту завесу зовут жизнью. Любят впрок за то, что набегут года и привычки и осядут прошлым, и прошлого будет так много, что оно станет многотомной людской повестью, будет чем зачитываться и что вспоминать, любят за людскую повесть, которую пишет время, пишет независимо от того, о ком ее пишет и как бы ни были малы описываемые и их помощь пишущему. И сами ничего не делают. Вечно делают за другого и ждут, что он будет делать за тебя, и эту взаимопомощь, извиняющую несовершенство, зовут любовью, а поклоненье несовершенству — нравственностью. Большинство любит любовью должной, а не той, которая есть.
Больше всего меня поразило, что объем моего чувства к тебе существовал раньше, чем я его измерил, что я любил уже тебя до того, как полюбить. Его не надо было хотеть, звать или желать. Твоей самодеятельной красоте не надо было помогать. Она сама пробарабанила мне тогда во сне невероятную радость того, что ты существуешь: что в Ирпене есть дачник, которого Ирина Сергеевна[92] и Женя стали встречать раньше, чем увидал его я, и этот дачник — мое чувство к тебе, моя судьба с тобою, тогда еще неизвестная. Это, с немыслимой чистотой, была любовь, которая есть, а не должна быть…»
28 мая 1931
«Лялюся, золото мое!
Двенадцать часов, пишу тебе перед сном, вижу тихий твой дворик[93], а под окном бредовая, полная грохота и пыли, даже и ночью, — Москва.
Лялечка, к вечеру в дороге мне стало невозможно тоскливо без тебя, мне так стало потому, что день был легкий, облачный, мы ехали лесами, перед тем освеженными дождем, одуряюще пахло березой, и соловьи заглушали шум поезда — и вот эта благодатная немучительность обычно мучительного пути и это свищущее наслажденье, просыревшее до недр и звонкое на версты, переполняло тою же благодарностью, что и ты, и я не знал, куда деваться от нежности к тебе: я чуть не плакал от головокружительной, выпрямляющейся во весь твой цвет, и рост, и голос тоски, и взял письмо твое, единственное полученное в Москве перед отъездом (я возил его с собой в Киев), и как ложиться спать, положил его на грудь под рубашку.
Лялечка, страсть к тебе есть огромное, заплаканное, безмолвно ставящее людей на колени знанье, и любить значит любить тебя, любить же тебя значит существовать в посланничестве, в посланничестве ночи, леса и соловьиного свиста.
Милая, жизнь моя, ты — моя жизнь впервые непререкаемая, как до сих пор — в одиночестве. А по приезде нашел несколько писем на столе, и среди них твои. О, ведь их два, а ты не сказала мне, и я ждал одного! Чтоб никогда, никогда ты больше не касалась своего почерка и тем паче своего голоса в письмах! Ты знаешь, первое по времени так потрясло меня, что, не вскрывая второго, я бросился по телефону упрашивать, чтобы освободили меня от Магнитогорска[94].
Ты знаешь, я бы остался в Москве, но вдвоем с тобою, без отвлекающего соседства спутников и впятером обсуждаемых дорожных впечатлений. И моими мольбами так прониклись, что отказали не сразу, а в некотором страхе за мой рассудок пообещали сделать все возможное и дать ответ к вечеру. Теперь я знаю: переделать этого нельзя, — говорят, вся бригада бы развалилась и никто бы не поехал. Наверное, врут, я ничего не понимаю тут — факт тот, что меня не отпустили. Но позволили, если мне станет невтерпеж, прервать поездку и даже улететь назад на аэроплане. Этому придают какое-то политическое значенье. Но на совещанье я предупредил, чтобы ничего «нового» от меня не ждали, что я еду с готовой и очень личной верностью жизни и ломать поэта в себе (тебе) не собираюсь, как бы ни было велико строительство, которое увижу…
Милая белая милота моя, бездонно чистая, скромная, покорная, равная, достойная, захватывающая, тихая, тихая — золотая моя! Я все силы приложу, чтобы Лялик поехал с нами[95]. Пока об этом ни слова. Я не знаю, когда буду назад и как все сложится. Тогда видно будет, я ли с ним заеду за тобой в Киев или ты за нами сюда. Но путешествие с ним будет для меня настоящей радостью, и ты увидишь, как я с этим справлюсь! Но письма твои!! Как мне это сказать, чтобы ты поверила? Ты пишешь так чудно, как мне не дано в мечтах: я хотел бы уметь так выражать себя, так нерастраченно-полно, сдержанно-взрывчато, грустно-содержательно. Ты меня многому научишь. Мы удивительно суждены друг другу: тут что-то настолько неожиданно родное, что иногда мне кажется — что-то откроется впоследствии, как в драмах с запоздалыми узнаваньями, какая-то вдруг все объясняющая биографическая подробность…»
- Годами когда-нибудь в зале концертной
- Мне Брамса сыграют, — тоской изойду.
- Я вздрогну, я вспомню союз шестисердый[96],
- Прогулки, купанье и клумбу в саду.
- Художницы робкой, как сон, крутолобость,
- С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб.
- Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
- Художницы облик, улыбку и лоб.
- Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся,
- Я вспомню покупку припасов и круп,
- Ступеньки террасы и комнат убранство,
- И брата, и сына, и клумбу, и дуб.
- Художница пачкала красками траву,
- Роняла палитру, совала в халат
- Набор рисовальный и пачки отравы,
- Что «Басмой» зовутся и астму сулят[97].
- Мне Брамся сыграют, — я сдамся, я вспомню
- Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
- Балкон полутемный и комнат питомник,
- Улыбку, и облик, и брови, и рот.
- И сразу же буду слезами увлажен
- И вымокну раньше, чем выплачусь я.
- Горючая давность ударит из скважин,
- Околицы, лица, друзья и семья.
- И станут кружком на лужке интермеццо[98],
- Руками, как дерево, песнь охватив,
- Как тени, вертеться четыре семейства
- Под чистый, как детство, немецкий мотив.
1931
- Любить иных — тяжелый крест,
- А ты прекрасна без извилин[99],
- И прелести твоей секрет
- Разгадке жизни равносилен.
- Весною слышен шорох снов
- И шелест новостей и истин.
- Ты из семьи таких основ.
- Твой смысл, как воздух, бескорыстен.
- Легко проснуться и прозреть,
- Словесный сор из сердца вытрясть
- И жить, не засоряясь впредь,
- Все это — не большая хитрость.
1931
- Никого не будет в доме,
- Кроме сумерек. Один
- Зимний день в сквозном проеме
- Незадернутых гардин.
- Только белых мокрых комьев
- Быстрый промельк маховой.
- Только крыши, снег и, кроме
- Крыш и снега, — никого.
- И опять зачертит иней,
- И опять завертит мной
- Прошлогоднее унынье
- И дела зимы иной,
- И опять кольнут доныне
- Не отпущенной виной,
- И окно по крестовине
- Сдавит голод дровяной.
- Но нежданно по портьере
- Пробежит вторженья дрожь.
- Тишину шагами меря,
- Ты, как будущность, войдешь.
- Ты появишься у двери
- В чем-то белом, без причуд,
- В чем-то впрямь из тех материй,
- Из которых хлопья шьют.
1931
«…Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женой поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец.
Вскоре в двух семьях, моей и другой дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе.
Тогда Кавказ, Грузия, отдельные ее люди, ее народная жизнь явились для меня совершенным откровением. Все было ново, все удивляло. В глубине всех уличных пролетов Тифлиса нависавшие темные каменные громады. Вынесенная из дворов на улицу жизнь беднейшего населения, более смелая, менее прячущаяся, чем на севере, яркая, откровенная. Полная мистики и мессианизма символика народных преданий, располагающая к жизни воображением и, как в католической Польше, делающая каждого поэтом. Высокая культура передовой части общества, умственная жизнь, в такой степени в те годы уже редкая. Благоустроенные уголки Тифлиса, напоминавшие Петербург, гнутые в виде корзин и лир оконные решетки бельэтажей, красивые закоулки. Преследующая по пятам и везде настигающая дробь бубна, отбивающего ритм лезгинки. Козлиное блеянье волынки и каких-то других инструментов. Наступление южного городского вечера, полного звезд и запахов из садов, кондитерских и кофеен…».
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»
- Я видел, чем Тифлис
- Удержан по откосам,
- Я видел даль и близь
- Кругом под абрикосом.
- Он был во весь отвес,
- Как книга с фронтисписом,
- На языке чудес
- Кистями слив исписан.
- По склонам цвел анис,
- И, высясь пирамидой,
- Смотрели сверху вниз
- Сады горы Давида.
- Я видел блеск светца
- Меж кадок с олеандром,
- И видел ночь: чтеца
- За старым фолиантом.
1936
- Пока мы по Кавказу лазаем,
- И в задыхающейся раме
- Кура ползет атакой газовою
- К Арагве, сдавленной горами,
- И в августовский свод из мрамора,
- Как обезглавленных гортани,
- Заносят яблоки адамовы
- Казненных замков очертанья,
- Пока я голову заламываю,
- Следя, как шеи укреплений
- Плывут по синеве сиреневой
- И тонут в бездне поколений,
- Пока, сменяя рощи вязовые,
- Курчавится лесная мелочь,
- Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
- Кавказ, Кавказ, о что мне делать?
- Объятье в тысячу охватов,
- Чем обеспечен твой успех?
- Здоровый глаз за веко спрятав,
- Над чем смеешься ты, Казбек?
- Когда от высей сердце ёкает
- И гор колышутся кадила,
- Ты думаешь, моя далекая,
- Что чем-то мне не угодила.
- И там, у Альп в дали Германии[100],
- Где также чокаются скалы,
- Но отклики еще туманнее,
- Ты думаешь, — ты оплошала?
- Я брошен в жизнь, в потоке дней
- Катящую потоки рода,
- И мне кроить свою трудней,
- Чем резать ножницами воду.
- Не бойся снов, не мучься, брось.
- Люблю и думаю и знаю.
- Смотри: и рек не мыслит врозь
- Существованья ткань сквозная.
1931
В путешествии по Кавказу Пастернака не оставляла мысль об оставленной семье, уехавшей на лето в Германию к его родителям. Это стихотворение и еще несколько в книге обращены к жене, очень тяжело переживавшей уход мужа.
Во «Второе рождение», как вскоре стала называться эта книга, вошли стихотворения, написанные в 1930–1932 годах. В ней сказалась мужественная решимость писать по-новому, преодолевая собственные навыки, и жить, не глядя на опасности и перемены. Сознание рискованности этого пути, подчиненного внеэстетическим задачам и нравственному долгу художника, заявлено со всей определенностью в стихотворении «Столетье с лишним не вчера…» «Столетье с лишним» отделяет это стихотворение от «Стансов» Пушкина 1826 года, в которых он излагал свои надежды на новое царствование:
- В надежде славы и добра
- Гляжу вперед я без боязни:
- Начало славных дел Петра
- Мрачили мятежи и казни.
Те же надежды на близкие изменения в жизни страны выражены в стихах Пастернака:
- Столетье с лишним — не вчера,
- А сила прежняя в соблазне
- В надежде славы и добра
- Глядеть на вещи без боязни.
- Хотеть, в отличье от хлыща
- В его существованьи кратком,
- Труда со всеми сообща
- И заодно с правопорядком.
- И тот же тотчас же тупик
- При встрече с умственною ленью,
- И те же выписки из книг,
- И тех же эр сопоставленье.
- Но лишь сейчас сказать пора,
- Величьем дня сравненье разня:
- Начало славных дней Петра
- Мрачили мятежи и казни.
- Итак, вперед, не трепеща
- И утешаясь параллелью,
- Пока ты жив, и не моща,
- И о тебе не пожалели.
1931
Новая книга Пастернака ориентировалась на широкую публику и отличалась большей доступностью, что делало ее более уязвимой. Сказывалась также «опасность» провозглашенной в ней творческой простоты.
- Есть в опыте больших поэтов
- Черты естественности той,
- Что невозможно, их отведав,
- Не кончить полной немотой.
- В родстве со всем, что есть, уверясь,
- И знаясь с будущим в быту,
- Нельзя не впасть к концу, как в ересь,
- В неслыханную простоту.
- Но мы пощажены не будем,
- Когда ее не утаим,
- Она всего нужнее людям,
- Но сложное понятней им.
Отсылка к «опыту больших поэтов» вскрывает соотнесенность книги «Второе рождение» с «вековым прототипом» русской классической поэзии. Так же, как поэты прошлого века, Пастернак понимал, что «небережливое многословье», которым прикрывается безличье, «кажется доступным потому, что оно бессодержательно. Что развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы». Эти слова из «Охранной грамоты» служат прямым комментарием к приведенным стихам, плохо понимаемым, хотя и часто цитируемым. Насколько опасна эта «неслыханная содержательность», или иными словами, «неслыханная простота», подтверждалось на каждом шагу, и Пастернак знал, что «мы пощажены не будем».
«…Мою деятельность объявили бессознательной вылазкой классового врага, мое понимание искусства — утверждением, что оно при социализме, то есть вне индивидуализма, немыслимо, — оценки в наших условиях малообещающие, когда книги мои запрещены в библиотеках…»
Борис Пастернак — Жозефине Пастернак.
Из письма 11 февраля 1932
10 мая 1932
«…Позади Музея изобразительных искусств столкнулся с Борисом Пастернаком. Давно не видался с ним. Он почему-то в расстроенном состоянии. Сразу стал жаловаться на трудности жизни. Сказал: „Пора помирать. Все так трудно: и материально, и нравственно. И комнатно, и в смысле семьи“. Говорил, что история с его разводом вызвана большим чувством, но все разбивается о современную жизнь. И писать он по-настоящему перестал. А чтоб писать то, что сейчас обычно, нужно немного больше творческого подъема, чем вот для этого разговора со мной. И снова повторил, что приходит к заключению, что пора помирать…
В Москву на гастроли из Германии приехал пианист Лео Сирота… В программе были фортепианные фрагменты из балета Игоря Стравинского «Петрушка» и что-то другое, что меня заинтересовало. Концерт был в зале Дома ученых…
Когда кончился концерт и публика еще не успела разойтись, кто-то из присутствующих вскочил на эстраду и закричал на весь зал: «Товарищи, здесь в зале находится поэт Пастернак, давайте попросим его прочесть стихи!» Публика откликнулась аплодисментами и возгласами: «Просим, просим!» По проходу к эстраде быстрым шагом подошел Борис Леонидович. Ему помогли забраться на эстраду, и он, смущенно улыбаясь и теребя волосы, пытался отказаться и бормотал: «Ну зачем это, я не знаю, что читать». И вдруг, поглядев в глубь зала с высоты эстрады, громко спросил: «Зина, как ты думаешь, что мне читать?» При этих словах все головы, как по команде, повернулись назад, и Зинаида Николаевна, вторая жена Пастернака, оказалась в центре внимания. Конечно, это привело ее в раздраженное состояние, и мы услышали из последних рядов зала недовольный голос: «Ну почем я знаю, читай что хочешь!»
Вероятно, этих ее слов было достаточно, и Борис Леонидович начал читать. Он прочел много стихов (к сожалению, я не успел записать каких), с подъемом, своим громким, немного тягучим, но таким знакомым и единственным голосом. Успех был, как всегда, огромный. Аплодировали и просили читать еще и еще…»
Лев Горнунг. Из дневниковых записей
«Встреча за встречей»
«…Годы моего первого знакомства с грузинской лирикой составляют особую, светлую и незабываемую страницу моей жизни. Воспоминания о толках и побуждениях, вызвавших эти переводы, а также подробности обстановки, в которой они производились, слились в целый мир, далекий и драгоценный…»
Борис Пастернак.
Из статьи «Несколько слов о новой грузинской поэзии»
- За прошлого порог
- Не вносят произвола.
- Давайте с первых строк
- Обнимемся, Паоло[101]!
- Ни разу властью схем
- Я близких не обидел,
- В те дни вы были всем,
- Что я любил и видел.
- Входили ль мы в квартал
- Оружья, кож и сёдел,
- Везде ваш дух витал
- И мною верховодил.
- Уступами террас
- Из вьющихся глициний
- Я мерил ваш рассказ
- И слушал, рот разиня.
- Не зная ваших строф,
- Но полюбив источник,
- Я понимал без слов
- Ваш будущий подстрочник.
1936
«…Паоло Яшвили замечательный поэт послесимволистского времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно упиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит…
Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет, человеком потрепанным, пожившим.
В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик, Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой.
Как сейчас вижу эту комнату. Да и как бы я ее забыл? Я тогда же в тот вечер, не ведая, какие ужасы ее ждут, осторожно, чтобы она не разбилась, опустил ее на дно души вместе со всем тем страшным, что потом в ней и близ нее произошло.
Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих вместе с судьбой Цветаевой должна была стать самым большим моим горем.
Если Яшвили весь был во внешнем, центробежном проявлении, Тициан Табидзе был устремлен внутрь и каждою своей строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души.
Главное в его поэзии — чувство неисчерпанности лирической потенции, стоящее за каждым его стихотворением, перевес несказанного и того, что он еще скажет, над сказанным. Это присутствие незатронутых душевных запасов создает фон и второй план его стихов и придает им то особое настроение, которым они пронизаны и которое составляет их главную и горькую прелесть. Души в его стихах столько же, сколько ее было в нем самом, души сложной, затаенной, целиком направленной к добру и способной к ясновидению и самопожертвованию…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»
- Еловый бурелом,
- Обрыв тропы овечьей.
- Нас много за столом,
- Приборы, звезды, свечи.
- Как пылкий дифирамб,
- Все затмевая оптом,
- Огнем садовых ламп
- Тицьян Табидзе обдан.
- Сейчас он речь начнет
- И мыслью — на прицеле.
- Он слово почерпнет
- Из этого ущелья.
- Он курит, подперев
- Рукою подбородок,
- Он строг, как барельеф,
- И чист, как самородок.
- Он плотен, он шатен,
- Он смертен, и, однако,
- Таким, как он, Роден
- Изобразил Бальзака.
- Он в глыбе поселен,
- Чтоб в тысяче градаций
- Из каменных пелён
- Все явственней рождаться.
- Свой непомерный дар
- Едва, как свечку, тепля,
- Он — пира перегар
- В рассветном сером пепле.
1936
- Немолчный плеск солей.
- Скалистое ущелье.
- Стволы густых елей.
- Садовый стол под елью.
- На свежем шашлыке
- Дыханье водопада,
- С его, невдалеке
- Гремящей галопадой.
- На хлебе и жарком
- Угар его обвала,
- Как пламя кувырком
- Упавшего шандала[102].
- От говора ключей,
- Сочащихся из скважин,
- Тускнеет блеск свечей,
- Так этот воздух влажен.
- Они висят во мгле
- Сученой ниткой книзу,
- Их шум прибит к скале,
- Как канделябр к карнизу.
1936
В ночь с 13 на 14 мая 1934 года был арестован Осип Мандельштам. Пастернак обратился к заступничеству Бухарина, который упомянул об этом в своем письме Сталину: «О Мандельштаме пишу еще и потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама — и никто ничего не знает». На письме Бухарина Сталин записал: «Кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие».
За несколько дней до распоряжения о пересмотре дела, Сталин позвонил Пастернаку по телефону. Разговор был дословно передан Анне Ахматовой и Надежде Мандельштам и достаточно точно ими записан.
«…Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, — почему Пастернак не обратился в писательские организации „или ко мне“ и не хлопотал о Мандельштаме… Ответ Пастернака: „Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали…“
Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело же не в этом…» — «А в чем же?» — спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. — «О чем?» — «О жизни и смерти», — ответил Пастернак. Сталин повесил трубку…»
Надежда Мандельштам.
Из «Воспоминаний»
Со свойственной Сталину подозрительностью он решил проверить мотивы заступничества Пастернака. Трехминутный разговор носил характер скрытого допроса. По существу дела сразу было сказано, что с Мандельштамом все будет хорошо. Это было исчерпывающим ответом на беспокойство Пастернака, но затем последовали вопросы о характере их отношений и о том, почему не беспокоятся о Мандельштаме писательские организации, — причем Пастернак постарался четко определить ту долю ревнивого соперничества, которая окрашивала их дружбу с Мандельштамом, и дал «точную справку» о том, что писатели не занимаются делами заступничества за арестованных со времени уничтожения политической оппозиции в 1927 году. Вопрос о том, «мастер» ли Мандельштам, рассердил Пастернака своей нелепой постановкой, — будто мастера нужно беречь, а не мастера можно арестовать, — и он отчетливо почувствовал необходимость перевести разговор на другую, более общую тему. Но говорить «о жизни и смерти», то есть о праве человека распоряжаться этими категориями по своей воле, Сталин не захотел.
Пастернак вспоминал впоследствии, что ни одного слова никогда не хотел изменить в своих ответах, довольный тем, что ничем не выдал, что знает причину ареста и что стихи Мандельштама о Сталине были ему известны. Заступничество Пастернака в июне 1934 года отсрочило на несколько лет гибель Мандельштама, ссылка в Чердынь была заменена «минусом». Более позднее, совместное с Ахматовой ходатайство Пастернака в прокуратуру уже не имело никакого действия, и когда в 1938 году последовал новый арест, стало понятно, что хлопоты бесполезны.
«…Однажды Ахматова приехала очень расстроенная и рассказала, что в Ленинграде арестовали ее мужа Пунина. Она говорила, что он ни в чем не виноват, что никогда не участвовал в политике, и удивлению этим арестом не было предела. Боря был очень взволнован. В этот же день к обеду приезжал Пильняк и усиленно уговаривал его написать письмо Сталину. Были большие споры, Пильняк утверждал, что письмо Пастернака будет более действенно, чем его. Сначала думали написать коллективно. Боря никогда не писал таких писем, никогда ни о чем не просил, но увидев волнение Ахматовой, решил помочь поэту, которого высоко ставил. В эту ночь Ахматовой было плохо с сердцем, мы за ней ухаживали, уложили ее в постель, на другой день Боря сам понес написанное письмо и опустил его в кремлевскую будку около четырех часов дня. Успокоенные мы легли спать, а на другое утро раздался звонок из Ленинграда, сообщили, что Пунин уже освобожден и находится дома. Боря еще спал, я влетела радостно в комнату Ахматовой, поздравила ее с освобождением ее мужа. На меня большое впечатление произвела ее реакция — она сказала: „Хорошо“, — повернулась на другой бок и заснула снова.
Мне некуда было девать свою радость и я разбудила Борю. Он был очень рад, что его письмо так подействовало…»
Зинаида Пастернак.
Из «Воспоминаний»
Зинаида Николаевна не запомнила, что одновременно с Н.Н. Пуниным был арестован и сын Ахматовой Лев Гумилев. Это было 28 октября 1935 года. К тому же вместе с письмом Пастернака по совету Пильняка написала письмо и сама Ахматова. Дочь Пунина Ирина Николаевна вспоминала, что ее отец рассказывал, как их разбудили среди ночи и, объявив об освобождении, потребовали немедленно отправляться домой. Лев Николаевич сразу, собрав вещи, ушел, а Николай Николаевич попросил позволения подождать до утра, когда начнут ходить трамваи, но ему резко сказали, что никто не знает, что будет утром и чтобы он немедленно уходил.
Пастернак послал письмо Сталину с благодарностью «за чудесное молниеносное освобождение родных Ахматовой». Но он не мог предполагать тогда, что через несколько лет, один раньше, другой позже, они будут арестованы снова. В августе 1940 года Ахматова приезжала хлопотать о сыне и виделась с Пастернаком, который помогал ей в этом.
«Дорогая, дорогая Анна Андреевна!
Могу ли я что-нибудь сделать, чтобы хоть немного развеселить Вас и заинтересовать существованьем в этом снова надвинувшемся мраке, тень которого с дрожью чувствую ежедневно и на себе. Как Вам напомнить с достаточностью, что жить и хотеть жить (не по-какому-нибудь еще, а только по-Вашему) Ваш долг перед живущими, потому что представления о жизни легко разрушаются и редко кем поддерживаются, а Вы их главный создатель.
Дорогой друг и недостижимый пример, все это я Вам должен был бы сказать тем серым днем августа, когда мы в последний раз видались и Вы мне напомнили, как категорически Вы мне дороги…
Я говорил Вам, Анна Андреевна, что мой отец и сестры с семьями в Оксфорде, и Вы представите себе мое состоянье, когда в ответ на телеграфный запрос я больше месяца не получал от них ответа. Я мысленно похоронил их в том виде, какой может подсказать воображенью воздушный бомбардировщик, и вдруг узнал, что они живы и здоровы.






