Сестра моя, жизнь (сборник) Пастернак Борис
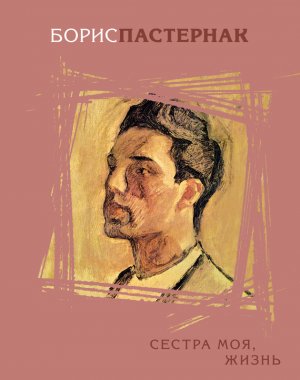
Также и Нина Табидзе уехала в Тифлис без малейшей надежды узнать когда-нибудь что-нибудь о муже, а мне намекали даже, что нет уверенности, чтобы он был в живых, а теперь она написала мне, что он содержится в Москве, и это установлено[103].
Простите, что я так грубо и как маленькой привожу Вам примеры из домашней жизни в пользу того, что никогда не надо расставаться с надеждой, все это, как истинная христианка, Вы должны знать, однако, знаете ли Вы, в какой цене Ваша надежда и как Вы должны беречь ее?…»
Борис Пастернак — Анне Ахматовой.
Из письма 1 ноября 1940
В свой следующий приезд в Москву Анна Ахматова прочла Пастернаку написанные к тому времени стихи из «Реквиема», которые его очень взволновали.
«…Он так все преувеличивает! Он сказал, „Теперь и умереть не страшно“… — записала Лидия Чуковская рассказ Ахматовой. — Но что за прелестный человек! И более всего ему понравилось то же, что и вы любите: „И упало каменное слово“…»
Художник
- Мне по душе строптивый норов
- Артиста в силе: он отвык
- От фраз, и прячется от взоров,
- И собственных стыдится книг.
- Но всем известен этот облик.
- Он миг для пряток прозевал.
- Назад не повернуть оглобли,
- Хотя б и затаясь в подвал.
- Судьбы под землю не заямить.
- Как быть? Неясная сперва,
- При жизни переходит в память
- Его признавшая молва.
- Но кто ж он? На какой арене
- Стяжал он поздний опыт свой?
- С кем протекли его боренья?
- С самим собой, с самим собой.
- Как поселенье на Гольфштреме,
- Он создан весь земным теплом.
- В его залив вкатило время
- Все, что ушло за волнолом.
- Он жаждал воли и покоя,
- А годы шли примерно так,
- Как облака над мастерскою,
- Где горбился его верстак.
- Скромный дом, но рюмка рому
- И набросков черный грог,
- И взамен камор — хоромы,
- И на чердаке — чертог.
- От шагов и волн капота
- И расспросов ни следа.
- В зарешеченном работой
- Своде воздуха — слюда.
- Голос, властный, как полюдье[104].
- Плавит все наперечет.
- В горловой его полуде
- Ложек олово течет.
- Что ему почет и слава,
- Место в мире и молва
- В миг, когда дыханьем сплава
- В слово сплочены слова?
- Он на это мебель стопит,
- Дружбу, разум, совесть, быт.
- На столе стакан не допит,
- Век не дожит, свет забыт.
- Слитки рифм, как воск гадальный,
- Каждый миг меняют вид.
- Он детей дыханье в спальной
- Паром их благословит.
1936
- Все наклоненья и залоги
- Изжеваны до одного.
- Хватить бы соды от изжоги!
- Так вот итог твой, мастерство?
- На днях я вышел книгой в Праге.
- Она меня перенесла
- В те дни, когда с заказом на дом
- От зарев, догоравших рядом,
- Я верил на слово бумаге,
- Облитой лампой ремесла.
- Бывало, снег несет вкрутую,
- Что только в голову придет.
- Я сумраком его грунтую
- Свой дом и холст, и обиход.
- Всю зиму пишет он этюды,
- И у прохожих на виду
- Я их переношу оттуда,
- Таю, копирую, краду.
- Казалось альфой и омегой —
- Мы с жизнью на один покрой;
- И круглый год, в снегу, без снега,
- Она жила, как alter ego,
- И я назвал ее сестрой.
- Землею был так полон взор мой,
- Что зацветал, как курослеп
- С сурепкой мелкой неврасцеп,
- И пил корнями жженый, черный
- Цикорный сок густого дерна,
- И только это было формой,
- И это — лепкою судеб.
- Как вдруг — издание из Праги.
- Как будто реки и овраги
- Задумали на полчаса
- Наведаться из грек в варяги,
- В свои былые адреса.
- С тех пор все изменилось в корне.
- Мир стал невиданно широк.
- Так революции ль порок,
- Что я, с годами все покорней,
- Твержу, не знаю чей, урок?
- Откуда это? Что за притча,
- Что пепел рухнувших планет
- Родит скрипичные капричьо?
- Талантов много, духу нет.
- Поэт, не принимай на веру
- Примеров Дантов и Торкват.
- Искусство — дерзость глазомера,
- Влеченье, сила и захват.
- Тебя пилили на поленья
- В года, когда в огне невзгод
- В золе народонаселенья
- Оплавилось ядро: народ.
- Он для тебя вода и воздух,
- Он — прежний лютик луговой,
- Копной черемух белогроздых
- До облак взмывший головой.
- Не выставляй ему отметок.
- Растроганности грош цена.
- Грозой пади в объятья веток,
- Дождем обдай его до дна.
- Не умиляйся — не подтянем.
- Сгинь без вести, вернись без сил,
- И по репьям, и по плутаньям
- Поймем, кого ты посетил.
- Твое творение не орден:
- Награды назначает власть.
- А ты — тоски пеньковый гордень,
- Паренья парусная снасть.
1936
Первая часть стихотворения была вызвана известием об издании сборника Пастернака в переводе известного поэта Йозефа Горы на чешский язык. Пастернак писал Горе:
«…Я не могу судить об объективных достоинствах Ваших переводов, я не знаю, как звучат они на чешский слух и что, и много ли дадут чешскому читателю. Но они необъяснимым образом безмерно много дали мне…
Будто никогда не издавалось то, что служило Вам оригиналом, и только глухо носилось мною в виде предположенья. И Ваши переводы — первое явленье всего этого, даже не на чешском, на человеческом каком-то языке.
После многих, многих лет Вы впервые, как двадцать лет тому назад, заставили меня пережить волнующее чувство поэтического воплощения, и какими бы средствами… Вы этого не достигли, размеры моей удивленной признательности должны быть Вам понятны…»
Об этих переводах Пастернак рассказывал австрийскому журналисту Ф. Брюгелю. Эти впечатления отразились в приведенном стихотворении:
«…Многое в стихах Горы звучит как фразы из древних русских летописей, в которых рассказывается, как в нашу страну пришли стародавние варяги, чтобы проложить путь к грекам…»
Страшные зимы 1936–1939 годов Пастернак провел в одиночестве своей дачи в Переделкине. Он читал исторические труды Мишле и Маколея, рубил еловые ветви в лесу и топил печку, переводил английских и французских поэтов, вновь вернулся к прозе. Драматург А.Н. Афиногенов, исключенный из партии и со дня на день ожидавший ареста, описал в дневнике свои встречи с ним, заходившим его проведать осенью и зимой 1937 года. В тот год, по его словам, Пастернак развернулся перед ним «во всей детской простоте человеческого своего величия и кристальной прозрачности». Он был поражен его предельной искренностью — «не только с самим собой, но со всеми, и это — его главное оружие. Около таких людей учишься самому главному — умению жить в любых обстоятельствах самому по себе».
21 сентября 1937.
«…Разговоры с Пастернаком навсегда останутся в сердце. Он входит и сразу начинает говорить о большом, интересном, настоящем. Главное для него — искусство, и только оно. Поэтому он не хочет ездить в город, а жить все время здесь, ходить, гуляя одному, или читать историю Англии Маколея, или сидеть у окна и смотреть на звездную ночь, перебирая мысли, или — наконец — писать свой роман. Но все это в искусстве и для него. Его даже не интересует конечный результат. Главное — это работа, увлечение ей, а что там получится — посмотрим через много лет. Жене трудно, нужно доставать деньги и как-то жить, но он ничего не знает, иногда только, когда уж очень трудно станет с деньгами — он примется за переводы. „Но с таким же успехом я мог бы стать коммивояжером…“
Когда приходишь к нему — он так же сразу, отвлекаясь от всего мелкого, забрасывает тебя темами, суждениями, выводами — все у него приобретает очертания значительного и настоящего. Он не читает газет — это странно для меня, который дня не может прожить без новостей… Он всегда занят работой, книгами, собой… И будь он во дворце или на нарах камеры — все равно он будет занят, и даже, может быть, больше, чем здесь, — по крайней мере, не придется думать о деньгах и заботах, а можно все время отдать размышлению и творчеству…»
24 сентября.
«…Он ненавидит поездки в город, ему бы поскорее к письменному столу, за лист бумаги, сесть и писать, писать и думать и разговаривать с собой — и зачем думать о деньгах на следующий месяц, когда они есть на сегодня, — значит, можно не думать о них и только о любимой своей работе.
Эта отрешенность от всего остального, от газет, которых он никогда не читает, радио, зрелищ, ото всего — кроме своего мира работы — создает ему такую жизнь, которой не страшны никакие невзгоды…
Он страдает и любит людей, но не плаксивой сентиментальностью, в нем живет настоящий юмор большого человека, умеющего прозревать грядущее, отделять от существа — шелуху, он думает очень просто, говорит сложно, перебрасываясь, отступая, обгоняя сам себя, — надо привыкнуть к его манере разговаривать, и тогда неисчерпаемый источник удовольствия от подлинной мудрой беседы мастера человеческих душ — для каждого, с кем он говорит…»
15 ноября.
«…Пастернаку тяжело — у него постоянные ссоры с женой. Жена гонит его на собрания, она говорит, что Пастернак не думает о детях, о том, что его замкнутое поведение вызывает подозрения, что его непременно арестуют, если он и дальше будет отсиживаться. Он слушает ее, обыкновенно очень кротко, потом начинает говорить — он говорит, что самое трудное в аресте его для него — это они, оставшиеся здесь. Ибо им ничего не известно и они находятся среди обыкновенных граждан, а он будет среди таких же арестованных, значит, как равный, и он будет все о себе знать… Но он даже несмотря на это не может ходить на собрания только затем, чтобы сидеть на них. Он не может изображать из себя общественника, это было бы фальшиво…»
Александр Афиногенов.
«Из дневника 1937 года»
Развернувшийся весною 1937 года террор перешел на широкие круги ортодоксальной писательской общественности. Каждый день приносил известия о новых арестах друзей и знакомых. Из Грузии дошли сведения о самоубийстве Паоло Яшвили и вскоре последовавшем за ним аресте Тициана Табидзе.
«…Мы не имеем понятия о сердечном терзании, предшествующем самоубийству…
Мне кажется, Паоло Яшвили уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевщиной[105] тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь, и воображал, что больше не достоин глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»
Первый приступ горя Пастернак излил в письме к его вдове:
«Тамара Георгиевна милая, бедная, дорогая моя, что же это такое! Около месяца я жил как ни в чем не бывало, и ничего не знал. Знаю дней десять, и все время пишу Вам, пишу и уничтожаю. Существование мое обесценено, я сам нуждаюсь в успокоении и не знаю, что сказать Вам такого, что не показалось бы Вам идеалистической водой и возвышенным фарисейством. Когда мне сказали это в первый раз, я не поверил. 17-го в городе мне это подтвердили. Оттенки и полутона отпали. Известие схватило меня за горло, я поступил в его распоряжение и до сих пор принадлежу ему…»
Борис Пастернак — Т.Г. Яшвили.
Из письма 28 августа 1937 года
В ноябре 1939 года А.К.Тарасенков записал слова Пастернака:
«…Мы пережили тягостные и страшные годы. Нет Тициана Табидзе среди нас. Ведь все мы живем преувеличенными восторгами и восклицательными знаками. Пресса наша самовосхваляет страну и делает это глупо. Можно было бы гораздо умней. На восклицательном знаке живет Асеев. Он каждый раз разлетается с объятиями и вскриками и тем вызывает на какую-то резкость с моей стороны. Все мы живем на два профиля — общественный, радостный, восторженный, — и внутренний, трагический. Мне так было радостно когда-то, что Грузию я мог воспринять с ее поэзией искренне, от сердца — и под восклицательным знаком, что совпадало с тоном времени. И вот когда в разгар страшных наших лет, когда лилась повсюду в стране кровь, — мне Ставский[106] предложил ехать на Руставелевский пленум в Тбилиси. Да как же я мог тогда ехать в Грузию, когда там уже не было Тициана? Я так любил его. А тут бы начались вопросы о том, как я был с ним связан, кто был связан со мной и т. д… Я отговорился только тем, что у меня жена была на сносях. Я не поехал в Грузию…
В эти страшные и кровавые годы мог быть арестован каждый. Мы тасовались, как колода карт. И я не хочу по-обывательски радоваться, что я цел, а другой нет. Нужно, чтобы кто-нибудь гордо скорбел, носил траур, переживал жизнь трагически. У нас трагизм под запретом, его приравнивают пессимизму, нытью. Как это неверно!..
В эти страшные годы, что мы пережили, я никого не хотел видеть, — даже Тихонов, которого я люблю, приезжал в Москву, останавливался у Луговского, не звонил мне, при встрече — прятал глаза. Даже Вс. Иванов, честнейший художник, делал в эти годы подлости, делал черт знает что, подписывал разные гнусности, чтобы сохранить в неприкосновенности свою берлогу — искусство. Его, как медведя, выволакивали за губу, продев в нее железное кольцо, его, как дятла, заставляли, как и всех нас, повторять сказки о заговорах. Он делал это, а потом снова лез в свою берлогу — в искусство. Я прощаю ему. Но есть люди, которым понравилось быть медведями, кольцо из губы у них вынули, а они все еще, довольные, бродят по бульвару и пляшут на потеху публике…»
Анатолий Тарасенков.
Из «Черновых записей 1934–1939 годов»
Создавалось положение, при котором совестливому человеку становилось стыдно оставаться на свободе. И отказ Пастернака подписать коллективное письмо, одобряющее расстрел военачальников (Тухачевского, Якира и др.), выглядит откровенно самоубийственным актом с точки зрения сложившихся тогда норм поведения.
«…Как-то днем приехала машина. Из нее вышел человек, собиравший подписи писателей с выражением одобрения смертного приговора военным „преступникам“ — Тухачевскому, Якиру и Эйдеману. Первый раз в жизни я увидела Борю рассвирепевшим. Он чуть не с кулаками набросился на приехавшего, хотя тот ни в чем не был виноват, и кричал: „Чтобы подписать, надо этих лиц знать и знать, что они сделали. Мне же о них ничего не известно, я им жизни не давал и не имею права ее отнимать. Жизнью людей должно распоряжаться государство, а не частные граждане. Товарищ, это не контрамарки в театр подписывать, и я ни за что не подпишу!“ Я была в ужасе и умоляла его подписать ради нашего ребенка. На это он мне сказал: „Ребенок, который родится не от меня, а от человека с иными взглядами, мне не нужен, пусть гибнет“.
Тогда я удивилась его жестокости, но пришлось, как всегда в таких случаях, ему подчиниться. Он снова вышел к этому человеку и сказал: «Пусть мне грозит та же участь, я готов погибнуть в общей массе». И с этими словами спустил его с лестницы.
Слухи об этом происшествии мгновенно распространились. Борю вызвал к себе тогдашний председатель Союза писателей Ставский. Что говорил ему Ставский — я не знаю, но Боря вернулся от него успокоенный и сказал, что может продолжать нести голову высоко и у него как гора с плеч свалилась. Несколько раз к нему приходил Павленко, он убеждал Борю, называл его христосиком, просил опомниться и подписать. Боря отвечал, что дать подпись — значит самому у себя отнять жизнь, поэтому он предпочитает погибнуть от чужой руки. Что касается меня, то я просто стала укладывать его вещи в чемоданчик, зная, чем все это должно кончиться. Всю ночь я не смыкала глаз, он же спал младенческим сном, и лицо его было таким спокойным, что я поняла, как велика его совесть, и мне стало стыдно, что я осмелилась просить такого большого человека об этой подписи. Меня вновь покорили его величие и смелость.
Ночь прошла благополучно. На другое утро, открыв газету, мы увидели его подпись среди других писателей! Возмущенью Бори не было предела. Он тут же оделся и поехал в Союз писателей. Я не хотела отпускать его одного, предчувствуя большой скандал, но он уговорил меня остаться. По его словам, все страшное было уже позади, и он надеялся скоро вернуться на дачу. Приехав из Москвы в Переделкино, он рассказал мне о разговоре со Ставским. Боря заявил ему, что ожидал всего, но таких подлогов он в жизни не видел, его просто убили, поставив его подпись.
На самом деле его этим спасли. Ставский сказал ему, что это редакционная ошибка. Боря стал требовать опровержения, но его, конечно, не напечатали…»
Зинаида Пастернак.
Из «Воспоминаний»
И хотя опровержения Пастернак не добился, но внутренне этот поступок изменил в нем очень многое и определил его будущее поведение. Он показал его духовную несгибаемость и физическую невозможность выполнять те требования, которые предъявлялись человеку в советском обществе. Этот год положил предел его желанию «труда со всеми сообща», поставил его вне общественной жизни и вне официальной советской литературы.
«…Когда пять лет назад я отказывал Ставскому в подписи под низостью и был готов пойти за это на смерть, а он мне этим грозил и все-таки дал мою подпись мошеннически и подложно, он кричал: „Когда кончится это толстовское юродство?“…»
Борис Пастернак — Корнею Чуковскому.
Из письма 12 марта 1942
«…Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как я уцелел за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложилась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять, — я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 7 января 1954
Борис Пастернак — родителям
12 февраля 1937.
«…Одно хорошо, — это зима в природе. Какой источник здоровья и покоя! Опять вернулся к прозе, опять хочу написать роман и постепенно его пишу… Может быть, когда я напишу роман, это развяжет мне руки. Может быть, тогда практическая воля проснется во мне, а с нею планы и удача. А пока я как заговоренный, точно сам себя заколдовал. Жизнь своих на Тверском я разбил[107], что же с таким чувством и сознаньем сказать о своей собственной? И в общественных делах мне не все так ясно, как раньше, то есть я бездеятельнее, потому что не так в себе уверен. Вообще посмотришь, а здорового во мне или близ меня только одно: природа и работа. Та и другая пока поглощают меня всего, и неужели эта преданность им такой грех и преступленье, что меня за этим подкараулит какое-нибудь несчастье, и я не увижу ни вас, ни изменившейся Жениной жизни, ничего, ничего из того, что тревожит и поторапливает меня? Однако никакого выбора нет, и я живу верой и грустью; верой и страхом; верой и работой. Не это ли называется надеждой…»
12 мая 1937.
«…Если из-за разделенности с Женичкой и вами и непокладистости Жени я никогда не буду и не могу быть счастлив, ядром, ослепительным ядром того, что можно назвать счастьем, я сейчас владею. Оно в той, потрясающе медленно накопляющейся рукописи, которая опять после многолетнего перерыва ставит меня в обладанье чем-то объемным, закономерно распространяющимся, живо прирастающим, точно та вегетативная нервная система, расстройством которой я болел два года тому назад, во всем здоровьи смотрит на меня с ее страниц и ко мне отсюда возвращается… Мне все время в голову приходит Чехов, а те немногие, которым я кое-что показывал, опять вспоминают про Толстого…»
30 октября 1938.
«…Я продолжаю жить тут, — один в большом двухэтажном, плохо построенном доме (три года, как он построен, а уже гниет и проваливается), в сыром лесу, где с пяти часов темнеет и ночью далеко не весело, только потому, что неизбежный при этом обиход (в отношении отапливанья, уборки, стряпни и прочего) напоминает мне 19 и 20-й годы, последнее по счету время, проведенное вместе с вами и родителями…»
В конце 1937 года Пастернак с семьей переехал в маленькую квартиру в Лаврушинском переулке. Вскоре у него родился сын.
6 января 1938.
«…Мальчик родился, милый, здоровый и, кажется, славный. Он умудрился появиться на свет в новогоднюю ночь с последним, двенадцатым ударом часов, почему, по статистике родильного дома и попал сразу в печать, как „первый мальчик 1938 года, родившийся в 0 часов 1 января“. Я назвал его в твою честь Леонидом…
По естественнейшим законам у мужчины и женщины (немного, правда, поздно) родился мальчик морозной новогодней ночью, славный, спокойный, как и самый факт его явленья, не столько в семье, сколько в природе, ночной, почти не городской, снежной. И дай ему Бог счастья и здоровья…»
«…Именно в 36 году, когда начались эти страшные процессы, все сломилось во мне, и единение с временем перешло в сопротивление ему, которого я не скрывал. Я ушел в переводы. Личное творчество кончилось. Оно снова пробудилось накануне войны, может быть, как ее предчувствие, в 1940 году…»
Борис Пастернак.
Из заметки 11 февраля 1956
В последней фразе речь идет о цикле стихов «Переделкино», который Пастернак считал для себя открытием возможности писать с новой простотой и ясностью.
«…Второе рождение» заканчивает первый период лирики. Очевидно, дальше пути нет. Затем наступает долгий (10 лет) мучительный антракт (говорил: «Что это со мной!»), когда действительно не может написать ни одной строчки (это удушье — уже у меня на глазах). — Появляется дача (Переделкино) — встреча с Природой, которая всю жизнь была его единственной полноправной Музой, невестой и собеседницей (любовь — предмет второй необходимости), удушье кончилось, снова все вокруг звучит. «Я написал девять стихотворений, — говорит он мне по телефону, — сейчас приду читать», — и пришел. «Это только начало — я распишусь…» Июнь 41 года — новая фактура — строгость и простота. Был самый сложный — стал самый ясный. Но неловкости остались (типа «вошла со стулом»). Расписаться не пришлось — пришла война…»
Анна Ахматова.
Из наброска «Путь Пастернака»
Летний день
- У нас весною до зари
- Костры на огороде, —
- Языческие алтари
- На пире плодородья.
- Перегорает целина
- И парит спозаранку,
- И вся земля раскалена,
- Как жаркая лежанка.
- Я за работой земляной
- С себя рубашку скину,
- И в спину мне ударит зной
- И обожжет, как глину.
- Я стану, где сильней припек,
- И там, глаза зажмуря,
- Покроюсь с головы до ног
- Горшечною глазурью.
- А ночь войдет в мой мезонин
- И, высунувшись в сени,
- Меня наполнит, как кувшин,
- Водою и сиренью.
- Она отмоет верхний слой
- С похолодевших стенок
- И даст какой-нибудь одной
- Из здешних уроженок.
- И распустившийся побег
- Потянется к свободе,
- Устраиваясь на ночлег
- На крашеном комоде.
1940, 1942
«…Мы сажали с Борей огород и много физически работали. Он каждый день выходил в сад в трусиках и, работая, загорал. Меня удивляло, с какой страстью он возился с землей. Каждую весну я разводила костры из сухих листьев и сучьев и золой удобряла почву, потом что не было других удобрений. Боря очень любил из окон кабинета смотреть на эти костры и посвятил им стихотворение „У нас весною до зари костры на огороде…“
Зинаида Пастернак.
Из «Воспоминаний»
«…Лето. Я приехала из Ленинграда в Москву хлопотать за Митю[108]. Такси в Переделкино, где никогда не была. Адрес: «Городок писателей, дача Чуковского — сначала шоссе, потом что-то такое направо, налево». В Городке таксист свернул не туда, запутался, приметы не совпадали — непредуказанное поле — и ни одного пешехода. Первый человек, который попался мне на глаза, стоял на корточках за дачным забором: коричневый, голый до пояса, весь обожженный солнцем; он полол гряды на пологом, пустом, выжженном солнцем участке. Шофер притормозил, и я через опущенное стекло спросила, где дача Чуковского. Он выпрямился, отряхивая землю с колен и ладоней, и, прежде чем объяснить нам дорогу, с таким жадным любопытством оглядел машину, шофера и меня, будто впервые в жизни увидал автомобиль, таксиста и женщину. Гудя, объяснил. Потом бурно: «Вы, наверное, Лидия Корнеевна?» — «Да», — сказала я.
Поблагодарив, я велела шоферу ехать и только тогда, когда мы уже снова пересекли шоссе, догадалась: «Это был Пастернак». Явление природы, первобытность»…»
Лидия Чуковская.
Отрывок из дневника
Сосны
- В траве, меж диких бальзаминов,
- Ромашек и лесных купав,
- Лежим мы, руки запрокинув
- И к небу головы задрав.
- Трава на просеке сосновой
- Непроходима и густа.
- Мы переглянемся — и снова
- Меняем позы и места.
- И вот, бессмертные на время,
- Мы к лику сосен причтены
- И от болей и эпидемий
- И смерти освобождены.
- С намеренным однообразьем,
- Как мазь, густая синева
- Ложится зайчиками наземь
- И пачкает нам рукава.
- Мы делим отдых краснолесья,
- Под копошенье мураша
- Сосновою снотворной смесью
- Лимона с ладаном дыша.
- И так неистовы на синем
- Разбеги огненных стволов,
- И мы так долго рук не вынем
- Из-под заломленных голов,
- И столько широты во взоре,
- И так покорно все извне,
- Что где-то за стволами море
- Мерещится все время мне.
- Там волны выше этих веток,
- И, сваливаясь с валуна,
- Обрушивают град креветок
- Со взбаламученного дна.
- А вечерами за буксиром
- На пробках тянется заря
- И отливает рыбьим жиром
- И мглистой дымкой янтаря.
- Смеркается, и постепенно
- Луна хоронит все следы
- Под белой магиею пены
- И черной магией воды.
- А волны все шумней и выше,
- И публика на поплавке
- Толпится у столба с афишей,
- Не различимой вдалеке.
1941
«Анна Ахматова назвала Пастернака собеседником рощ. Он таким и был. „Природы праздный соглядатай“ — определил себя Фет. Пастернак не был праздным, в природе он был деятельным. Я видел его в саду с лопатой, с засученными рукавами, вдохновенно копающим гряды, славящим языческое плодородье. Он был вписан в Переделкино, как знаменитая древняя церковь, как самаринский пруд, как сосны по дороге на станцию…»
Виктор Боков.
Из воспоминаний
Ложная тревога
- Корыта и ушаты,
- Нескладица с утра,
- Дождливые закаты,
- Сырые вечера.
- Проглоченные слезы
- Во вздохах темноты,
- И зовы паровоза
- С шестнадцатой версты.
- И ранние потемки
- В саду и на дворе,
- И мелкие поломки,
- И все как в сентябре.
- А днем простор осенний
- Пронизывает вой
- Тоскою голошенья
- С погоста за рекой.
- Когда рыданье вдовье
- Относит за бугор,
- Я с нею всею кровью
- И вижу смерть в упор.
- Я вижу из передней
- В окно, как всякий год,
- Своей поры последней
- Отсроченный приход.
- Пути себе расчистив,
- На жизнь мою с холма
- Сквозь желтый ужас листьев
- Уставилась зима.
1941
Иней
- Глухая пора листопада.
- Последних гусей косяки.
- Расстраиваться не надо:
- У страха глаза велики.
- Пусть ветер, рябину занянчив,
- Пугает ее перед сном.
- Порядок творенья обманчив,
- Как сказка с хорошим концом.
- Ты завтра очнешься от спячки
- И, выйдя на зимнюю гладь,
- Опять за углом водокачки
- Как вкопанный будешь стоять.
- Опять эти белые мухи,
- И крыши, и святочный дед,
- И трубы, и лес лопоухий
- Шутом маскарадным одет.
- Все обледенело с размаху
- В папахе до самых бровей
- И крадущейся россомахой
- Подсматривает с ветвей.
- Ты дальше идешь с недоверьем.
- Тропинка ныряет в овраг.
- Здесь инея сводчатый терем,
- Решетчатый тес на дверях.
- За снежной густой занавеской
- Какой-то сторожки стена,
- Дорога, и край перелеска,
- И новая чаща видна.
- Торжественное затишье,
- Оправленное в резьбу,
- Похоже на четверостишье
- О спящей царевне в гробу.
- И белому мертвому царству,
- Бросавшему мысленно в дрожь,
- Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
- Ты больше, чем просят, даешь».
1941
На ранних поездах
- Я под Москвою эту зиму,
- Но в стужу, снег и буревал
- Всегда, когда необходимо,
- По делу в городе бывал.
- Я выходил в такое время,
- Когда на улице ни зги,
- И рассыпал лесною темью
- Свои скрипучие шаги.
- Навстречу мне на переезде
- Вставали ветлы пустыря.
- Надмирно высились созвездья
- В холодной яме января.
- Обыкновенно у задворок
- Меня старался перегнать
- Почтовый или номер сорок,
- А я шел на шесть двадцать пять.
- Вдруг света хитрые морщины
- Сбирались щупальцами в круг.
- Прожектор несся всей махиной
- На оглушенный виадук.
- В горячей духоте вагона
- Я отдавался целиком
- Порыву слабости врожденной
- И всосанному с молоком.
- Сквозь прошлого перипетии
- И годы войн и нищеты
- Я молча узнавал России
- Неповторимые черты.
- Превозмогая обожанье,
- Я наблюдал, боготворя,
- Здесь были бабы, слобожане,
- Учащиеся, слесаря.
- В них не было следов холопства,
- Которые кладет нужда,
- И новости и неудобства
- Они несли как господа.
- Рассевшись кучей, как в повозке,
- Во всем разнообразьи поз,
- Читали дети и подростки,
- Как заведенные, взасос.
- Москва встречала нас во мраке,
- Переходившем в серебро,
- И, покидая свет двоякий,
- Мы выходили из метро.
- Потомство тискалось к перилам
- И обдавало на ходу
- Черемуховым свежим мылом
- И пряниками на меду.
1941
«…Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то „седьмой молодости“ (твое выраженье). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой зимую на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе.
Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепленье. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Зазеваешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду! Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как рано еще сдаваться, как хочется жить…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 15 ноября 1940
Опять весна
- Поезд ушел. Насыпь черна.
- Где я дорогу впотьмах раздобуду?
- Неузнаваемая сторона,
- Хоть я и сутки только отсюда.
- Замер на шпалах лязг чугуна.
- Вдруг — что за новая, право, причуда:
- Сутолка, кумушек пересуды.
- Что их попутал за сатана?
- Где я обрывки этих речей
- Слышал уж как-то порой прошлогодней?
- Ах, это сызнова, верно, сегодня
- Вышел из рощи ночью ручей.
- Это, как в прежние времена,
- Сдвинула льдины и вздулась запруда.
- Это поистине новое чудо,
- Это, как прежде, снова весна.
- Это она, это она,
- Это ее чародейство и диво,
- Это ее телогрейка за ивой,
- Плечи, косынка, стан и спина.
- Это Снегурка у края обрыва.
- Это о ней из оврага со дна
- Льется без умолку бред торопливый
- Полубезумного болтуна.
- Это пред ней, заливая преграды,
- Тонет в чаду водяном быстрина,
- Лампой висячего водопада
- К круче с шипеньем пригвождена.
- Это, зубами стуча от простуды,
- Льется чрез край ледяная струя
- В пруд и из пруда в другую посуду.
- Речь половодья — бред бытия.
1941
Природа у Пастернака не предмет пейзажных зарисовок, это другое имя жизни, пример душевного здоровья, естественности и красоты. В статье «Несколько положений» Пастернак называл «живой, действительный мир» природы — «единственным, однажды удавшимся и все еще без конца удачным замыслом воображенья», который «служит поэту примером в большой еще степени, нежели натурой и моделью».
Написанный весной 1941 года цикл стихотворений «Переделкино», стал осуществлением естественности и простоты в искусстве, которые были сформулированы в стихах «Второго рождения».
«…Мне любопытно, что почувствовали бы, читая эти стихи, те критики и читатели, которые обвиняли Пастернака в произвольности образов, в запутанности синтаксиса, в путаности сюжетной линии в стихотворениях?… Что тут проще, в этих чудесных стихах: русская сказка или советская быль предвоенных лет? Что тут сказочней: этот святочный дед или эта зимняя гладь Подмосковья с железнодорожной водокачкой?
Стихотворение это преисполнено тем простым, но глубоким чувством родины, которое так роднит многие новые стихи Пастернака с лермонтовскою «Отчизною», с ее целомудренной тишиною, с ее почти благоговейной робостью и вместе с теплою сердечностью в выражении этой сыновней любви к родине…»
Сергей Дурылин.
Из рецензии на книгу «Земной простор»
«…Война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, веянием избавления… Ее реальные ужасы, реальная опасность и угроза реальной смерти были благом по сравнению с бесчеловечным владычеством выдумки и несли облегчение, потому что ограничивали колдовскую силу мертвой буквы.
Борис Пастернак.
Из «Доктора Живаго»
«…Объявление войны оторвало меня от первых страниц „Ромео и Джульетты“. Я забросил перевод и за проводами сына, отправлявшегося на оборонные работы, и другими волнениями забыл о Шекспире. Последовали недели, в течение которых волей или неволей всё на свете приобщилось к войне. Я дежурил в ночи бомбардировок на крыше двенадцатиэтажного дома, — свидетель двух фугасных попаданий в это здание в одно из моих дежурств, рыл блиндаж у себя за городом и проходил курсы военного обучения, неожиданно обнаружившие во мне прирожденного стрелка. Семья моя была отправления в глушь внутренней губернии. Я все время к ней стремился…»
Борис Пастернак.
Из статьи «О Шекспире»
Бобыль
- Грустно в нашем саду.
- Он день ото дня краше.
- В нем и в этом году
- Жить бы полною чашей.
- Но обитель свою
- Разлюбил обитатель.
- Он отправил семью,
- И в краю неприятель.
- И один, без жены,
- Он весь день у соседей,
- Точно с их стороны
- Ждет вестей о победе.
- А повадится в сад
- И на пункт ополченский,
- Так глядит на закат
- В направленьи к Смоленску.
- Там в вечерней красе
- Мимо Вязьмы и Гжатска
- Протянулось шоссе
- Пятитонкой солдатской.
- Он еще не старик
- И укор молодежи,
- А его дробовик
- Лет на двадцать моложе.
1941
Борис Пастернак — З.Н. Пастернак
24 июля 1941.
«…Третью ночь бомбят Москву. — Первую я был в Переделкине, так же как и последнюю, 23 на 24-е, а вчера с 22-го на 23-е был в Москве на крыше… нашего дома вместе с Всеволодом Ивановым, Халтуриным и другими в пожарной охране… Cколько раз в теченье прошлой ночи, когда через дом-два падали и рвались фугасы и зажигательные снаряды, как по мановенью волшебного жезла, в минуту воспламеняли целые кварталы, я мысленно прощался с тобой, мамочка и дуся моя. Спасибо тебе за все, что ты дала мне и принесла, ты была лучшей частью моей жизни, и ты и я недостаточно сознавали, до какой глубины ты жена моя и как много это значит…»
26 августа 1941.
«…Я опять стал зарабатывать лишь в самое последнее время. Статью для ВОКСа приняли, я пишу им другую (хотя только по 200 р.). Написал несколько новых стихов для „Красной нови“ взамен тех, довоенных. Хочу писать пьесу и вчера подал заявку об этом в Комитет по делам искусств. Меня раздражает все еще сохраняющийся трафарет в литературе, делах печати и т. д. Нельзя после того, как люди нюхнули пороху и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и прочее, выдерживать их на той же безотрадной малосодержательности, которая по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и слабосильным, с ничтожными аппетитами, даже и не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, зисами и эмками, и тартинками с двумя орденами. Ты помнишь, какое у меня было настроение перед войною, как мне хотелось делать все сразу и выражать всего себя, до самых глубин. Теперь это удесятерилось…»
20 августа 1941.
«…Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если с сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 рублей за строчку. А я тут за два дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для Литературки… без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по 10 р. за строчку за эту дребедень. Где же тут последовательность, что ты скажешь!..»
«…В конце октября я уехал к жене и детям, и зима в провинциальном городе, отстоящем далеко от железной дороги, на замерзшей реке, служащей единственным средством сообщения, отрезала меня от внешнего мира и на три месяца засадила за прерванного „Ромео“.
Борис Пастернак.
Из статьи «О Шекспире»
Зима приближается
- Зима приближается. Сызнова
- Какой-нибудь угол медвежий
- По прихоти неба капризного
- Исчезнет в грязи непроезжей.
- Домишки в озерах очутятся.
- Над ними закурятся трубы.
- В холодных объятьях распутицы
- Сойдутся к огню жизнелюбы.
- Обители севера строгого,
- Накрытые небом, как крышей,
- На вас, захолустные логова,
- Написано: «Сим победиши».
- Люблю вас, далекие пристани
- В провинции или деревне.
- Чем книга чернее и листанней,
- Тем прелесть ее задушевней.
- Обозы тяжелые двигая,
- Раскинувши нив алфавиты,
- Россия волшебною книгою
- Как бы на середке открыта.
- И вдруг она пишется заново
- Ближайшею первой метелью,
- Вся в росчерках полоза санного
- И белая, как рукоделье.
- Октябрь серебристо-ореховый,
- Блеск заморозков оловянный.
- Осенние сумерки Чехова,
- Чайковского и Левитана.
Октябрь 1943
Быт литературной колонии в Чистополе, куда в порядке обязательной эвакуации в середине октября были вывезены Пастернак и некоторые другие писатели, прекрасно описал так же, как и свои встречи с ним, молодой драматург А.К. Гладков. Он передает слова Пастернака:
«…Жизнь в Чистополе хороша уже тем, что мы здесь ближе, чем в Москве, к природной стихии, нас страшит мороз, радует оттепель — восстанавливаются естественные отношения человека с природой. И даже отсутствие удобств, всех этих кранов и штепселей, мне лично не кажется лишением, и я думаю, что говорю это почти от имени поэзии…»
Александр Гладков.
Из воспоминаний «Встречи с Пастернаком»
Еще в Москве, в начале сентября, через месяц после того, как Пастернак провожал Марину Цветаеву в эвакуацию, он узнал о ее самоубийстве в Елабуге.
Бродя по улицам Чистополя, он задумывал стихотворение о ней, в которое включались картины зимнего провинциального городка, куда она приезжала за три дня до гибели.
«…Дочь Цветаевой запросила письмом Ник. Ник. Асеева, известно ли место, где погребена Марина Ивановна в Елабуге. В свое время я спрашивал об этом Лозинского, жившего в Елабуге, и он мне ничего не мог по этому поводу сказать. Может быть, исходя из Вашего территориального соседства с Елабугой (может быть у Вас там есть знакомые), Вы что-нибудь узнаете по этому поводу. Если бы мне десять лет тому назад — (она была еще в Париже, я был противником этого переезда) сказали, что она так кончит и я так буду справляться о месте, где ее похоронили, и это никому не будет известно, я почел бы все это обидным и немыслимым бредом.
Борис Пастернак — Валерию Авдееву.
Из письма 21 мая 1948
Памяти Марины Цветаевой
- Хмуро тянется день непогожий.
- Безутешно струятся ручьи
- По крыльцу перед дверью прихожей
- И в открытые окна мои.
- За оградою вдоль по дороге
- Затопляет общественный сад.
- Развалившись, как звери в берлоге,
- Облака в беспорядке лежат.
- Мне в ненастьи мерещится книга
- О земле и ее красоте.
- Я рисую лесную шишигу
- Для тебя на заглавном листе.
- Ах, Марина, давно уже время,
- Да и труд не такой уж ахти,
- Твой заброшенный прах в реквиеме
- Из Елабуги перенести.
- Торжество твоего переноса
- Я задумывал в прошлом году
- Над снегами пустынного плеса,
- Где зимуют баркасы во льду.
- Мне также трудно до сих пор
- Вообразить тебя умершей,
- Как скопидомкой-мильонершей
- Средь голодающих сестер.
- Что сделать мне тебе в угоду?
- Дай как-нибудь об этом весть.
- В молчаньи твоего ухода
- Упрек невысказанный есть.
- Всегда загадочны утраты.
- В бесплодных розысках в ответ
- Я мучаюсь без результата:
- У смерти очертаний нет.
- Тут всё — полуслова и тени,
- Обмолвки и самообман,
- И только верой в Воскресенье
- Какой-то указатель дан.
- Зима — как пышные поминки:
- Наружу выйти из жилья,
- Прибавить к сумеркам коринки,
- Облить вином — вот и кутья.
- Пред домом яблоня в сугробе,
- И город в снежной пелене —
- Твое огромное надгробье,
- Как целый год казалось мне.
- Лицом повернутая к Богу,
- Ты тянешься к нему с земли,
- Как в дни, когда тебе итога
- Еще на ней не подвели.
«Задумано в Чистополе в 1942 году,
написано по побуждению Алексея Крученых
25 и 26 декабря 1943 года в Москве.
У себя дома».
«…Хороший, почти весенний денек и интересный длинный разговор, из которого записываю малую часть. Он начинается с того, что Б.Л. говорит о вмерзших в Каму баржах, что, когда он на них смотрит, он всегда вспоминает Марину Цветаеву, которая перед отъездом отсюда сказала кому-то в Чистополе, что она предпочла бы вмерзнуть в Чистополе в лед Камы, чем уезжать. „Впрочем тогда еще было далеко до зимы, но ее ждали с ужасом, а по Каме все шли и шли бесконечные баржи“.
— Я очень любил ее и теперь сожалею, что не искал случаев высказывать это так часто, как ей это, может, было нужно. Она прожила героическую жизнь. Она совершала подвиги каждый день. Это были подвиги верности той единственной стране, подданным которой она была — поэзии…
— Когда-нибудь я напишу о ней, я уже начал… Да, и стихами и прозой. Мне уже давно хочется. Но я сдерживаю себя, чтобы накопить силу, достойную темы, то есть ее, Марины. О ней надо писать с тугой силой выраженья…»
Александр Гладков.
Из воспоминаний «Встречи с Пастернаком»
«…„Стихи о Цветаевой“, заставляют трепетать скорбью, гневом — и вместе великим утешением подлинного „бытия“. Это и элегия, и дифирамб, — и со времени лермонтовской „Смерти поэта“ не было в нашей поэзии таких звуков и скорбно-элегических и грозно-дифирамбических одновременно. Это у тебя что-то новое, высоко-смелое, глубокое и проникновенное, — и произнесенное так, как Пушкин писал про Мицкевича: „он с высоты взирал на жизнь“. Только я прибавлю: и на смерть…»
Сергей Дурылин — Борису Пастернаку.
Из письма 6 июля 1945
«Цветаева была женщиной с деятельной мужскою душой, решительной, воинствующей, неукротимой. В жизни и творчестве она жадно и почти хищно рвалась к окончательности и определенности, в преследовании которых ушла далеко и опередила всех.
Кроме немногого известного, она написала большое количество неизвестных у нас вещей, огромные бурные произведения, одни в стиле русских народных сказок, другие на мотивы общеизвестных исторических преданий и мифов.
Их опубликование будет большим торжеством и открытием для родной поэзии и сразу, в один прием, обогатит ее этим запоздалым и единовременным даром.
Я думаю, самый большой пересмотр и самое большое признание ожидают Цветаеву…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Люди и положения»
Зимы 1942 и 1943 года, проведенные в Чистополе, прошли в плодотворной работе над переводами Шекспировских драм «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра» и, по просьбе издательства, пересмотром сделанного в 1940 году «Гамлета».
«…Шекспир всегда будет любимцем поколений, исторически зрелых и много переживших. Многочисленные испытания учат ценить голос фактов, действительное познанье, содержательное и нешуточное искусство реализма.
Шекспир остается идеалом и вершиной этого направления. Ни у кого сведения о человеке не достигают такой правильности, никто не излагал их так своевольно. На первый взгляд это противоречащие качества. Но они связаны прямой зависимостью. Беззаконьями своего стиля, раздражавшими Вольтера и Толстого, Шекспир показывает, какого вулканического строения наша хваленая художественная объективность. Потому что в первую очередь это чудо объективности… На чередовании самозабвения и внимательности построена его эстетика, на смене высокого и смешного, прозы и стихов.
Он дитя природы в любом отношении, возьмем ли мы необузданность его формы, его композицию и манеру лепки, или его психологию и нравственное содержание его драм. Его сравнения — предел, за который никогда не заходило субъективное начало в поэзии. Он наложил на свои труды более глубокий личный отпечаток, чем кто-либо до или после него…»
Борис Пастернак.
Из статьи «О Шекспире»
«…Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце. Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме того, ее дают два раза в день в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город.
Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры и отдыха», а другое — в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов и где голосят на крик, когда судят кого-нибудь из здешних.
Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под булыжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населенью, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского Щелкунчика…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 18 июля 1942
«…Я никому не писал больше двух месяцев, — сознательная жертва, которую приносил работе над „Ромео и Джульеттой“, именно в этот срок и оконченной. Она мне стоила гораздо большего труда, чем Гамлет, ввиду сравнительной бледности и манерности некоторых сторон и частей этой трагедии, как думают, одной из первых у Шекспира… Я прожил эту зиму счастливо и с ощущеньем счастья среди лишений и в средоточии самого дремучего дикарства, благодаря единомыслию, установившемуся между мной, Фединым, Асеевым, а также Леоновым и Треневым. Здесь мы чувствуем себя свободнее, чем в Москве, несмотря на тоску по ней, разной силы у каждого… Сейчас я займусь переводом польского классика Словацкого. Это тоже денежно обусловленная работа для хлеба. Потом я некоторое время поработаю свое, для себя… Мне хочется написать пьесу и повесть, поэму в стихах и мелкие стихотворенья. Это настроенье, может быть, предсмертное, последнего года и последних довоенных месяцев, которое еще ярче разгорелось в войну…»
Борис Пастернак — Евгении Пастернак.
Из письма 12 марта 1942
Летом 1942 года Пастернак работал над пьесой на военную тему, о которой он давно мечтал. Упоминание об этом имеется в стихотворении «Старый парк», в котором он писал о раненом, лежащем в госпитале в Переделкине, бывшем имении Самариных. В нем отразились также воспоминания о знакомстве с внучатым племянником славянофила Ю.Ф. Самарина, родственником матери декабриста С.П. Трубецкого:
Старый парк
- Мальчик маленький в кроватке,
- Бури озверелый рёв.
- Каркающих стай девятки
- Разлетаются с дерёв.
- Раненому врач в халате
- Промывал вчерашний шов.
- Вдруг больной узнал в палате
- Друга детства, дом отцов.
- Вновь он в этом старом парке.
- Заморозки по утрам,
- И когда кладут припарки,
- Плачут стекла первых рам.
- Голос нынешнего века
- И виденья той поры
- Уживаются с опекой
- Терпеливой медсестры.
- По палате ходят люди.
- Слышно хлопанье дверей.
- Глухо ухают орудья
- Заозерных батарей.
- Солнце низкое садится.
- Вот оно в затон впилось
- И оттуда длинной спицей
- Протыкает даль насквозь.
- И минуты две оттуда
- В выбоины на дворе
- Льются волны изумруда,
- Как в волшебном фонаре.
- Зверской боли крепнут схватки,
- Крепнет ветер, озверев,
- И летят грачей девятки,
- Черные девятки треф.
- Вихрь качает липы, скрючив,
- Буря рвет их на корню,
- И больной под стоны сучьев
- Забывает про ступню.
- Парк преданьями состарен,
- Здесь стоял Наполеон
- И славянофил Самарин
- Послужил и погребен.
- Здесь потомок декабриста,
- Правнук русских героинь,
- Бил ворон из монтекристо
- И одолевал латынь.
- Если только хватит силы,
- Он, как дед, энтузиаст,
- Прадеда-славянофила
- Пересмотрит и издаст.
- Сам же он напишет пьесу,
- Вдохновленную войной, —
- Под немолчный ропот леса,
- Лёжа, думает больной.
- Там он жизни небывалой
- Невообразимый ход
- Языком провинциала
- В строй и ясность приведет.
1941
От пьесы Пастернака сохранились две сцены, остальные были уничтожены по настойчивости перепуганных ее свободой друзей, которым он их читал.
Просьбы Пастернака устроить ему поездку на фронт были удовлетворены в августе 1943 года после освобождения Курска и Орла. Группа писателей, куда он был включен, получила приглашение военного совета 3-й армии посетить места недавних сражений и подготовить книгу «В боях за Орел». Впечатления от виденного записаны по свежим следам в очерках «Поездка в Армию» и «Освобожденный город» и отразились в военных стихах. Сохранились дневниковые записи, сделанные в разрушенном городе Карачеве:
«…Об этих разрушениях, об ужасе нынешней бездомности, о немецких зверствах и пр. писали очень много и не жалея выражений. Истинная картина гораздо ужаснее и сильнее. Очевидно, о жизни нельзя писать изолированными извлечениями с изолированными чувствами, а надо привлекать все попутные мысли и соображенья, поднимающиеся при этом. Так к горечи карачевского зрелища примешивается сознание, что если бы для восстановления разрушенных городов и благоденствия России потребовалось измененье политической системы, то эта жертва не будет принесена, а наоборот, всем на свете будут жертвовать системе…»
«…Нельзя быть злодеем другим, не будучи и для себя негодяем. Подлость универсальна. Нарушитель любви к ближнему первым из людей предает самого себя. Сколько заслуженной злости излито по адресу нынешней Германии! Между тем глубина ее падения больше, чем можно обнаружить в ослеплении справедливого негодования.
В гитлеризме поразительна утеря Германией политической первичности. Ее достоинство принесено в жертву производной роли. Стране навязано значение реакционной сноски к русской истории…
Весь девятнадцатый век, в особенности к его концу, Россия быстро и успешно двигала вперед свое просвещение. Дух широты и всечеловечности питал ее понимание… Этот дух особенно сказался во Льве Толстом, русскими средствами выразившем природу гения и его предвзятость… Но что такое гений?
Гений есть кровно осязаемое право мерить все на свете по-своему, чувство короткости со вселенной, счастье фамильной близости с историей и доступности всего живого. Гений первичен и ненавязчив…
И всегда рядом с неряшливою щедростью самородка следует что-нибудь завистливо рядовое и посредственное. Дела и поступки счастливого соперника кажутся ему чудачеством и безумием. Невежда начинает с поучения и кончает кровью…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Поездка в армию».
Смерть сапера
- Мы время по часам заметили
- И кверху поползли по склону.
- Вот и обрыв. Мы без свидетелей
- У края вражьей обороны.
- Вот там она, и там, и тут она —
- Везде, везде, до самой кручи.
- Как паутиною опутана
- Вся проволокою колючей.
- Он наших мыслей не подслушивал
- И не заглядывал нам в душу.
- Он из конюшни вниз обрушивал
- Свой бешеный огонь по Зуше[109].
- Прожекторы, как ножки циркуля,
- Лучом вонзались в коновязи.
- Прямые попаданья фыркали
- Фонтанами земли и грязи.
- Но чем обстрел дымил багровее,
- Тем равнодушнее к осколкам,
- В спокойствии и хладнокровии
- Работали мы тихомолком.
- Со мною были люди смелые.
- Я знал, что в проволочной чаще
- Проходы нужные проделаю
- Для битвы, завтра предстоящей.
- Вдруг одного сапера ранило.
- Он отползал от вражьих линий,
- Привстал, и дух от боли заняло,
- И он упал в густой полыни.
- Он приходил в себя урывками,
- Осматривался на пригорке
- И щупал место под нашивками
- На почерневшей гимнастерке.
- И думал: глупость, оцарапали,
- И он отчалит от Казани,
- К жене и к детям вверх к Сарапулю, —
- И вновь и вновь терял сознанье.
- Все в жизни может быть издержано,
- Изведаны все положенья
- Следы любви самоотверженной
- Не подлежат уничтоженью.
- Хоть землю грыз от боли раненый,
- Но стонами не выдал братьев,
- Врожденной стойкости крестьянина
- И в обмороке не утратив.
- Его живым успели вынести.
- Час продышал он через силу.
- Хотя за речкой почва глинистей,
- Там вырыли ему могилу.
- Когда, убитые потерею,
- К нему сошлись мы на прощанье,
- Заговорила артиллерия
- В две тысячи своих гортаней.
- В часах задвигались колесики.
- Проснулись рычаги и шкивы.
- К проделанной покойным просеке
- Шагнула армия прорыва.
- Сраженье хлынуло в пробоину
- И выкатилось на равнину,
- Как входит море в край застроенный,
- С разбега проломив плотину.
- Пехота шла вперед маршрутами,
- Как их располагал умерший.
- Поздней немногими минутами
- Противник дрогнул у Завершья.
- Он оставлял снарядов штабели,
- Котлы дымящегося супа,
- Все, что обозные награбили,
- Палатки, ящики и трупы.
- Потом дорогою завещанной
- Прошло с победами все войско.
- Края расширившейся трещины
- У Криворожья и Пропойска.
- Мы оттого теперь у Гомеля,
- Что на поляне в полнолунье
- Своей души не экономили
- В пластунском деле накануне.
- Жить и сгорать у всех в обычае,
- Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
- Когда ей к свету и величию
- Своею жертвой путь прочертишь.
Декабрь 1943
В архиве Пастернака сохранился «Дневник боевых действий» с донесением от 11–12 июля 1943:
«…В дивизии полковника Ромашова группа саперов во главе с сержантом Коваленко получила задание ночью проделать проходы в проволочных заграждениях противника. От переднего края нашей обороны саперы поползли на высоту, там были проволочные заграждения врага, а в 150 м за ними — его окопы… При этом был тяжело ранен сапер Микеев… Стоило раненому вскрикнуть или тяжело застонать — и саперы были бы обнаружены противником. Микеев понял это. Превозмогая острую боль, крепко сжав зубы, он ни разу не застонал…»
«…Поездка на фронт имела для меня чрезвычайное значение, и даже не столько мне показала такого, чего бы я не мог ждать или угадать, сколько внутренне меня освободила. Вдруг все оказалось очень близко, естественно и доступно, в большем сходстве с моими привычными мыслями, нежели с общепринятыми изображениями. Не боясь показаться хвастливым, могу сказать, что из целой и довольно большой компании ездивших, среди которых были Константин Александрович „Федин“, Всеволод Иванов и К. Симонов, больше всего по себе среди военных было мне, и именно со мной стали на наиболее короткую ногу в течение месяца принимавшие нас генералы…»
Борис Пастернак — Валерию Авдееву.
Из письма 21 октября 1943
Особый интерес Пастернака привлекала личность погибшего в недавних боях генерала Л.Н. Гуртьева. В описании чудовищного зрелища разрушенного до основания Орла он особо отметил находящуюся в парке «скромную и славную могилу командира 308-й стрелковой дивизии, героя Сталинграда и Орла». Восхищение подвигом его сибирских полков, выдержавших после 80-часового бесперебойного обстрела многосуточный штурм трех немецких дивизий под Сталинградом, выразилось в стихотворении «Ожившая фреска». Оно построено на воспоминаниях героя о детских посещениях монастыря, деталях церковного обихода и образах церковных росписей.
Ожившая фреска
- Как прежде падали снаряды.
- Высокое, как в дальнем плаваньи,
- Ночное небо Сталинграда
- Качалось в штукатурном саване.
- Земля гудела, как молебен
- Об отвращеньи бомбы воющей,
- Кадильницею дым и щебень
- Выбрасывая из побоища.
- Когда урывками, меж схваток,
- Он под огнем своих проведывал,
- Необъяснимый отпечаток
- Привычности его преследовал.
- Где мог он видеть этот ежик
- Домов с бездонными проломами?
- Свидетельства былых бомбежек
- Казались сказочно знакомыми,
- Что означала в черной раме
- Четырехпалая отметина?
- Кого напоминало пламя
- И выломанные паркетины?
- И вдруг он вспомнил детство, детство,
- И монастырский сад, и грешников,
- И с общиною по соседству
- Свист соловьев и пересмешников.
- Он мать сжимал рукой сыновней,
- И от копья архистратига ли
- На темной росписи часовни
- В такие ямы черти прыгали.
- И мальчик облекался в латы,
- За мать в воображеньи ратуя,
- И налетал на супостата
- С такой же свастикой хвостатою.
- А дальше в конном поединке
- Сиял над змеем лик Георгия,
- И на пруду цвели кувшинки,
- И птиц безумствовали оргии.
- И родина, как голос пущи,
- Как зов в лесу и грохот отзыва,
- Манила музыкой зовущей
- И пахла почкою березовой.
- О, как он вспомнил те полянки
- Теперь, когда своей погонею
- Он топчет вражеские танки
- С их грозной чешуей драконьею!
- Он перешел земли границы,
- И будущность, как ширь небесная,
- Уже бушует, а не снится,
- Приблизившаяся, чудесная.
1944
«…С недавнего времени нами все больше завладевают ход и логика нашей чудесной победы. С каждым днем все яснее ее всеобъединяющая красота и сила…
Победил весь народ, всеми своими слоями, и радостями, и горестями, и мечтами, и мыслями. Победило разнообразье.
Победили все и в эти самые дни, на наших глазах, открывают новую, высшую эру нашего исторического существования. Дух широты и всеобщности начинает проникать деятельность всех. Его действие сказывается и на наших скромных занятиях…»
Борис Пастернак.
Из очерка «Поездка в армию»
Весна
- Все нынешней весной особое.
- Живее воробьев шумиха.
- Я даже выразить не пробую,
- Как на душе светло и тихо.
- Иначе думается, пишется,
- И громкою октавой в хоре
- Земной могучий голос слышится
- Освобожденных территорий.
- Весеннее дыханье родины
- Смывает след зимы с пространства
- И черные от слез обводины
- С заплаканных очей славянства.
- Везде трава готова вылезти,
- И улицы старинной Праги
- Молчат, одна другой извилистей,
- Но заиграют, как овраги.
- Сказанья Чехии, Моравии
- И Сербии с весенней негой,
- Сорвавши пелену бесправия,
- Цветами выйдут из-под снега.
- Все дымкой сказочной подернется,
- Подобно завиткам по стенам
- В боярской золоченой горнице
- И на Василии Блаженном.
- Мечтателю и полуночнику
- Москва милей всего на свете.
- Он дома, у первоисточника
- Всего, чем будет цвесть столетье.
1944
«…Кажется, в военных стихах словарь Пастернака еще народнее, чем в предвоенных; речь его еще проще, еще целомудренней сторонится она всяческих приукрашений, малейшей риторики. Пастернак еще строже к себе в этих стихах о суровой године войны, когда строгость и суровость стали условием жизни, условием победы. Невольно приходит на память, с какою простотою писал Лермонтов о русском солдате в „Валерике“ и „Бородине“ и как Правде, одной Правде посвящал Лев Толстой свои героические „Севастопольские рассказы“. Их дорогою идет Пастернак. Это нетрудно показать, и это легко увидеть без показа:






