Сестра моя, жизнь (сборник) Пастернак Борис
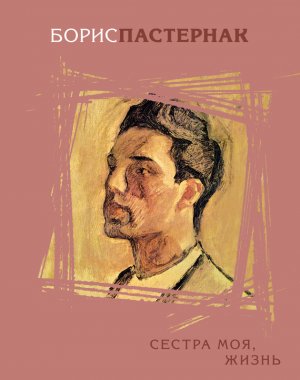
- Вы ложились на дороге
- И у взрытой колеи
- Спрашивали о подмоге
- И не слышно ль, где свои.
- А потом, жуя краюху,
- По истерзанным полям
- Шли вы, не теряя духа,
- К обгорелым флигелям.
Эти стихи обращены к «безымянным героям осажденных городов», но все стихи Пастернака, о ком бы ни шла в них речь: о саперах, о защитниках Сталинграда или Ленинграда, — все они обращены к безымянным героям, так же, как лермонтовское «Бородино», так же, как толстовский «Севастополь»…
По точности рисунка, по простоте передачи, по суровой безыскусственности это почти проза, притом — самая строгая проза, признающая законы пушкинской простоты и толстовской суровости, но в этой-то «почти прозе» и заключена свежесть и сила стихов Пастернака о войне…»
Сергей Дурылин.
Из рецензии на книгу «Земной простор»
«…Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победою, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание…»
Борис Пастернак.
Из романа «Доктор Живаго»
Пастернак мечтал о большой прозе в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили его замысел и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веяниям скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью, чему способствовало нарастающее недовольство собой.
«…Я давно и долго, еще во время войны, томился благополучно продолжающимися положениями стихотворчества, литературной деятельности и имени, как непрерывным накапливанием промахов и оплошностей, которым хотелось положить разительный и ощущаемый, целиком перекрывающий конец… тут не обязательно было, чтобы это была трагедия или катастрофа, но было обязательно, чтобы это круто и крупно отменяло все нажитые навыки и начинало собою новое, леденяще и бесповоротно, чтобы это было вторжение воли в судьбу, вмешательство души в то, что как будто обходилось без нее и ее не касалось… Это было желанием начать договаривать все до конца и оценивать жизнь в духе былой безусловности, на ее широчайших основаниях…»
Борис Пастернак — Вячеславу Вс. Иванову.
Из письма 1 июля 1958
«…Когда после великодушия судьбы, сказавшегося в факте победы, пусть и такой ценой купленной победы, когда после такой щедрости исторической стихии, повернули к жестокости и мудрствованиям самых тупых и темных довоенных годов, я испытал во второй (после 36 года) раз чувство потрясенного отталкивания от установившихся порядков, еще более сильное и категорическое, чем в первый раз…»
Борис Пастернак.
Из заметки 11 февраля 1956 года
Сменявшие друг друга партийные постановления 1940-х годов (о журналах «Звезда» и «Ленинград», о космополитизме и преклонении перед западом) и критические проработки, сопровождавшиеся идеологическими погромами, рассеивали и косили близких и знакомых, ежедневно угрожая жизни каждого. Но ни резкие нападки на Пастернака в печати, ни уничтоженный тираж сборника его стихов не нарушали течения его жизни, «установочные» статьи с обвинениями в разладе с современностью и клевете на советскую действительность грозили страшными последствиями, но он только ускорял темп работы над романом.
«…По многим причинам мне нельзя сейчас задерживаться в собственной работе, все в такой неясности…»
Борис Пастернак — Марии Юдиной.
Из письма 27 марта 1949
Гамлет
- Гул затих. Я вышел на подмостки.
- Прислонясь к дверному косяку,
- Я ловлю в далеком отголоске
- Что случится на моем веку.
- На меня наставлен сумрак ночи
- Тысячью биноклей на оси.
- Если только можно, Авва Отче,
- Чашу эту мимо пронеси[110].
- Я люблю твой замысел упрямый
- И играть согласен эту роль.
- Но сейчас идет другая драма,
- И на этот раз меня уволь.
- Но продуман распорядок действий,
- И неотвратим конец пути.
- Я один, все тонет в фарисействе.
- Жизнь прожить — не поле перейти.
1946
Полосы утомления, горя и мрака преодолевались плодотворностью каторжного труда, занятая позиция поддерживалась чувством радостного возвращения к свободе и независимости, к реальности производительного существования, к Божьему замыслу о человеке.
«…С июля месяца я начал писать роман в прозе „Мальчики и девочки“, который в десяти главах должен охватить сорокалетие, 1902–1946 годы, и с большим увлечением написал четверть задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года — первые шаги на этом пути, — и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе, — а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 5 октября 1946
На Страстной
- Еще кругом ночная мгла.
- Еще так рано в мире,
- Что звездам в небе нет числа,
- И каждая, как день светла,
- И если бы земля могла,
- Она бы Пасху проспала
- Под чтение Псалтыри.
- Еще кругом ночная мгла.
- Такая рань на свете,
- Что площадь вечностью легла
- От перекрестка до угла,
- И до рассвета и тепла
- Еще тысячелетье.
- Еще земля голым-гола,
- И ей ночами не в чем
- Раскачивать колокола
- И вторить с воли певчим.
- И со Страстного четверга
- Вплоть до Страстной субботы
- Вода буравит берега
- И вьет водовороты.
- И лес раздет и непокрыт,
- И на Страстях Христовых[111],
- Как строй молящихся стоит
- Толпой стволов сосновых.
- А в городе на небольшом
- Пространстве, как на сходке,
- Деревья смотрят нагишом
- В церковные решетки.
- И взгляд их ужасом объят.
- Понятна их тревога.
- Сады выходят из оград,
- Колеблется земли уклад:
- Они хоронят Бога.
- И видят свет у царских врат,
- И черный плат, и свечек ряд,
- Заплаканные лица —
- И вдруг навстречу крестный ход
- Выходит с плащаницей[112],
- И две березы у ворот
- Должны посторониться.
- И шествие обходит двор
- По краю тротуара,
- И вносит с улицы в притвор
- Весну, весенний разговор
- И воздух с привкусом просфор
- И вешнего угара.
- И март разбрасывает снег
- На паперти толпе калек,
- Как будто вышел человек,
- И вынес, и открыл ковчег,
- И все до нитки роздал.
- И пенье длится до зари,
- И, нарыдавшись вдосталь,
- Доходят тише изнутри
- На пустыри под фонари
- Псалтырь или Апостол.
- Но в полночь смолкнут тварь и плоть[113],
- Заслышав слух весенний,
- Что только-только распогодь,
- Смерть можно будет побороть
- Усильем Воскресенья.
1946
Первоначальный план романа был уже с самого начала совершенно оформлен. Определяя характер своего главного героя, Пастернак писал:
«…Там один из героев — врач, каким был, или мог быть А.П. Чехов. Он по замыслу романа должен умереть в 1929-м году (39 лет). От него остается хаотический архив, который приводит в порядок сводный его брат, живший в Сибири, которого умерший не знал и всю жизнь считал издали своим врагом. Этот брат находит в бумагах покойного много любопытного, записки, дневники и множество стихотворений, которые он сводит в книгу. Книга эта составит одну из глав второй части романа. Это будет поэзия, представляющая нечто среднее между Блоком, Маяковским, Есениным и мною: меня немного успокоенного и объективированного. Теперь, когда я пишу стихи, я их пишу в виде вкладов в стихотворное хозяйство этого героя…»
Борис Пастернак — Валерию Авдееву.
Из письма 21 мая 1948
«…Когда мы стали встречаться, я казался Пастернаку не столько человеком, рожденным его собственными идеями, сколько единомышленником, пришедшим к его мыслям трудной дорогой. Записана тысячная часть наших разговоров…
— Фамилия героя романа? Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы православной церкви: «Ты есть воистину Христос, сын Бога Живаго»[114]. Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова «Бога». Получалось таинственное имя Христа «Живаго». Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его имени «Живаго». Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ощущение сделать реальностью — назвать этим именем героя моего романа. Вот истинная история, «подпочва» выбора. Кроме того, «Живаго» — это звучная и выразительная сибирская фамилия (вроде Мертваго, Веселаго). Символ совпадает здесь с реальностью, не нарушает ее, не противоречит ей…»
Варлам Шаламов.
Из воспоминаний
Зимняя ночь
- Мело, мело по всей земле
- Во все пределы.
- Свеча горела на столе,
- Свеча горела.
- Как летом роем мошкара
- Летит на пламя,
- Слетались хлопья со двора
- К оконной раме.
- Метель лепила на стекле
- Кружки и стрелы.
- Свеча горела на столе,
- Свеча горела.
- На озаренный потолок ложились тени,
- Скрещенья рук, скрещенья ног,
- Судьбы скрещенья.
- И падали два башмачка
- Со стуком на пол.
- И воск слезами с ночника
- На платье капал.
- И все терялось в снежной мгле,
- Седой и белой.
- Свеча горела на столе,
- Свеча горела.
- На свечку дуло из угла,
- И жар соблазна
- Вздымал, как ангел, два крыла
- Крестообразно.
- Мело весь месяц в феврале,
- И то и дело
- Свеча горела на столе,
- Свеча горела.
1946
Март
- Солнце греет до седьмого пота,
- И бушует, одурев, овраг.
- Как у дюжей скотницы работа,
- Дело у весны кипит в руках.
- Чахнет снег и болен малокровьем
- В веточках бессильно синих жил.
- Но дымится жизнь в хлеву коровьем,
- И здоровьем пышут зубья вил.
- Эти ночи, эти дни и ночи!
- Дробь капелей к середине дня,
- Кровельных сосулек худосочье,
- Ручейков бессонных болтовня!
- Настежь все, конюшня и коровник,
- Голуби в снегу клюют овес,
- И всего живитель и виновник, —
- Пахнет свежим воздухом навоз.
1946
Бабье лето
- Лист смородины груб и матерчат.
- В доме хохот и стекла звенят.
- В нем шинкуют, и квасят, и перчат,
- И гвоздики кладут в маринад.
- Лес забрасывает, как насмешник,
- Этот шум на обрывистый склон,
- Где сгоревший на солнце орешник
- Словно жаром костра опален.
- Здесь дорога спускается в балку,
- Здесь и высохших старых коряг,
- И лоскутницы осени жалко,
- Все сметающей в этот овраг.
- И того, что вселенная проще,
- Чем иной полагает хитрец,
- Что как в воду опущена роща,
- Что приходит всему свой конец.
- Что глазами бессмысленно хлопать,
- Когда все пред тобой сожжено,
- И осенняя белая копоть
- Паутиною тянет в окно.
- Ход из сада в заборе проломан
- И теряется в березняке.
- В доме смех и хозяйственный гомон,
- Тот же гомон и смех вдалеке.
1946
В конце 1946 года Пастернак познакомился с Ольгой Всеволодовной Ивинской, которая работала в журнале «Новый мир». Как поклонницу его поэзии, вместе с Лидией Корнеевной Чуковской он пригласил их на чтение первых глав романа и написанных к тому времени стихов, которое происходило 6 января 1947 года на квартире пианистки Марии Вениаминовны Юдиной.
Пастернак не делал тайны из того, что писал, и такие чтения в кругу друзей устраивал регулярно. Дружественные отзывы, которые он получал, помогали ему продолжать работу в атмосфере заинтересованного соучастия.
Образ героини романа Ларисы Антиповой был для Пастернака развитием пожизненно разрабатываемой им женской темы и живым воплощением судьбы России. Такая трактовка зародилась в ранней юности, пронзила его болью и горечью в 1917 году при встрече с Еленой Виноград, ее подтверждение он увидел в судьбе Зинаиды Николаевны, которая стала героиней его неоконченной прозы 1930-х годов.
Отражением его отношений с Ольгой Ивинской, радостных и светлых в это время, можно считать внешний облик Ларисы Федоровны в романе и ту теплоту, которой согреты посвященные ей главы. Пробудившийся после встречи с нею «резкий и счастливый личный отпечаток» дал ему силы справиться с трудностями работы над романом.
Сознание греховности и заведомой обреченности его отношений с Ивинской освещало их прощальной нежностью последней любви. Муки совести с одной стороны и легкомысленный эгоизм с другой — часто ставили их перед необходимостью расстаться, но жалость и жажда душевного тепла снова влекли его к ней.
Объяснение
- Жизнь вернулась так же беспричинно,
- Как когда-то странно прервалась.
- Я на той же улице старинной,
- Как тогда, в тот летний день и час.
- Те же люди и заботы те же,
- И пожар заката не остыл,
- Как его тогда к стене Манежа
- Вечер смерти наспех пригвоздил.
- Женщины в дешевом затрапезе
- Так же ночью топчут башмаки.
- Их потом на кровельном железе
- Так же распинают чердаки.
- Вот одна походкою усталой
- Медленно выходит за порог
- И, поднявшись из полуподвала,
- Переходит двор наискосок.
- Я опять готовлю отговорки,
- И опять все безразлично мне.
- И соседка, обогнув задворки,
- Оставляет нас наедине.
- Не плачь, не морщь опухших губ,
- Не собирай их в складки.
- Разбередишь присохший струп
- Весенней лихорадки.
- Сними ладонь с моей груди,
- Мы провода под током,
- Друг к другу вновь того гляди,
- Нас бросит ненароком.
- Пройдут года, ты вступишь в брак,
- Забудешь неустройства.
- Быть женщиной — великий шаг,
- Сводить с ума — геройство.
- А я пред чудом женских рук,
- Спины, и плеч, и шеи
- И так с привязанностью слуг
- Весь век благоговею.
- Но как ни сковывает ночь
- Меня кольцом тоскливым,
- Сильней на свете тяга прочь
- И манит страсть к разрывам.
1947
На сборном поэтическом вечере в Политехническом музее, состоявшемся 7 февраля 1948 года под названием «Поэты за мир, за демократию», в числе 20 других читал свои стихи Пастернак. В списке приглашенных им на вечер была Ольга Ивинская. Пастернак встречал ее у входа. Она опаздывала, и он появился в зале в тот момент, когда Алексей Сурков говорил вступительное слово, внезапно прервавшееся оглушительными аплодисментами. Сурков не сразу понял, что аплодируют не ему, а Пастернаку, старавшемуся незаметно проскользнуть на свое место в президиуме. Надо было видеть страшную гримасу, которой исказилось его лицо.
«…Всем вежливо хлопали, но когда наступила очередь Пастернака, зал опять, как при его появлении разразился дружными долгими аплодисментами… Меня поразило его чтение. Он читал стихи как бы в очень камерной манере, совсем без декламации, вслушиваясь в них, подчеркивая интонацией смысловую сторону, но не отпуская и стихотворного размера, и ритмических каденций строфы, ускоряя и замедляя течение строки… Его скорее низкий голос шел из глубины и, казалось, захватывал его самого целиком этими произносимыми строками, и все окрашивалось неповторимой интонацией взволнованного, живого и подлинного чувства, где-то почти на грани всхлипывания и захлеба…
Зал музея замирал и потом срывался в аплодисменты. Когда он запнулся, ему тут же подсказали строку. Казалось, все понимали, что присутствуют при чуде. Когда он кончил, его аплодисментами и криками заставили читать еще — «на бис». Он прочитал два новых стихотворения, которые многие уже знали: «Свеча» и «Рассвет».
Сейчас кажется удивительным, как в то время можно было публично, в Большом зале Политехнического музея читать такие откровенно христианские стихи. Но, по-моему, дело в том, что тогда одичание было настолько глубоким, что огромное большинство, и в том числе, конечно, и официальные лица, просто не понимало, кто тот Ты, к кому обращается поэт».
Михаил Поливанов.
Из воспоминаний «Тайная свобода»
«— Я дал несколько стихотворений представителю „Литературной газеты“. Тот выбрал „Рассвет“: „Это ведь Сталину посвящено, не правда ли?“ — Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу, Богу. Звонит снова: „Извините, мы ничего напечатать не можем“…»
Варлам Шаламов. Пастернак
(запись разговора)
Рассвет
- Ты значил все в моей судьбе.
- Потом пришла война, разруха,
- И долго-долго о Тебе
- Ни слуху не было, ни духу.
- И через много-много лет
- Твой голос вновь меня встревожил.
- Всю ночь читал я Твой Завет
- И как от обморока ожил.
- Мне к людям хочется в толпу,
- В их утреннее оживленье.
- Я все готов разнесть в щепу
- И всех поставить на колени.
- И я по лестнице бегу,
- Как будто выхожу впервые
- На эти улицы в снегу
- И вымершие мостовые.
- Везде встают, огни, уют,
- Пьют чай, торопятся к трамваям.
- В теченье нескольких минут
- Вид города неузнаваем.
- В воротах вьюга вяжет сеть
- Из густо падающих хлопьев,
- И, чтобы вовремя поспеть,
- Все мчатся недоев-недопив.
- Я чувствую за них за всех,
- Как будто побывал в их шкуре,
- Я таю сам, как тает снег,
- Я сам, как утро, брови хмурю.
- Со мною люди без имен,
- Деревья, дети, домоседы.
- Я ими всеми побежден
- И только в том моя победа.
1947
«…Борис Леонидович сказал, что одна из самых трудных задач, с которыми столкнулась русская философия в начале XX века, состояла в определении настоящей позиции по отношению к Толстому и в связи с его „отлучением“…
Поэзия шла тем же путем, что и философия… Многие после непродолжительного увлечения «толстовством» возвращались к православию. Вообще пути «ухода» изучены лучше, чем пути «возвращения»…
Многое из того, что говорил Пастернак, казалось мне загадочным. Оно таковым и оставалось до той самой поры, когда был написан «Доктор Живаго», где главным как раз и является «путь возвращения»:
И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил…»
Эдуард Бабаев.
«Где воздух синь…»
«…Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, — эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется „Мальчики и девочки“. Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.
Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 13 октября 1946
Рождественская звезда
- Стояла зима.
- Дул ветер из степи.
- И холодно было Младенцу в вертепе
- На склоне холма.
- Его согревало дыханье вола.
- Домашние звери
- Стояли в пещере,
- Над яслями теплая дымка плыла.
- Доху отряхнув от постельной трухи
- И зернышек проса,
- Смотрели с утеса
- Спросонья в полночную даль пастухи.
- Вдали было поле в снегу и погост,
- Ограды, надгробья,
- Оглобля в сугробе,
- И небо над кладбищем, полное звезд.
- А рядом, неведомая перед тем,
- Застенчивей плошки
- В оконце сторожки
- Мерцала звезда по пути в Вифлеем.
- Она пламенела, как стог, в стороне
- От неба и Бога,
- Как отблеск поджога,
- Как хутор в огне и пожар на гумне.
- Она возвышалась горящей скирдой
- Соломы и сена
- Средь целой вселенной,
- Встревоженной этою новой звездой.
- Растущее зарево рдело над ней
- И значило что-то,
- И три звездочета
- Спешили на зов небывалых огней.
- За ними везли на верблюдах дары.
- И ослики в сбруе, один малорослей
- Другого, шажками спускались с горы.
- И странным виденьем грядущей поры
- Вставало вдали всё пришедшее после.
- Все мысли веков, все мечты, все миры,
- Всё будущее галерей и музеев,
- Все шалости фей, все дела чародеев,
- Все елки на свете, все сны детворы.
- Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
- Всё великолепье цветной мишуры…
- …Всё злей и свирепей дул ветер из степи…
- …Все яблоки, все золотые шары.
- Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
- Но часть было видно отлично отсюда
- Сквозь гнезда грачей и деревьев верхи.
- Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
- Могли хорошо разглядеть пастухи.
- — Пойдемте со всеми, поклонимся чуду, —
- Сказали они, запахнув кожухи.
- От шарканья по снегу сделалось жарко.
- По яркой поляне листами слюды
- Вели за хибарку босые следы,
- На эти следы, как на пламя огарка,
- Ворчали овчарки при свете звезды.
- Морозная ночь походила на сказку,
- И кто-то с навьюженной снежной гряды
- Все время незримо входил в их ряды.
- Собаки брели, озираясь с опаской,
- И жались к подпаску, и ждали беды.
- По той же дороге, чрез эту же местность
- Шло несколько ангелов в гуще толпы.
- Незримыми делала их бестелесность,
- Но шаг оставлял отпечаток стопы.
- У камня толпилась орава народу.
- Светало. Означились кедров стволы.
- — А кто вы такие? — спросила Мария.
- — Мы племя пастушье и неба послы,
- Пришли вознести вам обоим хвалы.
- — Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
- Средь серой, как пепел, предутренней мглы
- Топтались погонщики и овцеводы,
- Ругались со всадниками пешеходы,
- У выдолбленной водопойной колоды
- Ревели верблюды, лягались ослы.
- Светало. Рассвет, как пылинки золы,
- Последние звезды сметал с небосвода.
- И только волхвов из несметного сброда
- Впустила Мария в отверстье скалы.
- Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
- Как месяца луч в углубленьи дупла.
- Ему заменяли овчинную шубу
- Ослиные губы и ноздри вола.
- Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
- Шептались, едва подбирая слова.
- Вдруг кто-то в потемках, немного налево
- От яслей рукой отодвинул волхва,
- И тот оглянулся: с порога на Деву,
- Как гостья, смотрела звезда Рождества.
1947
«…Вдруг особенно ясно стало — кто Вы и что Вы. Иной плод дозревает более, иной менее зримо. Духовная Ваша мощь вдруг сбросила с себя все второстепенные значимости… Это непрекращающееся высшее созерцание совершенства и непререкаемой истинности стиля, пропорций, деталей, классического соединения глубоко запечатленного за ясностью формы чувства… Если бы Вы ничего кроме „Рождества“ не написали в жизни, этого было бы достаточно для Вашего бессмертия на земле и на небе…»
Мария Юдина — Борису Пастернаку.
Из письма 7-8-февраля 1947
Чудо
- Он шел из Вифании в Ерусалим,
- Заранее грустью предчувствий томим.
- Колючий кустарник на круче был выжжен,
- Над хижиной ближней не двигался дым,
- Был воздух горяч и камыш неподвижен.
- И Мертвого моря покой недвижим.
- И в горечи, спорившей с горечью моря,
- Он шел с небольшою толпой облаков
- По пыльной дороге на чье-то подворье,
- Шел в город на сборище учеников.
- И так углубился Он в мысли свои,
- Что поле в уныньи запахло полынью.
- Все стихло. Один Он стоял посредине,
- А местность лежала пластом в забытьи.
- Все перемешалось: теплынь и пустыня,
- И ящерицы, и ключи, и ручьи.
- Смоковница высилась невдалеке,
- Совсем без плодов, только ветки да листья.
- И Он ей сказал: «Для какой ты корысти?
- Какая мне радость в твоем столбняке?
- Я жажду и алчу, а ты пустоцвет,
- И встреча с тобой безотрадней гранита.
- О, как ты обидна и недаровита!
- Останься такой до скончания лет».
- По дереву дрожь осужденья прошла,
- Как молнии искра по громоотводу.
- Смоковницу испепелило дотла.
- Найдись в это время минута свободы
- У листьев, ветвей, и корней, и ствола,
- Успели б вмешаться законы природы.
- Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
- Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
- Оно настигает мгновенно, врасплох.
1947
Порою отношения Пастернака с Ольгой Ивинской заходили в мучительный тупик, но он ни за что не хотел расставаться с Зинаидой Николаевной, ломать и менять свою жизнь. Его супружество, претерпев многие превратности, потеряло прежнюю нежность, тем более что Зинаида Николаевна после тяжело пережитой смерти своего 20-летнего обожаемого сына Адриана Нейгауза откровенно призналась в невозможности более быть женой, оставив за собой только роль хозяйки дома. Но сохраненное на всю жизнь чувство любви к ней не позволяло Пастернаку ее оставить. К весне 1949 года для него в очередной раз определилась необходимость покончить с душевной раздвоенностью и положить конец своим отношениям с Ольгой Ивинской.
«…У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первою пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы „здесь“ и „там“ и пр. и пр.
Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удается…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 7 августа 1949
Жалость и тревога, которыми полно приведенное письмо, вскоре сменились реальным страхом за судьбу Ольги Ивинской. Ею заинтересовались судебные органы, и после неоднократных вызовов и допросов она была арестована и приговорена по политической статье к пяти годам каторжных работ.
«…Жизнь в полной буквальности повторила последнюю сцену Фауста, „Маргариту в темнице“. Бедная моя О. последовала за дорогим нашим Т „ицианом“. Это случилось совсем недавно, девятого (неделю тому назад). Сколько она вынесла из-за меня! А теперь еще и это! Не пишите мне, разумеется об этом, но измерьте степень ее беды и меру моего страдания.
Наверное, соперничество человека никогда в жизни не могло мне казаться таким угрожающим и опасным, чтобы вызывать ревность в ее самой острой и сосущей форме. Но я часто, и в самой молодости, ревновал женщину к прошлому или к болезни, или к угрозе смерти или отъезда, к силам далеким и непреодолимым. Так я ревную ее сейчас к власти неволи и неизвестности, сменившей прикосновение моей руки или мой голос.
Я пишу Вам глупости, Нина, простите меня. Еще большей глупостью будет сказать Вам, что при всем этом я на страже всего Зининого и ее жизни со мной, что я не даю и не дам ей почувствовать ничего, что бы опечалило или обидело ее.
А страдание только еще больше углубит мой труд, только проведет еще более резкие черты во всем моем существе и сознании. Но причем она, бедная, не правда ли?…»
Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 15 октября 1949
Разлука
- С порога смотрит человек,
- Не узнавая дома,
- Ее отъезд был как побег,
- Везде следы разгрома.
- Повсюду в комнатах хаос.
- Он меры разоренья
- Не замечает из-за слез
- И приступа мигрени.
- В ушах с утра какой-то шум,
- Он в памяти иль грезит?
- И почему ему на ум
- Все мысль о море лезет?
- Когда сквозь иней на окне
- Не видно света Божья,
- Безвыходность тоски вдвойне
- С пустыней моря схожа.
- Она была так дорога
- Ему чертой любою,
- Как морю близки берега
- Всей линией прибоя.
- Как затопляет камыши
- Волненье после шторма,
- Ушли на дно его души
- Ее черты и формы.
- В года мытарств, во времена
- Немыслимого быта
- Она волной судьбы со дна
- Была к нему прибита.
- Среди препятствий без числа,
- Опасности минуя,
- Волна несла ее, несла
- И пригнала вплотную.
- И вот теперь ее отъезд,
- Насильственный, быть может.
- Разлука их обоих съест,
- Тоска с костями сгложет.
- И человек глядит кругом:
- Она в момент ухода
- Все выворотила вверх дном
- Из ящиков комода.
- Он бродит и до темноты
- Укладывает в ящик
- Раскиданные лоскуты
- И выкройки образчик.
- И, наколовшись об шитье
- С невынутой иголкой,
- Внезапно видит всю ее
- И плачет втихомолку.
1953
Свидание
- Засыпет снег дороги,
- Завалит скаты крыш.
- Пойду размять я ноги:
- За дверью ты стоишь.
- Одна в пальто осеннем,
- Без шляпы, без калош,
- Ты борешься с волненьем
- И мокрый снег жуешь.
- Деревья и ограды
- Уходят вдаль, во мглу.
- Одна средь снегопада
- Стоишь ты на углу.
- Течет вода с косынки
- По рукаву в обшлаг,
- И каплями росинки
- Сверкают в волосах.
- И прядью белокурой
- Озарены: лицо,
- Косынка и фигура
- И это пальтецо.
- Снег на ресницах влажен,
- В твоих глазах тоска,
- И весь твой облик слажен
- Из одного куска.
- Как будто бы железом,
- Обмокнутым в сурьму,
- Тебя вели нарезом
- По сердцу моему.
- И в нем навек засело
- Смиренье этих черт,
- И оттого нет дела,
- Что свет жестокосерд.
- И оттого двоится
- Вся эта ночь в снегу,
- И провести границы
- Меж нас я не могу.
- Но кто мы и откуда,
- Когда от всех тех лет
- Остались пересуды,
- А нас на свете нет?
1950
Осень
- Я дал разъехаться домашним,
- Все близкие давно в разброде,
- И одиночеством всегдашним
- Полно все в сердце и природе.
- И вот я здесь с тобой в сторожке.
- В лесу безлюдно и пустынно.
- Как в песне, стежки и дорожки
- Позаросли наполовину.
- Теперь на нас одних с печалью
- Глядят бревенчатые стены.
- Мы брать преград не обещали,
- Мы будем гибнуть откровенно.
- Мы сядем в час и встанем в третьем,
- Я с книгою, ты с вышиваньем,
- И на рассвете не заметим,
- Как целоваться перестанем.
- Еще пышней и бесшабашней
- Шумите, осыпайтесь, листья,
- И чашу горечи вчерашней
- Сегодняшней тоской превысьте.
- Привязанность, влеченье, прелесть!
- Рассеемся в сентябрьском шуме!
- Заройся вся в осенний шелест!
- Замри или ополоумей!
- Ты так же сбрасываешь платье,
- Как роща сбрасывает листья,
- Когда ты падаешь в объятье
- В халате с шелковою кистью.
- Ты — благо гибельного шага,
- Когда житье тошней недуга,
- А корень красоты — отвага,
- И это тянет нас друг к другу.
Ноябрь-декабрь 1949
Нежность
- Ослепляя блеском,
- Вечерело в семь.
- С улиц к занавескам
- Приникала темь.
- Замирали звуки
- Жизни в слободе.
- И блуждали руки
- Неизвестно где.
- Люди — манекены,
- Но слепая страсть
- Тянется к вселенной
- Ощупью припасть.
- Чтобы под ладонью
- Слушать, как поет
- Бегство и погоня,
- Трепет и полет.
- Чувство на свободе —
- Это налегке
- Рвущая поводья
- Лошадь в мундштуке.
1950
Политические тучи, все более сгущавшиеся в последние годы, вылились волной репрессий, прокатившейся по всей стране и достигшей в 1949 году своего максимума, по массовости и бесчеловечности ничем не отличаясь от террора 1930-х годов. Это был год широко отмечавшегося сталинского 70-летия, самый мрачный и страшный по сравнению с предшествовавшими. Арестовывали и ссылали отбывших срок и брали новых. Пастернак регулярно писал в лагеря и ссылки, денежно помогал сосланным и семьям арестованных, хотя это было опасно. В первую очередь надо назвать вдову расстрелянного Тициана Табидзе, сестру Марины Цветаевой и дочь Ариадну Эфрон, которая после лагеря жила в Рязани, а сейчас была выслана в Туруханск, балкарскому поэту Кайсыну Кулиеву, высланному во Фрунзе, и многим другим. Возможность такой помощи достигалась каторжной работой над переводами пьес Шекспира, «Фауста» Гёте, стихов венгерского романтика Шандора Петёфи и грузинских поэтов.
Земля
- В московские особняки
- Врывается весна нахрапом.
- Выпархивает моль за шкапом
- И ползает по летним шляпам,
- И прячут шубы в сундуки.
- По деревянным антресолям
- Стоят цветочные горшки
- С левкоем и желтофиолем,
- И дышат комнаты привольем,
- И пахнут пылью чердаки.
- И улица запанибрата
- С оконницей подслеповатой,
- И белой ночи и закату
- Не разминуться у реки.
- И можно слышать в коридоре,
- Что происходит на просторе,
- О чем в случайном разговоре
- С капелью говорит апрель.
- Он знает тысячи историй
- Про человеческое горе,
- И по заборам стынут зори,
- И тянут эту канитель.
- И та же смесь огня и жути
- На воле и в жилом уюте,
- И всюду воздух сам не свой,
- И тех же верб сквозные прутья,
- И тех же белых почек вздутья
- И на окне и на распутьи,
- На улице и в мастерской.
- Зачем же плачет даль в тумане,
- И горько пахнет перегной?
- На то ведь и мое призванье,
- Чтоб не скучали расстоянья,
- Чтобы за городскою гранью
- Земле не тосковать одной.
- Для этого весною ранней
- Со мною сходятся друзья,
- И наши вечера — прощанья,
- Пирушки наши — завещанья,
- Чтоб тайная струя страданья
- Согрела холод бытия.
1947
Магдалина
- Чуть ночь, мой демон тут как тут,
- За прошлое моя расплата.
- Придут и сердце мне сосут
- Воспоминания разврата,
- Когда раба мужских причуд,
- Была я дурой бесноватой
- И улицей был мой приют.
- Осталось несколько минут,
- И тишь наступит гробовая.
- Но раньше, чем они пройдут,
- Я жизнь свою дойдя до края,
- Как алавастровый сосуд,
- Перед тобою разбиваю.
- О, где бы я теперь была,
- Учитель мой и мой Спаситель,
- Когда б ночами у стола
- Меня бы вечность не ждала,
- Как новый в сети ремесла
- Мной завлеченный посетитель.
- Но объясни, что значит грех,
- И смерть, и ад, и пламень серный,
- Когда я на глазах у всех
- С тобой, как с деревом побег,
- Срослась в своей тоске безмерной.
- Когда твои стопы, Исус,
- Оперши о свои колени,
- Я, может, обнимать учусь
- Креста четырехгранный брус
- И, чувств лишаясь, к телу рвусь
- Тебя готовя к погребенью.
- У людей пред праздником уборка.
- В стороне от этой толчеи
- Обмываю миром из ведерка
- Я стопы пречистые Твои.
- Шарю и не нахожу сандалий
- Ничего не вижу из-за слез.
- На глаза мне пеленой упали
- Пряди распустившихся волос.
- Ноги я Твои в подол уперла,
- Их слезами облила, Исус,
- Ниткой бус их обмотала с горла,
- В волосы зарыла, как в бурнус.
- Будущее вижу так подробно,
- Словно ты его остановил.
- Я сейчас предсказывать способна
- Вещим ясновиденьем сивилл.
- Завтра упадет завеса в храме,
- Мы в кружок собьемся в стороне,
- И земля качнется под ногами,
- Может быть, из жалости ко мне.
- Перестроятся ряды конвоя,
- И начнется всадников разъезд.
- Словно в бурю смерч, над головою
- Будет к небу рваться этот крест.
- Брошусь на землю у ног распятья,
- Обомру и закушу уста.
- Слишком многим руки для объятья
- Ты раскинешь по концам креста.
- Для кого на свете столько шири,
- Столько муки и такая мощь?
- Есть ли столько душ и жизней в мире?
- Столько поселений, рек и рощ?
- Но пройдут такие трое суток
- И столкнут в такую пустоту,
- Что за этот страшный промежуток
- Я до Воскресенья дорасту.
Ноябрь-декабрь 1949
После ареста Ольги Ивинской Пастернак взял на себя заботу о ее детях и матери, писал ей в лагерь. Несколько сохранившихся открыток, посланных в Потьминские лагеря, написаны от лица матери, потому что переписка разрешена была только с родными.
31 мая 1951.
«Дорогая моя Олюша, прелесть моя! Ты совершенно права, что недовольна нами. Наши письма к тебе должны были прямо из души изливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б. на днях видел тебя во сне в длинном и белом. Он куда-то все пропадал и оказывался в разных положениях и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, — шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи, кроме того я тебе послала как-то несколько книжек. Видимо все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.
Твоя мама».
7 августа 1951.
«Родная моя! Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет, и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро вернешься и все будет хорошо. В этой открытке я тебе писала, что никогда не понимаю Б.Л. и против вашей дружбы. Он говорит, что если бы он смел так утверждать, он сказал бы, что ты самое высшее выражение его существа, о каком он мог мечтать. Вся его судьба, все его будущее это нечто несуществующее. Он живет в этом фантастическом мире и говорит, что все это — ты, не разумея под этим ни семейной, ни какой-либо другой ломки. Тогда что же он под этим понимает? Крепко тебя обнимаю, чистота и гордость моя, желанная моя. Твоя мама».
14 ноября 1952.
«Родная моя, ангел мой! Здравствуй, здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Страшно подумать, что ты перенесла, и что впереди, но ни слова об этом! Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды. Как чудно ты написала свою открытку, все вложила в несколько строчек, я так не умею. Буду узнавать о тебе от твоей мамы. Я не буду писать тебе, так будет лучше. Да и к чему? Ты все знаешь».
Осенью 1952 года Пастернак, как и в прошлые годы, много работал на огороде, собрал большой урожай картофеля. Окончив очередную главу романа «Доктор Живаго», он повез ее в город машинистке. По дороге у него случился инфаркт и его увезли в Боткинскую больницу. Первую неделю он лежал в общем отделении, врачи серьезно опасались за его жизнь.
«…Когда это случилось, и меня отвезли, и я пять вечерних часов пролежал в приемном покое, а потом ночь в коридоре обыкновенной громадной и переполненной городской больницы, то в промежутках между потерею сознания и приступами тошноты и рвоты меня охватывало такое спокойствие и блаженство! Я думал, что в случае моей смерти не произойдет ничего несвоевременного, непоправимого.
Зине с Ленечкой на полгода средств хватит, а там они осмотрятся и что-нибудь предпримут. У них будут друзья, никто их не обидит. А конец не застанет меня врасплох, в разгаре работ, за чем-нибудь недоделанным. То немногое, что можно было сделать среди препятствий, которые ставило время, сделано (перевод Шекспира, Фауста, Бараташвили).
А рядом все шло таким знакомым ходом, так выпукло группировались вещи, так резко ложились тени! Длинный верстовой коридор с телами спящих, погруженный во мрак и тишину, кончался окном в сад с чернильной мутью дождливой ночи и отблеском городского зарева Москвы за верхушками деревьев. И этот коридор, и зеленый шар лампового абажура на столе у дежурной сестры у окна, и тишина, и тени нянек, и соседство смерти за окном и за спиной — все это по сосредоточенности своей было таким бездонным, таким сверхчеловеческим стихотворением. В минуту, которая казалась последнею в жизни, больше, чем когда-либо до нее, хотелось говорить с Богом, славословить видимое, ловить и запечатлевать его.
«Господи, — шептал я, — благодарю тебя за то, что твой язык — величественность и музыка, что ты сделал меня художником, что творчество — твоя школа, что всю жизнь ты готовил меня к этой ночи». И я ликовал и плакал от счастья…»
Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 17 января 1953
- Стояли как перед витриной,
- Почти запрудив тротуар.
- Носилки втолкнули в машину,
- В кабину вскочил санитар.
- И скорая помощь, минуя
- Панели, подъезды, зевак,
- Сумятицу улиц ночную,
- Нырнула огнями во мрак.
- Милиция, улицы, лица
- Мелькали в свету фонаря.
- Покачивалась фельдшерица
- Со склянкою нашатыря.
- Шел дождь, и в приемном покое
- Уныло шумел водосток,
- Меж тем, как строка за строкою
- Марали опросный листок.
- Его положили у входа.
- Все в корпусе было полно.
- Разило парами иода,
- И с улицы дуло в окно.
- Окно обнимало квадратом
- Часть сада и неба клочок.
- К палатам, полам и халатам
- Присматривался новичок.
- Как вдруг из расспросов сиделки,
- Покачивавшей головой,
- Он понял, что из переделки
- Едва ли он выйдет живой.
- Тогда он взглянул благодарно
- В окно, за которым стена
- Была точно искрой пожарной
- Из города озарена.
- Там в зареве рдела застава,
- И, в отсвете города, клен
- Отвешивал веткой корявой
- Больному прощальный поклон.
- «О Господи, как совершенны
- Дела Твои, — думал больной, —
- Постели, и люди, и стены,
- Ночь смерти и город ночной.
- Я принял снотворного дозу
- И плачу, платок теребя.
- О Боже, волнения слезы
- Мешают мне видеть Тебя.
- Мне сладко при свете неярком,
- Чуть падающем на кровать,
- Себя и свой жребий подарком
- Бесценным Твоим сознавать.
- Кончаясь в больничной постели,
- Я чувствую рук Твоих жар.
- Ты держишь меня, как изделье,
- И прячешь, как перстень, в футляр».
1956
В конце декабря Пастернака навестила в больнице Анна Ахматова. Она рассказывала о своем разговоре с ним на площадке лестницы у окна, выходящего в сад. Он передал ей тогда как самое важное свое переживание, что теперь он не боится смерти. В стихотворении 1960 года, посвященном кончине Пастернака, Ахматова вспоминала об этом разговоре:
- Словно дочка слепого Эдипа,
- Муза к смерти провидца вела,
- А одна сумасшедшая липа
- В этом траурном мае цвела
- Прямо против окна, где когда-то
- Он поведал мне, что пред ним
- Вьется путь золотой и крылатый,
- Где он вышнею волей храним.
11 июля 1960
Москва. Боткинская больница
После больницы Пастернак поехал в санаторий Болшево, где вскоре начал работать. Там он встретил известие о смерти Сталина.
«…Февральская революция застала меня в глуши Вятской губернии на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной тропой в кибитке, запряженной тройкою гусем, как в Капитанской дочке. Нынешнее трагическое событие застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощанья приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймой, я понял, что случилось. Тихо кругом. Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу…»
Борис Пастернак — Варламу Шаламову.
Из письма 7 марта 1953
«…Два раза написать Вам было моей сильнейшей потребностью: в дни смерти и похорон Сталина и в особенности в день обнародования амнистии, которая стольких, по моему пониманию, должна коснуться, и, в первую очередь Тициана. Но, во-первых, больше чем когда-либо нам нужно терпение, чтобы сохранить силы и дожить до этой радости…
Больше чем когда-либо я хочу дописать роман: перенесенная болезнь показала мне границы сил, которыми я располагаю. Как все люди, я не знаю, сколько часов, или дней, или месяцев и лет в моем распоряжении, но теперь я эту неизвестность ощущаю острее, чем год назад. И свободное время трачу над работой над вещью. Труда над окончанием романа предстоит еще много…»
Борис Пастернак — Нине Табидзе.
Из письма 4 апреля 1953
За этот год сильно продвинулась прозаическая часть романа, летом были написаны 11 стихотворений в тетрадь Юрия Живаго.
Белая ночь
- Мне далекое время мерещится,
- Дом на Стороне Петербургской.
- Дочь степной небогатой помещицы,
- Ты — на курсах, ты родом из Курска.
- Ты — мила, у тебя есть поклонники.
- Этой белою ночью мы оба,
- Примостясь на твоем подоконнике,
- Смотрим вниз с твоего небоскреба.
- Фонари, точно бабочки газовые,
- Утро тронуло первою дрожью.
- То, что тихо тебе я рассказываю,
- Так на спящие дали похоже!
- Мы охвачены тою же самою
- Оробелою верностью тайне,
- Как раскинувшийся панорамою
- Петербург за Невою бескрайней.
- Там вдали, по дремучим урочищам,
- Этой ночью весеннею белой,
- Соловьи славословьем грохочущим
- Оглашают лесные пределы.
- Ошалелое щелканье катится.
- Голос маленькой птички ледащей
- Пробуждает восторг и сумятицу
- В глубине очарованной чащи.
- В те места босоногою странницей
- Пробирается ночь вдоль забора,
- И за ней с подоконника тянется
- След подслушанного разговора.
- В отголосках беседы услышанной
- По садам, огороженным тесом,
- Ветви яблоновые и вишенные
- Одеваются цветом белесым.
- И деревья, как призраки белые,
- Высыпают толпой на дорогу,
- Точно знаки прощальные делая
- Белой ночи, видавшей так много.
1953
Весенняя распутица
- Огни заката догорали.
- Распутицей в бору глухом
- В далекий хутор на Урале
- Тащился человек верхом.
- Болтала лошадь селезенкой,
- И звону шлепавших подков
- Дорогой вторила вдогонку
- Вода в воронках родников.
- Когда же опускал поводья
- И шагом ехал верховой,
- Прокатывало половодье
- Вблизи весь гул и грохот свой.
- Смеялся кто-то, плакал кто-то,
- Крошились камни о кремни,
- И падали в водовороты
- С корнями вырванные пни.
- А на пожарище заката,
- В далекой прочерни ветвей,
- Как гулкий колокол набата
- Неистовствовал соловей.
- Где ива вдовий свой повойник
- Клонила, свесивши в овраг,
- Как древний соловей-разбойник
- Свистал он на семи дубах.
- Какой беде, какой зазнобе
- Предназначался этот пыл?
- В кого ружейной крупной дробью
- Он по чащобе запустил?
- Казалось, вот он выйдет лешим
- С привала беглых каторжан
- Навстречу конным или пешим
- Заставам здешних партизан.
- Земля и небо, лес и поле
- Ловили этот редкий звук,
- Размеренные эти доли
- Безумья, боли, счастья, мук.
1953
Лето в городе
- Разговоры вполголоса
- И с поспешностью пылкой
- Кверху собраны волосы
- Всей копною с затылка.
- Из-под гребня тяжелого
- Смотрит женщина в шлеме,
- Запрокинувши голову
- Вместе с косами всеми.
- А на улице жаркая
- Ночь сулит непогоду,
- И расходятся, шаркая,
- По домам пешеходы.
- Гром отрывистый слышится,
- Отдающийся резко,
- И от ветра колышется
- На окне занавеска.
- Наступает безмолвие,
- Но по-прежнему парит,
- И по-прежнему молнии
- В небе шарят и шарят.
- А когда светозарное
- Утро знойное снова
- Сушит лужи бульварные
- После ливня ночного,
- Смотрят хмуро по случаю
- Своего недосыпа
- Вековые, пахучие,
- Неотцветшие липы.
1953
Ветер
- Я кончился, а ты жива.
- И ветер, жалуясь и плача,
- Раскачивает лес и дачу.
- Не каждую сосну отдельно,
- А полностью все дерева
- Со всею далью беспредельной,
- Как парусников кузова
- На глади бухты корабельной.
- И это не из удальства
- Или из ярости бесцельной,
- А чтоб в тоске найти слова
- Тебе для песни колыбельной.
1953
Хмель
- Под ракитой, обвитой плющом,
- От ненастья мы ищем защиты.
- Наши плечи покрыты плащом,
- Вкруг тебя мои руки обвиты.
- Я ошибся. Кусты этих чащ
- Не плющом перевиты, а хмелем.
- Ну так лучше давай этот плащ
- В ширину под собою расстелем.
1953
Бессонница
- Который час? Темно. Наверно, третий.
- Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено.
- Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете.
- Потянет холодом в окно,
- Которое во двор обращено.
- А я один.
- Неправда, ты
- Всей белизны своей сквозной волной
- Со мной.
1953
Под открытым небом
- Вытянись вся в длину,
- Во весь рост
- На полевом стану
- В обществе звезд.
- Незыблем их порядок.
- Извечен ход времен.
- Да будет так же сладок
- И нерушим твой сон.
- Мирами правит жалость,
- Любовью внушена
- Вселенной небывалость
- И жизни новизна.
- У женщины в ладони,
- У девушки в горсти
- Рождений и агоний
- Начала и пути.
1953
В двух последних стихотворениях, которые потом не были включены в окончательный текст романа «Доктор Живаго», чувствуется потаенная радость возвращения Ольги Ивинской и воспоминания о былых встречах с ней. Она была освобождена весною, но счастье встречи не могло заглушить в ней ужас того, что ей пришлось пережить.
«…Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось вседневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются…»
Борис Пастернак — Ольге Фрейденберг.
Из письма 3 декабря 1953
Они виделись изредка, Пастернак по-прежнему поддерживал материально ее и детей, помогал ей доставать переводную работу, которая дала возможность вскоре получить ей прописку в Москве. В апреле 1954 года он пригласил ее на чтение своего перевода «Фауста» в Союз писателей. Это было ее первое появление на публике.
Пастернак читал отрывки своего перевода, попутно комментируя их соответствующими соображениями. В сцене «Маргарита в тюрьме» он не мог сдержать слез.
«…Председательствовал М.М. Морозов, тучный, выросший из серовского курчавого мальчугана, Мика Морозов. Пастернак читал сидя…
Его скулы подрагивали, словно треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом.
- Вы снова здесь, изменчивые тени,
- Меня тревожившие с давних пор,
- Найдется ль наконец вам воплощенье,
- Или остыл мой молодой задор?
- Ловлю дыханье ваше грудью всею
- И возле вас душою молодею.
По мере того как читал он, все более просвечивал сквозь его лицо профиль ранней поры… Проступали сила, порыв, решительность и воля мастера, обрекшего себя на жизнь заново, перед которой опешил даже Мефистофель…
- Вы воскресили прошлого картины
- Былые дни, былые вечера.
- Вдали всплывает сказкою старинной
- Любви и дружбы первая пора.
- Пронизанный до самой сердцевины
- Тоской тех дней и жаждою добра…
Ну да, да, ему хочется дойти до сущности прошедших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины.
- И я прикован силой небывалой
- К тем образам, нахлынувшим извне.
- Эоловою арфой прорыдало
- Начало строф, родившихся вчерне.
Это о себе он читал, поэтому и увлек его «Фауст» — не для заработка же одного он переводил и не для известности: он искал ключ ко времени, к возрасту, это он о себе писал, к себе прорывался, и Маргарита была его, этим он мучился, время хотел обновить…»
Андрей Вознесенский.
«Мне четырнадцать лет…»
Прежние отношения с О.В. Ивинской не возобновлялись, Пастернак не хотел возвращаться к прошлому, мучительно им прерванному в свое время, но чувствовал неоплатный долг совести перед нею, перенесшей нечеловеческие страдания тюрьмы и лагерей.
«…В послевоенные годы я познакомился с молодой женщиной Ольгой Всеволодовной Ивинской, но не вынеся душевной раздвоенности и тихого, покорного горя своей жены, я должен был пожертвовать своей новой близостью и с болью разорвал свои отношения с О.В. Вскоре она была арестована и приговорена к пяти годам тюрьмы и концентрационных лагерей. Ее арестовали, как человека, близкого мне, с точки зрения тайной полиции, чтобы угрозами и мучительными допросами добиться показаний на меня, чтобы потом можно было осудить меня и погубить. Я обязан жизнью ее мужеству и выдержке».
Борис Пастернак — Ренате Швайцер.
Из письма 7 мая 1958 (Перевод с немецкого)
Только к концу 1954 года снова возобновились поначалу редкие свидания Пастернака с Ольгой Ивинской, слезы Зинаиды Николаевны, угрызения совести и чувство вины перед сыном. Летом 1955 года Ольга Ивинская сняла комнату в деревне, соседней с Переделкиным. Постепенно она взяла на себя издательские дела Пастернака, разговоры с редакторами, контроль за выплатой денег, что освобождало его от утомительных поездок в город.
Весной 1955 года Гослитиздат предложил выпустить сборник стихотворений Пастернака. Составителем был назначен молодой редактор Н.В. Банников, друг Ольги Всеволодовны.
«…Зимой после окончательной отделки романа очередным делом стала забота о книге избранных стихотворений и ее подготовка. Возникновение вступительного очерка — заслуга Банникова, составителя, попросившего меня о статье. Кроме того ему требовались новые стихи для последнего дополнительного раздела книги, их надо было написать, и едва только я кончил статью, я принялся за стихи. Я их пишу не глубоко, не напряженно, как очень давно, до революции, совершенно не сознаю и не чувствую их качества и написал уже довольно много…»
Борис Пастернак — Марине Баранович.
Из письма 4 августа 1956
- Быть знаменитым некрасиво
- Не это подымает ввысь.
- Не надо заводить архива,
- Над рукописями трястись.
- Цель творчества — самоотдача,
- А не шумиха, не успех.
- Позорно, ничего не знача,
- Быть притчей на устах у всех.
- Но надо жить без самозванства,
- Так жить, чтобы в конце концов
- Привлечь к себе любовь пространства,
- Услышать будущего зов.
- И надо оставлять пробелы
- В судьбе, а не среди бумаг,
- Места и главы жизни целой
- Отчеркивая на полях.
- И окунаться в неизвестность,
- И прятать в ней свои шаги,
- Как прячется в тумане местность,
- Когда в ней не видать ни зги.
- Другие по живому следу
- Пройдут твой путь за пядью пядь,
- Но пораженья от победы
- Ты сам не должен отличать.
- И должен ни единой долькой
- Не отступаться от лица,
- Но быть живым, живым и только,
- Живым и только до конца.
1956
- Во всем мне хочется дойти
- До самой сути.
- В работе, в поисках пути,
- В сердечной смуте.
- До сущности протекших дней,
- До их причины,
- До оснований, до корней,
- До сердцевины.
- Все время схватывая нить
- Судеб, событий,
- Жить, думать, чувствовать, любить,
- Свершать открытья.
- О, если бы я только мог
- Хотя отчасти,
- Я написал бы восемь строк
- О свойствах страсти.
- О беззаконьях, о грехах,
- Бегах, погонях,
- Нечаянностях впопыхах,
- Локтях, ладонях.
- Я вывел бы ее закон,
- Ее начало,
- И повторял ее имен
- Инициалы.
- Я б разбивал стихи, как сад.
- Всей дрожью жилок
- Цвели бы липы в них подряд,
- Гуськом в затылок.
- В стихи б я внес дыханье роз,
- Дыханье мяты,
- Луга, осоку, сенокос,
- Грозы раскаты.
- Так некогда Шопен вложил
- Живое чудо
- Фольварков, парков, рощ, могил
- В свои этюды.
- Достигнутого торжества
- Игра и мука —
- Натянутая тетива
- Тугого лука.
1956
Ева
- Стоят деревья у воды,
- И полдень с берега крутого
- Закинул облака в пруды,
- Как переметы рыболова.
- Как невод, тонет небосвод,
- И в это небо, точно в сети,
- Толпа купальщиков плывет —
- Мужчины, женщины и дети.
- Пять-шесть купальщиц в лозняке
- Выходят на берег без шума
- И выжимают на песке
- Свои купальные костюмы.
- И наподобие ужей
- Ползут и вьются кольца пряжи,
- Как будто искуситель-змей
- Скрывался в мокром трикотаже.
- О женщина, твой вид и взгляд
- Ничуть меня в тупик не ставят.
- Ты вся — как горла перехват,
- Когда его волненье сдавит.
- Ты создана как бы вчерне,
- Как строчка из другого цикла,
- Как будто не шутя во сне
- Из моего ребра возникла.
- И тотчас вырвалась из рук
- И выскользнула из объятья,
- Сама — смятенье и испуг
- И сердца мужеского сжатье.
1956
Без названия
- Недотрога, тихоня в быту,
- Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
- Дай запру я твою красоту
- В темном тереме стихотворенья.
- Посмотри, как преображена
- Огневой кожурой абажура
- Конура, край стены, край окна,
- Наши плечи и наши фигуры.
- Ты с ногами сидишь на тахте,
- Под себя их поджав по-турецки.
- Все равно, на свету, в темноте,
- Ты всегда рассуждаешь по-детски.
- Замечтавшись, ты нижешь на шнур
- Горсть на платье скатившихся бусин.
- Слишком грустен твой вид, чересчур
- Разговор твой прямой безыскусен.
- Пошло слово любовь, ты права.
- Я придумаю кличку иную.
- Для тебя я весь мир, все слова,
- Если хочешь переименую.
- Разве хмурый твой вид передаст
- Чувств твоих рудоносную залежь,
- Сердца тайно светящийся пласт?
- Ну так что же глаза ты печалишь?
1956
Весна 1956 года после выступления Хрущева на XX съезде партии с докладом, разоблачавшим культ Сталина, разрядила душную атмосферу лжи струею свежего воздуха. Вскрывшиеся страшные тайны и подробности гибели замученных в застенках и расстрелянных людей рождали мысль «написать памяти погибших и убиенных наподобие ектеньи в панихиде». Стихотворение Пастернака, по теме сходное замыслу ахматовского «Реквиема», характеризуется близостью православным канонам.
Душа
- Душа моя, печальница
- О всех в кругу моем,
- Ты стала усыпальницей
- Замученных живьем.
- Тела их бальзамируя,
- Им посвящая стих,
- Рыдающею лирою
- Оплакивая их,
- Ты в наше время шкурное
- За совесть и за страх
- Стоишь могильной урною,
- Покоящей их прах.
- Их муки совокупные
- Тебя склонили ниц.
- Ты пахнешь пылью трупною
- Мертвецких и гробниц.
- Душа моя, скудельница[115],
- Все виденное здесь
- Перемолов, как мельница,
- Ты превратила в смесь.
- И дальше перемалывай
- Все бывшее со мной,
- Как сорок лет без малого
- В погостный перегной.
1956
Только теперь вскрылась тайна гибели Тициана Табидзе, последовавшей вскоре после его ареста, при том, что все прошедшие после этого годы близкие обманывались надеждами и ждали его возвращения. В годовщину его расстрела Пастернак писал его вдове:
«Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что я сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства. Это повернуло меня спиной к людям, вроде Тихонова или ничтожествам и советским Молчалиным, вроде Гольцева…
О, как давно почувствовал я сказочную, фантастическую ложь и подлость всего, и гигантскую, неслыханную, в душе и голове не умещающуюся преступность!
Но все это к делу не относится. Нужно как-то так выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести Вам облегчение и утишить упрек и жалобу этой тени, удовлетворить ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск.
Все это не делается в письме, все это, может быть, когда-нибудь сделается.
Когда в редкие, почти несуществующие моменты, я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвратом начнется новая жизнь для меня, новая форма личной радости и счастья.
Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотрительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, наученным таким страшным уроком. Я говорю о нас самих, а не о воздаянии кому-то другому. Другие никогда не интересовали меня…»
Пробуждение всколыхнуло литературную общественность. Оживление издательской деятельности ознаменовалось новыми начинаниями. Казавшееся непредставимым еще в прошлом году теперь неожиданно становилось возможным. Веяние этих возможностей коснулось и Пастернака. Рукопись романа была предоставлена журналу «Новый мир». Обсуждался вопрос, где публиковать новые стихи. В «Знамени» вышла их большая подборка.
В Москву стали приезжать различные делегации из-за границы, они посещали писателей в Переделкине, заходили к Пастернаку. Рукопись романа «Доктор Живаго» была передана литературному агенту коммунистического издательства Фельтринелли в Милане.
Когда разгуляется
- Большое озеро как блюдо.
- За ним — скопленье облаков,
- Нагроможденных белой грудой
- Суровых горных ледников.
- По мере смены освещенья
- И лес меняет колорит.
- То весь горит, то черной тенью
- Насевшей копоти покрыт.
- Когда в исходе дней дождливых
- Меж туч проглянет синева,
- Как небо празднично в прорывах,
- Как торжества полна трава!
- Стихает ветер, даль расчистив.
- Разлито солнце по земле.
- Просвечивает зелень листьев,
- Как живопись в цветном стекле.
- В церковной росписи оконниц
- Так в вечность смотрят изнутри
- В мерцающих венцах бессонниц
- Святые, схимники, цари.
- Как будто внутренность собора —
- Простор земли, и чрез окно
- Далекий отголосок хора
- Мне слышать иногда дано.
- Природа, мир, тайник вселенной,
- Я службу долгую твою,
- Объятый дрожью сокровенной,
- В слезах от счастья отстою.
1956
Перемена
- Я льнул когда-то к беднякам
- Не из возвышенного взгляда,
- А потому что только там
- Шла жизнь без помпы и парада.
- Хотя я с барством был знаком
- И с публикою деликатной,
- Я дармоедству был врагом
- И другом голи перекатной.
- И я старался дружбу свесть
- С людьми из трудового званья,
- За что и делали мне честь,
- Меня считая тоже рванью.
- Был осязателен без фраз,
- Вещественен, телесен, весок
- Уклад подвалов без прикрас
- И чердаков без занавесок.
- И я испортился с тех пор,
- Как времени коснулась порча,
- И горе возвели в позор,
- Мещан и оптимистов корча.
- Всем тем, кому я доверял,
- Я с давних пор уже неверен.
- Я человека потерял
- С тех пор, как всеми он потерян.
1956
Осенью 1956 года Пастернак получил от редакции «Нового мира» письменный отказ на печатание «Доктора Живаго». Как недавно стало известно, он был составлен по указаниям ЦК партии. Таким образом появившийся через год итальянский перевод романа стал первым изданием, что сделало Фельтринелли собственником всемирных прав.
Отказ «Нового мира», остановивший публикацию «Доктора Живаго» на родине, по условиям времени продолжал действовать в течение более чем тридцати лет. А тогда, в 1958–1959 годах, вслед за итальянским переводом роман вышел практически на всех языках мира.
Пастернак понимал, что такое положение оборачивается для него серьезными угрозами, но это не могло победить радостное сознание того, «что по слепой игре судьбы мне посчастливилось высказаться полностью, и то самое, чем мы привыкли жертвовать и что есть самое лучшее в нас, художник оказался в моем случае незатертым и нерастоптанным».
«…В конце 1957 года Фельтринелли не дождался напечатания романа здесь и издал его в Италии. С этого времени началась обоюдная спекуляция и у нас и на Западе. У нас возмущались и считали это предательством, а там главной целью было заработать много денег и нажить политический капитал. Обстановка создавалась невозможная. Я чувствовала, что все это грозит Боре гибелью. Он этого не понимал. Он сказал мне, что писатель существует для того, чтобы его произведения печатали, а здесь роман лежал полгода и по договору, заключенному между Гослитиздатом и Фельтринелли, тот имел право публиковать роман первым. Боря был абсолютно прав в своем ощущении, но я укоряла его за действия, потому что он поступил незаконно, и лучше было бы этого не делать. Может быть, это и рискованно, отвечал он, но так надо жить, на старости лет он заслужил право на такой поступок. Тридцать лет его били за каждую строчку, не печатали, — и все это ему надоело…»
Зинаида Пастернак.
Из «Воспоминаний»
Двойственность и неустойчивость положения не нарушала налаженный ритм работы Пастернака. Постепенно пополнялась новая книга стихов, при том что тираж обещанного во время «оттепели» сборника был рассыпан.
Золотая осень
- Осень. Сказочный чертог,
- Всем открытый для обзора.
- Просеки лесных дорог,
- Заглядевшихся в озера.
- Как на выставке картин:
- Залы, залы, залы, залы
- Вязов, ясеней, осин
- В позолоте небывалой.
- Липы обруч золотой —
- Как венец на новобрачной.
- Лик березы — под фатой
- Подвенечной и прозрачной.
- Погребенная земля
- Под листвой в канавах, ямах.
- В желтых кленах флигеля,
- Словно в золоченых рамах.
- Где деревья в сентябре
- На заре стоят попарно,
- И закат на их коре
- Оставляет след янтарный.
- Где нельзя ступить в овраг,
- Чтоб не стало всем известно:
- Так бушует, что ни шаг,
- Под ногами лист древесный.
- Где звучит в конце аллей
- Эхо у крутого спуска
- И зари вишневый клей
- Застывает в виде сгустка.
- Осень. Древний уголок
- Старых книг, одежд, оружья,
- Где сокровищ каталог
- Перелистывает стужа.
1956
Ненастье
- Дождь дороги заболотил.
- Ветер режет их стекло.
- Он платок срывает с ветел
- И стрижет их наголо.
- Листья шлепаются оземь.
- Едут люди с похорон.
- Потный трактор пашет озимь
- В восемь дисковых борон.
- Черной вспаханною зябью
- Листья залетают в пруд
- И по возмущенной ряби
- Кораблями в ряд плывут.
- Брызжет дождик через сито.
- Крепнет холода напор.
- Точно все стыдом покрыто,
- Точно в осени — позор.
- Точно срам и поруганье
- В стаях листьев и ворон,
- И дожде и урагане,
- Хлещущих со всех сторон.
1956
Первый снег
- Снаружи вьюга мечется
- И все заносит в лоск.
- Засыпана газетчица
- И заметен киоск.
- На нашей долгой бытности
- Казалось нам не раз,
- Что снег идет из скрытности
- И для отвода глаз.
- Утайщик нераскаянный, —
- Под белой бахромой
- Как часто вас с окраины
- Он разводил домой!
- Все в белых хлопьях скроется,
- Залепит снегом взор, —
- На ощупь, как пропоица,
- Проходит тень во двор.
- Движения поспешные:
- Наверное опять
- Кому-то что-то грешное
- Приходится скрывать.
1956






