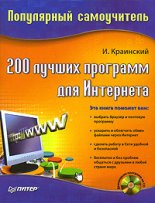Прощай, Атлантида Шибаев Владимир
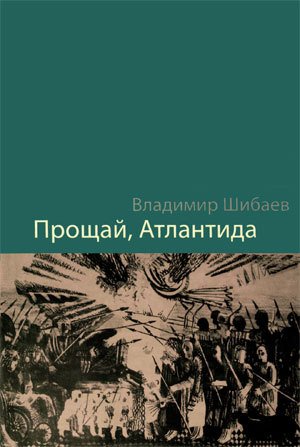
– Тихо, – прошептала она.
Прошло с десяток минут тряски.
Вдруг страшно завыли сирены, автобус дернулся, остановился, и в нем поднялся шум и гам, налетели какие-то люди с лицами в противогазах и специальных глухих халатах и стали выволакивать пассажиров из транспорта, а сухой голос Колина объявил у открытой водительской двери:
– Господа, не переживайте. Не толкайтесь, рожи дурные. Учения управления чрезвычайной ситуации МЧС. Ведите себя на носилках достойно, перевязывайтесь тихо.
Пюди в противогазах выволокли географа и Риту на теряющуюся в сумраке дорогу. Два реанимобиля вращали огнями в полутьме, на носилки укладывали орущую и крестящуюся бабку и совали ей корзину яиц.
Кто-то заорал:
– Химическая атака! – Да нашли, нашли, – крикнул другой.
Грубые перчатки сунули в нос Арсения смоченную гадостью марлю, и остатки света погасли в его не вполне здоровых очах.
Шустрый Воробей целый день скакал по городу, как взмыленная лошадь. Хозяин квартирки, Арсений Фомич, прочно запропастился, и пришлось оставлять на ночевку возле его временами обездвиженной невесты прекрасно ответственного барабанщика и его социальную герлфренд Элоизу. Эти двое обессилевших от бодрости молодых людей с настоящим «сине-зеленым» спокойствием на лицах пытались спать на двух стульях, поставленных спинами друг к другу, положив голову один другому на плечо. Но невеста, погрузившаяся в огромную семейную трагедию, засыпала урывками, не ела, а только жадно пила воду и шумно и судорожно врывалась в туалет. И, временами, воздев пухленькие ручки, причитала:
– Срежу вены по любому.
– Подожгусь и гламурно спалю тут все.
– Я теперь по жизни шагая мумие.
– Где мама, барабанщик? Настучи ее сюда.
А Юлий, притащив и поправив здоровье прибора клейкой лентой, развлекал временно сдвинутую с жизненных позиций траурной дробью палочек и стихами:
– Хоть сжигает тебя грусть, охладело сердце пусть,
Не навеки это дело, смело ты поправишь тело.
И помчишься как-нибудь в трудный социальный путь.
И еще, развлекая в ужасе косящуюся невесту, бурчал, промеряя строевым шагом путь из угла комнаты в другой:
– Встань, товарищ раненый, под знамена, пламенный.
Сине– мы зеленый стяг развернем, невестин флаг.
В подвенечном та наряде все простит, идеи ради.
А также тормошил заторможенную, подталкивая к тарелке с хлебом и колбасой и к чашке дымящегося чая:
– Собирайся, милый друг в совокупности подруг, – верещал Юлий, подталкивая за спину Клодетту как бы к подруге Элоизе.
– Отправляемся на дело, засучив штанишки смело, позабыв стенаний круг.
– Что ж, нам жизнь отдать велела за народ комплект всех мук.
Но, как ни странно, вирши принесли некоторое лечебное облегчение страданий. Обещающая закончить земной путь Клодетта покушала колбасы, а умная девушка Элоиза, зачем-то нарядившаяся на пикетирование с плакатом в свое материно личное коротковатое свадебное платье, чтобы, как она выразилась, "произвести кое-что на прохожих и привлечь к лозунгу мужские взгляды", – предложила Клодетте прикинуть свадебный прикид. Та не отказалась, и Элоиза, скинув наряд, с трудом натянула на толстушку блестящее вискозой одеяние, и Клава, хлюпая носом, завертелась перед обнаруженным под столом бритвенным зеркалом:
– Ну и прикид, может я и не бомжовка, но по всему не карамелька. Увидел бы меня в такой чумазе гад-родитель, наверное пожалел.
А Элоиза осталась в черной кружевной комбинации, прекрасная и незнакомая, и барабанщик в страшном смущении, покраснев, как сеньор-помидор, отвернулся в угол, рассматривая поломанную Африку на глобусе.
Но догадливая девушка нарочно подошла к Июлию и тихо спросила:
– Июлий, погляди. Я тебе еще пока нравлюсь?
– Очень! Очень пока! – покачал барабанщик головой и барабаном и не посмел взглянуть.
А толстушка, аппетитно вертясь перед небольшим зеркальцем, заверещала, двигая, как в танце, пухленькими ляжками:
– А все-таки клево, Клава. Еще вот сюда пару ниток розового жемчуга, и буду, как штопаная.
Но журналист Воробей всего этого не видел, потому что мотался по городу, надеясь обнаружить географические следы господина Полозкова. Перед этим у него, конечно. произошла довольно неприятная перебранка с уткнувшейся в угол тахты Клотильдой, когда он поутру заскочил проведать дежурных и опекаемую и понять, как найти какую-нибудь телегу, а потом сгрузить в этот воз и с этого воза пухленькую заплаканную упрямицу-ослицу.
– Ты, – крикнул ей Воробей, – лежишь тут в углу, как восковая кукла, а всем требуется, может, твоя помощь.
– Чего? – повернулась Клодетта. – Кому это, по натуре.
– Мне, например, – запальчиво воскликнул Воробей. – Моталась бы со мной или вместо меня по трущобам и переулкам, помогала в журналистских происках, а заодно и похудела.
– Ты тут не ори, ботаник, – вспыхнула Клодетта. – Ты тут не главный мне жених покамест.
– Очень надо! – облизнулся на пухленькую Воробей. – Да мне, если и посулят назначить главным редактором органа "Правды", и то не соглашусь ни за коврижки, ни задаром.
– Раскрой уши, зоолог. Такую крутую девушку, как я, тебе, чтобы только потрогать за неглавное, и то всю жизнь надо собрание сочинений ляпать. По жизни не заколотишь. Не по таким коврижка.
– Чего! – возмутился Воробей. – Да ты дура дурой, у тебя вместо мозгов черничный кисель, а вместо памяти – от мух кисея.
– А почему черничный? – скромно справился Юлий, обожающий кисели.
– Гад, – заорала Клодетта, наставив на пятящегося щуплого журналиста острые коготки. – У меня мозга, что у кита, против тебя таракана. Ты даже где у нас в городе клевые бары, вроде " Беременного приюта", и топталки, вроде " Откинь тапки", и то не в понятии, зоолог. И назначат тебя главным редактором только твоего некролога.
Воробей никак не ожидал от пухляшки таких сентенций.
– Жених шустрый! – презрительно крикнула Клодетта, продолжая опасно приближаться. – Щас тебя к свадьбе разукрашу. Нехороша тебе, ботанику, толстая!
– Нет, – неуверенно произнес Воробей. – Ты вообще-то красивая.
Клава опешила. Потом оправила на себе мятую, дизайнерского кроя попону, уселась обратно на тахту и сказала удрученно:
– Курить нету… Я и так тут за день на воде сто кило спустила… Красивая…
– Конечно, красивая, – подтвердил смелее Воробей, которому, может, из-за собственной худобы, пухляшки всегда изрядно нравились. – Но безмозглая.
– Мозг у девушки не главное, – миролюбиво сообщила Клодетта. – У мозгов нет сосков. Ишь он… красивая. Если меня причесать, помыть и завернуть в ковры из моего гардероба – может, и буду, – неуверенно заявила девица.
– Да ты будешь неотразимая! – сообщил дальним умом журналист. – Собирайся. Поехали домой, в ковры рядиться.
– У-у…у… – опять завелась пухляшка. – Там мама… этот сидит. Не могу его видеть.
– Надо, – твердо и властно сообщил худой Воробей, нахохлившись. – Отец твой, думаю, в отрубе. Пьяный, или онемелый, в ванне с валерьянкой лежит. А кто будет маму хоронить, Пушкин?
– Какой Пушкин? – опять плача, спросила Клодетта. – Нет у нас ни родственников, ни… Одна я теперь тащусь.
– И я, – сказал Воробей голосом ослика. – Все поможем. Идите сейчас на патрулирование с плакатом, только другой нарисуйте. Этот, географ сказал, не актуален. Напишите "Долой банкиров-насильников над сине-зеленой планетой!".
– Какое патрулирование? – завопила опять Клодетта.
– Патрулирование "Белого налива", – смело вмешалась Элоиза, – по бывшим садам. В честь народной судьбы, против засилья засранцев.
– Ну… Лизанька, – смутился Юлий.
– Барабанщик все скажет. А я на пару часов отлучусь, а потом поедем, девушка, к тебе домой. Будешь мыться и готовится к печальным процедурам. А что делать? – воздел Воробей крылья, как пророк. – Кому маманечку провожать, если не родной дочуре. Красавице.
– Эй, шустрый, – сквозь слезы улыбнулась Клодетта. – Может, я с тобой?
– Ага! – буркнул шустрый и помчался прочь из этого вертепа.
А молодежь, трудолюбиво разведав найденные возле подбитого глобуса школьные акварельки, развела их в блюдце, намалевала плакат и отправилась бродить по холодной погоде, по улицам, заполненным бегающим в поисках предпраздничных майских покупок народом. Свежый прохладный воздух пошел Клодетте на пользу, она несколько ожила и даже, когда некоторые прохожие шутливо или матерно задевали шатающихся агитаторов, звонко и впопад отшивала шутников юмором и матом. Чем сослужила "Наливу" хорошую службу и сыграла хорошую роль в тяжком, в общем, деле пробуждения народного самосознания. Когда через пару часов окоченевшие митингующие заявились обратно в жилище географа, то с удивлением обнаружили, что дверь была мастерски вскрыта, вновь закрыта, а на тахте, где почти сутки бездвижно провела аппетитная Клодетка, теперь занято, и сидят двое – пацан и пацанка.
Девчонка на большой лист, слюнявя чернильный карандаш, старательно срисовывала карту древнего средиземноморья со стены, а паренек ругал ее за неусердие и тыкал все время, подправляя, шариковой ручкой:
– Рисуй глаже, в размере, – кричал он, – а то разбери потом, на местности… где эта неизвестная Атлантида. Материк мечты… поняла?
– Да пошел ты… – соглашалась пацанка. – Я бы лучше в школу пошла, на основы поведения граждан.
– Вы кто? – спросили хором пришедшие, сгружая в коридор новый лозунг.
– Мы то знаем, кто! – бодро сообщил паренек. – Мы географические ученики…
– Учителя Арсения Фомича, – добавила его подруга. – Помогаем с картами. А вы кто приперлись?
– Мы дежурные по квартире, – сказал Июлий и ткнул музыкального друга в глухой бок. – Мы срочно ждем хозяина.
– Ты мне не барабань это, – заявил пацаненок. – Ходят всякие, а потом половники пропадают пропадом. Сейчас Папаню вызову за направо… нелево…неправо… мерное вторжение в фатеру.
– Да ты, спокуха, пацан, – одернула хлопца Клодетта. – Рисуешь – рисуй, раз тебе задали. А у нас дела, скоро журналист прискачет. У нас похороны, понял?
– Не понял, – скукожился хлопец, хлюпнув насморком.
Еще через час заявился и Воробей. Блуждания его по городу были безуспешны, и он несколько сник. Лишь в одном баре со странным названием, кажется, "Прилет беременного", где в этот день опять ораторствовал мечущийся возле стойки человек Гафонов и где мог бы появиться географ, он смог толком поговорить с одной женщиной, знакомой этого мечущегося, Эвелиной Розенблюм, теперь певицой ихнего кабаре. Она сказала настырному журналисту загадочное:
– Знаем мы вашего географа. Как же! Все время попадает в окрестности боевых машин под замок. Жди, скоро будет. А мне теперь не до вас, видишь? У меня больной человек мечется. Может, ты вылечишь? То-то и оно. А бросать припадочного посреди дороги для серьезной женщины – последнее дело. Видишь, как он к людям обращается, как для них душу ковром цветным стелет. Видишь, как из него слезы брызжут и гнев выплескивает. Это тебе не под красным фонарем торчать и тупых и усталых после смены смущать. Вот откричится, я его на стул за бокал красного посажу, а потом, как свое, под плачащую еврейскую скрипку отрыдаю, поведу в тусклый дом – умою, приберу и на покой на его простыни изнемогшего положу, как дидятю. Дочка у меня уже самостоятельная и строгих правил. Никогда мамкины строгости не нарушит. Хоть и в школу не любит. А кто сейчас любит? Поэтому постоянного глаза не требует. Сама, умница, и скипятит и сжарит. А за этим, младенцем грубым, еще как глаз нужен. Чтоб не напортачил. Да и со связями он, хотели меня из певиц выпереть, так сказанул, что и отцепились. А мне семью кормить…
Но этот короткий разговор и была единственная крохотная удача Воробья за весь день.
– Поехали домой, девушка, – скомандовал он Клодетте, вновь попав в дом исчезающего географа. – Эти бойцы яблочного фронта хоть чуток отдохнут. А вы, ребята, срисуете, – обратился он к малюющим на листе древние подробности, – хоть, уходя, дверь прикройте. Да не берите тут ничего лишнего, а то нам перед хозяином отвечать.
– Тут ничего не берется, – тоскливо сообщил мальчик Кабан. – Пробовали, не получается. Совесть зажирает.
– Где это у тебя совесть, – вмешалась девчонка Краснуха. – В каком месте с кем спит?
– Рисуй! – крикнул паренек. – Лучше б ты в школу ходила, замаялся я с тобой.
Темное такси по уплывающим в ночь улицам быстро домчало Воробья и Клодетту к расположенному в хорошем тенистом пригороде особняку адвоката. На пороге их встретил, охая, старый прислужник и сообщил кладбищенским голосом:
– Маменька поехали в морг. А они пьют второй день. А Вы что ж, Клавдия Теодоровна, слава богу? Сохрани господь. Наверху-с, в малом кабинете, совсем пьют-с. Кто ж а Вы будете, молодой человек, чтоб мне как вас кликать?
– Это один… ботаник… Журналист. Друг семьи, – тихо сказала Клава, дрожа.
– Наверх али пойдете? – с надеждой спросил привратник.
– Пойдем, – твердо сообщил Воробей.
– Сходите, сходите, – печально повторил старик. – Пьет… Никто не звонит, никто не едет. Как в могиле второй божий день.
Когда они шли по скрипящей старинную мелодию лестнице, Клодетта сильно запыхалась, задышала и, остановившись и присев на ступеньку, спросила:
– А тебя как звать-то?
– Воробей, – ответил Воробей.
– Ну ладно надо мной пудриться, – зло отозвалась девушка, поднялась и потянулась вверх.
В секретном кабинете за небольшим столиком в плетеном кресле сидел Павлов. Голова его валялась на столе. Рядом надгробной крестовиной высился телескоп. Воробей вошел внутрь, а девушка застыла у двери, без сил прислонившись к косяку.
– Кто? Кто… Это ты… женка… вернулась?! – всполошился Павлов, пытаясь вскочить.
На полу возле его ноги звякнули две или три порожних коньячных фигурных склянки.
– Это мы, – тихо сказал Воробей. – Дочка Ваша, Клава. И я… сопровождаю.
– Зачем? – крикнул Теодор, оглядываясь кругом сумасшедшими глазами. – Зачем? – повторил он, потом тяжело сказал. – Я теперь не жилец, сюда не ходите. Тут мой гроб… Раньше я живой был – жену ненавидел, дочку дуру не любил… Было зачем жить.
– Ты где, жена? – вдруг крикнул он. – Нарочно ушла?
Теодор тяжело поднялся и заглянул в окуляр телескопа и поводил трубой:
– Ничего не вижу. Ослеп. Раньше все видал – женат неудачно, за деньги. Кругом дуры, позорят меня, умника. А теперь что? Кто я? – он опять рухнул в кресло. – Кого ж мне теперь не любить? Себя, разве. Только и остается. Жена, где ты, ты зачем так умерла? – опять воскликнул он слабым голосом, потом повернул голову. – Клавочка. Прости.
После упал головой на стол и затрясся. А девушка стремглав пустилась по лестнице вниз.
Воробей налил из подвернувшейся бутылки минеральную и протянул фужер адвокату. Тот, давясь, выпил.
– Вы не беспокойтесь. Мы в похоронах поможем, – предположил Воробей.
– Я сам. Сам я, – ошалело поглядел адвокат вокруг. – Скоро буду готов. Оклемаюсь… Умыться надо… Похороны…
– Да мы поможем, – повторил журналист. – Я вот только географа найду, Арсения Фомича, запропастился куда-то. И сразу вернусь.
– Фомича? – удивленно протянул Теодор, глядя в скошенную фрамугу на черную ночь. – Арсения? Так звонил же из конторы час назад доверенный человечек. Сказал, доставили этих в подвал. А? – посмотрел он на Воробья. – А?! О чем это?
– Вы не волнуйтесь, мы поможем, – и Воробей тихо вышел из комнаты и слетел по лестнице.
Внизу, на ступеньке, сидела Клодетта.
– Пошли, чай попьем, – сказала она. – Воробей.
В большой кухне озабоченный старичок разливал чай, нарезал буженину, а озадаченный журналист судорожно думал.
– Ты чего? Совсем бледный, – спросила Клодетта.
– Так надо. Слушай, а у тебя телефон банка есть?
– Какого банка?
– Ну, этого…Гуд…"Гудбанка".
– Там наши враги, – отрешенно сообщила девушка. – Вот справочная, – ткнула она том журналисту. – Вот телефон, – и сунула трубку мобильного.
Воробей порылся в книге и настукал номер.
– Соедините меня срочно. С кем? С… Евсей Евсеичем. Да, с самим… Барыго. Кто? Я? Журналист Воробей со срочным сообщением… Жду.
И чуть погодя продолжил:
– Але. Это Воробей… Мне надо с Вами срочно… Где? Вы в банке? А если подъеду? Несколько слов… Ну, через… Сейчас и выезжаю. Ага, ладно.
– Слушай, – сказал он внимательно глядящей на него и дующей в блюдце Клодетте. – Срочно надо отъехать. По журналистскому делу.
Девица опустила блюдце.
– Я одна не останусь. Меня возьми, – коротко сказала.
– Ага, – воспротивился журналист.
– А как поедешь? – подначила сообразительная Клодетта. – Ночью отсюда только привидения ходят. А у меня – тачка. Рулить можешь, ботаник?
– Ну, – сважничал Воробей. – Пробовал. Я больше на наземном транспорте.
– Ага, вот и пошли, – и Клодетта решительно поднялась. – Потом тихо сказала старику. – Ты там за папашкой пригляди. Сходи туда, скажи: дочка велела Вам умываться и спать. Пошли, Воробей, – умоляюще поглядела она на журналиста. – Я тут пока не могу.
Несмотря на слабость, постояный плач и волнения последних дней Клодетта, шустро вихляя и задевая кусты, гнала маленькую юркую машинку, и через двадцать минут они уже входили, встреченные злобным от недосыпа охранником с наколкой " Мать тебя не узнает", в хрустальный подъезд банка.
– Чего тебе? – нелюбезно встретил их сидящий в огромном кресле Барыго. – Нарыл чего, шустрый?
– Нарыл.
– А это кто такая, пигалица, – басом заорал Барыго.
– Сам ты пигалица, – выпалила Клодетта.
– Я?! – удивился огромный Барыго.
– Это моя невеста, – прикрыл девушкину грубость Воробей. – В ЗАГС собрались, вот и таскаю всюду за собой, вдруг сорвется сладкий пескарь.
– Сам ты пескарь, – злобно отозвалась девица.
– Ну и невеста у тебя. – удивился Барыго. – Не позавидуешь. Я бы такую невесту враз удавил. Ну так чего нарыл, не томи.
– Сначала помогите.
– Эге. Ты со мной не играй, шустряк. Враз срою.
– Географа схватили и упекли в подвал, – выпалил Воробей.
– Которого географа? Нашего банковского? – взревел Барыго. – Нашего козырного валета! Кто упек, кто это такие крепкие?!
– Эти, из адвокатского бюро "Колин и Павлов".
– Папа дома, – крикнула Клодетта, сжимая кулачки перед носом Воробья. – Он плачет.
– Ну и дела, – обмяк Барыго. – так ты Павлова дочь… Слыхал… Но, все равно, наших брать, да еще козырных, западло. Это мы скоро исправим.
– Все! – заорал он стальным голосом. – Все, идите спать, женихи. Сам все сделаю.
Зазвонил телефон неожиданным погребальным ночным колоколом в необъятном кабинете.
– Кто? – спросил Барыго. – Знаю уже, майор. Только что сообщили, – сказал он, косясь на молодежь. – Примем меры. Нет, нет. Свои меры.
А Воробей и Клодетта, препровожденные наколотым ночным охранником, поплелись к выходу.
– Может, у тебя заночую? – нерешительно спросила Клава, вставляя ключ зажигания. – На коврике.
– Нельзя, – ответил Воробей. – У меня родители – пенсионеры. Не поймут.
– Ага, – согласилась девушка. – Тоже ботаники. Может у меня заночуешь, в гостевом домике? Ладно? Страшно мне, Воробей.
– Ну ладно, – согласился журналист. – Черт с тобой.
Клодетта одновременно засмеялась и заплакала и чмокнула вдруг журналиста в щеку.
Арсений очнулся в темном тусклом помещении. Он лежал на полу на тонком ковре, повернулся с боку набок, а потом тяжело сел. Вделанные в деревянные панели стен два еле тлеющих ночника чуть освещали место их теперешнего заточения. Это, конечно, был не подвал. Посреди зала громадой рейхстага возвышался биллиард, на зарешеченных окнах, в которые назойливо лез узкий лунный серп, висели витиеватые шторы, и этот серп, колышась и играя, лизал остием оборки штор, пытался их взрезать, хотя бы освободив узников от части пут.
Рита сидела неподалеку тоже на полу, и голова ее неудобно свесилась, и молочным пятном на фоне стены белел медицинский халат, нацепленный ею где-то в интеллектуальной богадельне.
Полозков встал и тут обнаружил, что вцепившимся в запястье наручником прикреплен к длинному тонкому шнуру, а тот – к биллиардной лузе. Шнур отливал гибкой пластмассой и вделанным в нее сиреневым металлическим каркасом и мог, похоже, выдержать полет слона. Географ, насколько позволила привязь, прошелся, распрямляя ноги, по камере. Дверка прямо против биллиарда вела в идеальной чистоты туалет с душем, но когда узник попытался присесть на стульчак, то смог сделать это, лишь вытянув в фашистском приветствии руку. Вот это расчет, восхитился Арсений, всегда, впрочем, веривший в немецкую точность. И до входной в залу двери, выложенной фигурными дубовыми панелями, он не смог добраться пару метров.
В зале почти ничего не было. Кии и шары исчезли, и деревянный, вделанный в стены стояк зиял пустотой. Лишь на маленьком одноногом столике наборного дерева лежала тяжелая кожаная книга, старинная и невесть для чего тут оставленная. Географ полистал ее испещренные кириллицей ручной вязки страницы, поглазел на фигурно, в виде зверей и птиц, выделанные буквицы и понял лишь, что это какой-то то ли церковный, то ли законнический или адвокатский трактат назидательного свойства и того времени.
Что было единственно замечательного в зале, так это громадная шкура белого медведя, валявшаяся на полу за биллиардом. Сначала Арсений решил, что это неизвестный монстр или медведезавр, бродивший в этой местности в эпоху позднего палеолита, а потом пойманный и освежеванный тутошними заплечных дел мастерами. Он был почти трехметровый, а с раскинутыми в бессильной ярости лапами и того длиннее. Но когда Арсений подошел к громадной голове и посмотрел в немигающие глаза зверины, то все же решил – мишка косолапый.
Рита тихо застонала, Сеня подсел рядом и приобнял ее, чтобы согреть.
– Где мы? – спросила Рита.
Она также была пристегнута, как коза к колышку, к другой лузе огромного биллиарда.
Вдали глухо тюхнула дверь, вспыхнул ослепляющим глаза взрывом свет люстр в зале, и в дубовой двери приподнялась квадратом вырубленная филенка.
– Эй, – раздался веселый голос. – Очухались, что ли, тараканы? В гости тут к вам…
Полозков узнал голос охранника, любителя карточной секи, и вскочил.
Дверь тяжело выехала наружу, и в залу, злобно щерясь, вступил не по ночному бодрый Альберт Артурович Колин собственной серебристой персоной. Рядом подминались два бугая в защитной "хаки" с бейсбольными битами в руках.
– Ну, что? – прошипел Колин. – Где мои перчаточки, спрашивал, убегашка? Мотала хитроносая. Вот они, – и Колин сунул руки в шоферских перчатках Арсению в глаза. – А теперь смотри, кузнечик, как из тебя выйдет огуречик, – и выступивший вперед один из бугайков приткрыл красивый деревянный ящичек.
Колин вытянул из ящичка какую-то неизвестного назначения стальную закорючку.
– Видел когда-нибудь инструменты иглоукалываний и восточной медитации. Сейчас я скоро вернусь и этими специальными палочками с удовольствием переворошу в требуху твое нутро и вытрясу из тебя твою визжащую чистоплюйскую душонку. Так что ты мне все выложишь, вместе с блевотиной, на блюдечко. А то взялся, как говорят враги, козырной валетишка нам тут информбазу локализовать и наружку дурить. И займусь тоже, этой… твоей…
– Ну, ты! – злобно крикнула Рита. – Паскуда.
– А это мы поглядим после, кто будет кто, – прошипел Колин. – Ощупали хитрецов? – обратился он к подмастерьям.
– У этого только стограммовка ликера, а так пустые, – доложил бугаек.
– Пускай перед процедурой примет, – рассмеялся каркающим фальцетом Колин. – А то сразу опоносится, на ковер.
В его кармане заверещал веселой мелодией телефон. Альберт вытянул трубку.
– Кто? В пионерлагере. Зачем? Там и стрелки по тарелочкам кучкуются. На соревнования, по тарелочкам и чашечкам. А стволы? Взвод Приднебугских? Вдрабадан. Сейчас еду, – отщелкнул он трубку. – Дурье! – бросил в сердцах. – Думай, географ, шевели меридианами – где, что, кто, где база, куда зарыл, а то… – и он подошел к географу и схватил его за китайский галстук, – прямо на этом привинчу к потолку так, что светиться будешь.
– Ну ты, падаль! – в гневе крикнула Рита.
Туманными белесыми глазами глянул дознаватель на валяющуюся у стены пристегнутую козу и молча, сжав побелевшие губы, вышел. За ним вывалились и бугайки, треснула дверь и обвалилась в ней, глухо стукнув, квадратная дырка.
– Холодно, – сказала Рита.
Погас жаркий шар люстры, затлелись ночники. Рита, вытягивая за собой шнур, спутешествовала в туалет, вернулась и тихо произнесла:
– Все равно холодно.
– А вот смотри, – воскликнул географ.
Он ухватил медведя за лапы, подлез под него и, натужась, поднялся, пошатываясь, на ноги. Медвежья морда, мирно скалясь, лежала на его голове. Рита посмотрела на Арсения и вдруг захохотала, прикрывая ладонью рот. А географ доволок зверя до биллиарда и обрушился вместе с ним на игровое пространство.
– Наверное, миллионы блох, – отсмеявшись, осторожно предположила замерзшая.
– Ну… что ты! – уверенно возразил специалист. – Чистят, поди, каждый день с французским шампунем.
– А, может быть, как-нибудь выберемся?
– Это специалисты. Пока поспи, погрейся, а я подумаю, – посоветовал Арсений.
Рита потрепала шерстку мишки.
– Вместо одеяла сдерну тебе портьеру, – предложил Арсений. – Плотный импортный материал.
– Ну нет, – отказалась Рита. – Халатом накроюсь.
Она скинула сапожки, забралась на медведя и задумчиво поглядела на географа. Потом прилегла и сказала чуть хрипло:
– Очень холодно. Арсений, иди сюда. Я тебе что-то скажу.
Сеня подошел к биллиарду.
– Ляг рядом. Я тебя обниму, согреюсь и что-то скажу.
Сеня потоптался с минуту, поглаживая медведя.
– Ну же! – попросила Рита.
Когда он оказался рядом, она тихо сказала:
– Ты меня не обнимай, – а потом обхватила за шею и впилась губами в его губы. – Ах как тепло, – прошептала, тяжко дыша.
– Зачем? – спросил Арсений. – Зачем ты в автобусе меня обняла?
– Очень все время… все время хотела тебя поцеловать, – и тихо тронула губами его глаза, лоб и подбородок.
– Нет, – сказала она. – Ты меня не целуй. Ты еще каплю помнишь меня?
– Все мои капли вспоминают тебя каждый день.
– А ты еще любишь меня немного? – спросила женщина.
– Я не знаю, что такое любовь. Но отвечу – да. Потому что только те дни, в университете, вспоминаю всегда. И вечером, и ночью, и утром.
– И мне так показалось, когда увидела твой глаз в больнице, – тихо засмеялась Рита.
– А ты? – спросил Сеня, кладя ладонь на ее шею. – А ты… еще каплю любишь меня?
– Нет, – и в долгом тягучем поцелуе нашла его губы. – Нет, – повторила, задыхаясь.