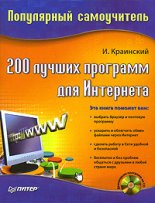Прощай, Атлантида Шибаев Владимир
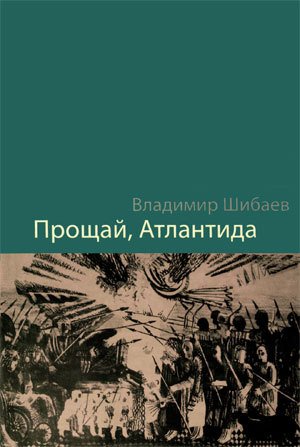
– Нашли? – с искренним ехидством печально поинтересовался Арсений.
Адвокат хлобыстнул большую толику темно-коричневой влаги, вздохнул и сказал:
– Ищите, и обрящете, – и замолк.
Потом с трудом вернулся к разговору и добавил:
– Уеду, пожалуй, если успею. Есть у меня, Арсений Фомич, яхточка небольшая, от левых заработков наработана. Стоит на приколе в Порече, Хорватском адриатическом порту. Уеду к чертовой матери, совсем я тут душой ослеп. Буду рулить, орать на матросов, если дизельное расплещут. Сяду на край, стану разглядывать прибрежные скалы и островки, ночные огни считать. Хотите со мной, Арсений? Я телескоп устрою, буду из него верх разглядывать. А Вы… воду и скалы исследуйте, ищите ее, эту Вашу, как ее… Атлантиду. Там мест полно, где в водах, на глубине – развалины и колонны, никем еще… не потроганы… Поехали, а?
А Арсений подумал, что бы адвокату ответить, да и себе тоже.
И тут тишину дома расколол крик. Страшный, низкий, переливчатый, меняющий тон ор, бегающий между басом и фальцетом, наполнил дом. Ужас, визг, проклятье и безумие наполняли его.
Послышались крики, шум и беготня, в доме сделался переполох. Географ и адвокат выскочили к лестнице и, отстраняя друг друга, сверзлись, поджимая колени, вниз. В сторону ора уже спешили женщина-служка в синем форменном костюме и какой-то охранник с бледным перепитым лицом и вылезшими на лоб белесыми рыбьими глазами. Ор перешел в рыкающий стон и захлебывающийся зов.
У дальней угловой спальни географ и адвокат остановились и через широкие раскрытые двери увидели.
На огромной кровати орал, захлебывался соплями и слюной вице-губернатор. Он сидел на простынях в позе подтухшего лотоса, был гол и плешив, и одето на нем было лишь что-то похожее на дамское – черные кожаные узкие трусы и зачем-то черный же, с ажурной вырезкой кожаный бюстгальтер. Лицо у него стало синюшное, а глаза то ли синие, то ли подведены синим. У входа в роскошную спальню уже стала подпирать толпа. Вице начал, давясь, кашлять.
Почти у глаз кандидата в губернаторы, чуть выше – качались пятки. Это болталось подвешенное на люстре крупное голое бабье тело. Это раньше была именинница и жена господина Павлова.
Павлов пошатнулся и не удержанный географом осел молча на пол. Жена за время висения, или теперь – в голом виде, безобразно потеряла форму, ноги опухли и набухли, а верх безвозвратно вытянулся, если не был натурально таков. Горло ее захлестнула подаренная вчера плетка, надежно служащая хозяйке, а прочная деревянная ручка была немыслимо прикреплена к люстре. Руки повешенной судорожно вцепились в захлестнувшую петлю, и видны были сорванные ногти с запекшейся черной краской. На ней совершенно ничего не было, кроме от руки написанной на спине надписи – "ТЫ ВИНОВАТ" и стрелки вниз.
Толпящиеся у двери наперли и зашумели. Откуда ни возмись, подсев и пролезши снизу, в комнату, оттесняя осевшего хозяина, втерлись два фоторепортера, и вспышки перекрестили орущего и дело его рук.
Толпа расступилась и примолкла, в спальню на один шаг шагнула по ночному одетая Клодетта, дочь висящей. Она молча, с минуту, ничего не понимая, глядела на давящегося в судорогах страха случайно проснувшегося вице и на мать, чуть поворачивающуюся к дочке и от нее.
Клодетта неровно вошла в комнату, повернулась к толпе, мутными глазами поглядела на напирающих и заорала:
– Вы! Вы!.. Вы!
Потом упала перед сидящим на ковре отцом на колени и завизжала, тыча в него пальцем:
– Ты! Ты!.. Ты.
Всех растолкав, в комнату ворвался одетый в спортивные тренировочные брюки "Адидас" Альберт Колин и следом за ним растрепанный и, кажется, еще спящий, но в майорских штанах Чумачемко.
– Отойти на пять шагов, – сухо скомандовал Альберт.
– Покинуть до прибытия группы, – взвизгнул майор. – А фотографы эти откуда, – в бешенстве вскричал он и бросился крушить и дергать фотоаппараты.
Колин проследовал к столику у кровати, взял с него эклер и сунул в пасть давящегося вице-губернатора. Тот мгновенно смолк и стал пучить глаза и жевать. Потом Колин вынул из висевших на стене декоративных изукрашенных ножен турецкий ятаган, подошел к висевшей и широким жестом перерубил плетку. Тело глухо треснулось об столик и обвалилось на прикроватный коврик.
Клодетта поднялась на ноги, подошла к двери и, тыча пальцем в разных стоящих, завопила нехорошим тенором:
– Он! Он! Всю жизнь нас с маменькой ненавидел. Мы ему… его… гад… он удушил, родитель проклятый… ему поперек… Он!.. Папенька изверг, чужой… Ты чужой, – крикнула она отцу.
Альберт молча подошел к истеричке и пихнул ее в плечо в руки кого-то из стоящих, кажется, улыбающегося от изумления начальника электросетей.
– Нет! – крикнула Клодетта, вырвавшись и с неожиданной силой пихнув отлетевшего отцовского партнера. – Нет.
Она диким, затравленным взглядом обвела толпу, в ужасе оглянулась на распростертое тело, потом страшно, судорожно зарыдала, подплелась к географу, обняла его за плечи и так, рыдая и давясь, начала падать в обморок.
Все засуетились, и Арсений, неловко подхватив тяжелую ношу, потащил ее прочь от жуткой комнаты.
Нет удовольствия выше, чем после бессонной, нашпигованной терпкими кошмарами ночи трястись в скрипящем вонючем автобусе сорок минут, дремать, клюя носом в подложенные для мягкости локти и зная, что твой выход – конечная остановка. Такой, отличный от прошлого, маршрут к старушкиному жилью выбрал Полозков, зажав щиколоткой фибровый чемоданчик Аркадии Двоепольской с легкими пожитками пожилой жительницы пригорода.
Последнее разумное, что запомнилось его улепетывающей от вчерашнего памяти, это летящий по хмурому утру автомобиль и валяющаяся на заднем сиденье бездвижная, как распухшая пенсионерка кукла Барби, с бессмысленными пустыми открытыми глазами и завернутая в какой-то плед девушка Клодетта. Но нашел все-таки в себе неразумный Арсений силы спросить тогда, глядя на летящие навстречу перелески:
– А где же Ваши красивые кожаные водительские перчатки, Альберт Артурович.
На что Альберт поерзал на кожаном сиденье и процедил: " Придет время, тебе покажу и предъявлю, женишку-первопроходцу".
Но географ хотел только спать и намеревался, дома сгрузив нежданную добычу на тахту и потеплее ее замотав, тихо погрузиться в пучины снов исследователя древних времен. Однако этим же днем, дав географу только несколько часов на сборы сновидений, раздался ненужным будильником телефонный звонок. Умирающий от бессонницы Полозков поднял трубку.
– Ало, Арсений Фомич, это Воробей, журналист. Ну, помните?
– А как же, особенно сейчас, – ответил Арсений, судорожно держа скулы от зевоты.
– Ну, виделись не раз, – трещал Воробей. – на дне рождения барабанщика Юлия веселились и прочее. Они, кстати, тут рядом от холода трясутся. Не тряситесь, – крикнул в сторону, – не слышно ни черта. Арсений Фомич, Вы со мной советовались тогда – куда одну старушку могли, кроме дома, отправить из больницы. Де, в больнице полный карантин информации. Есть соображения, нарыл в голове.
– Зайдешь? – слегка проснулся Арсений. – Со своими ледяными куклами.
– Могу запрыгнуть, мы, наверное, судя по телефону, недалеко. Да и про фотографию крупную из банка вы интересовались как-бы вскользь, на дне… так называемом рождения. В городе черные слухи… обменяемся чернухой.
– Заходите, запоминайте адрес, – еще раз пригласил географ и потом спросил, глядя на утонувшую в угол тахты Клодетту. – А, правда, что рядом с Вами делает молодежь?
– Замерзли, как сосульки, носами капают. Решили таскать по пустой улице лозунг " По ползущим в губернаторы плеткой народного образования".
– Эге, эге, – всполошился географ. – Давайте и этих срочно ко мне, откачивать кипятком с вареньем.
В квартирке молодежь скоренько стянула колом стоящие от холода куртки и набросилась на чай, роняя варенье с ложек на кисти рук и воротники рубашек.
– А это кто? – наконец ткнул капающей ложкой в сторону тахты неуемный Воробей, уже успевший рассказать об отнятой битой фотографии и сидении в вице-губернаторском шкафу. – Ну да, – смутился он тут же. – Понятно, дело молодое, незнакомое.
– Любовь до гроба, – мечтательно облизнула ложку Элоиза, опуская в чашку посиневшие от холода пальцы.
– Любовь, еще быть может, – продекламировал Юлий классику, – нам в шествиях поможет. В душе моей забылась, но поутру забилась, как птица, залетевшая в глаза.
– Какая птица? – испугался географ.
– Воробей, – рассмеялась Элоиза, похлопав крыльями-руками.
– Голубь вещий птица, – обиженно надул губы Июлий.
– Это не любовь, – наставительно произнес географ. – Это потерявшая близкого несчастная невеста обстоятельств. Кстати, прошу лозунг ваш, как неактуальный "сине-зеленому" движению отменить, – при этом понятливый журналист сделал шеей стойку ищейки, чующей вальдшнепа.
В дальнейшем разговоре Воробей и сообщил, что бабушка Двоепольская, перенесшая в больнице информационную блокаду, выписана и была отправлена по адресу, а потом, возможно, и куда-то еще.
– Как это – "невеста обстоятельств"? – испуганно, выдержав паузу, спросила, широко раскрыв глаза, Элоиза. – Она, что ли "невеста на час"? – и прикрыла рот ладошкой, потому что спеленутая кукла на тахте дернулась.
– Вы, знаете что, – попросил географ, обращаясь к Элоизе, – не сможете ли здесь подежурить, возле занемогшей? Личная просьба, до вечера. Проведете выездное заседание "Белого налива", вон – в вазочке яблоки. Поупражняетесь с Юлием в риторике, почитаете книги и побарабаните, во что найдете. Мне бы отлучиться, – просительно заглянул он Юлию в глаза, – на пол денька.
– Хотите, я с Вами? – подставился чующий добычу Воробей.
– Длина и неудобство унылого пути многократно превышают конечный интерес, – витиевато отказал географ.
И после часа этого пути, двигаясь по линиям памяти к потерянному адресу, от выбрался из гремящего автобуса и скоро вжал дребезжащий звонок двери с оборванным дермантином.
– Ктой-та? – через минуту спросил голос упитанной бабы Фени.
– Это я, Ваш прошлый вечерний знакомый, по поводу Аркадии Самсоновны.
– По какую по воду? Иди тогдась за коромыслой, – отправила Феня.
– Стойте, стойте, – завопил Арсений. – Это я, старый Ваш ночной знакомый.
– Знаю, что я, – подтвердила догадливая старушонка. – Коли я Феня. А чего вечерами шмыгаешь? Коли знакомый, то и не открою, – закашлялась Феня за дверью и зашмыгала тапками. – От энтих знакомов одни болезни, валерьяны ведро извела. Сатаны беспартейные.
– Очень с Вами поговорить надо, – взмолился географ.
Застучали засовы и зазвенели цепочки. Феня, тяжело вращаясь, посторонилась. В коридоре тускло горел свет. Дверь старушки Двоепольской была опечатана четкой бумажкой с ниточкой и отчетливой печатью.
– Вот видите, Феня, чемоданчик бабушки Аркадии. Никак не могу передать. Где же она, что случилось?
– А то оно, – проворчала Феня. – Что и не случилось. Страм один. Старая – то Аркадия съехала в богадельню на государевы заботы, да ключеву водицу. Вот и чего! А ейную принадлежность на ту ночь и пограбили скорые люди-вороны. Поклевали всю мелкую сохранность, а шкафины посдвинули и тама заломалось. Вы все знакомцы. Все норовите, как Феня спит, дверцы пообрывать, да бабок на свиданку ангелов спровадить. Тьфу!
– А скажите, Феня, – спросил Арсений. – Племянница Ваша, Рита, обо мне утром не звонила, не справлялась?
Феня посмотрела внимательными старыми глазками:
– С вами справишься. Сам уйдешь, чтоль, али как. А то дело скоро к вечеру, в моей комнате ночуй, недорого возьму, кило пшена.
В этот миг входная дверь заскрипела, заохала и ввалилась, и в коридор ворвалась нежданная ватага в составе трех лиц – крепкого, бегущего мелкими шажками в натирающих ботинках майора Чумачемко, следующего за ним на кривых зеркально чищеных сапогах старшины и жмурящегося на свету пожилого хулигана Хорькова, которого и лицом-то назвать было стыдно, так как он тут же, пошатываясь, начал по коридору тыкать опитой пивом физиономией, надеясь хоть что спереть.
– Руки! – заорал майор, подлетая.
– По швам! – вскричал старшина, водя запорожскими усами.
– Опять ты! – делано ужаснулся майор. – На это раз не открутишься, несун. Твои адвокатские тебе не помогут. Задержан на месте преступления с наличным.
– Я говорю, он. Похожий он, – шатаясь, подтвердил наводчик Хорьков.
– С каким поличным? – возмутился Полозков.
Майор подошел к двери и сорвал бумажку.
– Проник в опечатанное помещение. Понятой, понятой! – страшно засипел майор. – Ты видел поличное у нарушителя?
Хулиган Хорьков, шатаясь с усталости и забот, не сразу сообразил, что его требует власть. Но все же натужно подбежал, вытащил из-под куртки уже упертую на кухне сковородку, полную жареной на сале картохи, и злобно процедил:
– Да на те, на. Усрись своим поличным.
– Стоять! – опять зыкнул Чумачемко. – Пройдемте в преступное пространство.
Он аккуратно соскреб опечатывающую бумажку, и процессия вступила в комнату бабушки Двоепольской. Зрелище открылось печальное: паркет местами взломан, шкафик сдвинут и накренился от старости и надлома, голые стены угрюмо глядели обвислыми обоями. Кругом осел беспорядок и оцепенел хаос.
– Коронки золотые искали, – смачно сплюнул на пол старшина и культурно, оглянувшись на начальника, растер сапогом.
– У бабок всегда выпить нахожу, – вмазался Хорьков. – Хоть бы гриб, мухоморихи старые…
– Признаешься? Твоя иудея? Куда взяток сволок?
– Да что Вы, шутите, что ли, гражданин майор.
– Сейчас пройдем в отделение, гражданин хороший Полозков, – видишь, и кликуху твою навсегда помню! – там и пошутим. Это вчера ты был особый жених, а сегодня у нас новые начальники. Как бабок грабить, он тут как тут, а как показания давать, все другие.
– Мы отдуваемся, – сообщил Хорьков, икнул и начал ботинком ворошить паркет. – Керенки, говоришь?
– У пожилых чего только понизу не встретишь, – тонко пояснил старшина. – Это у нас подагра да…
– …да гагра, – подсказал Хорьков и запел. – Ах море в Гагре….
– Тихо ты, шелудивый, – строго одернул майор. – А ты брось курево, воняет, как с трупа, – рыкнул он на задымившего старшину. – Брось! – и старшина послушно кинул, притушив об шкафик, папиросину, а вслед за ней и коробок в угол комнаты.
– Это не курево, это так, – конфузливо сообщил старшина. – С ходки находка…
– Так, официально Вам заявляю, – предъявил майор Полозкову. – Задержаны и арестованы по подозрению свидетелей…
Тут неожиданно в дверях появился красный и взволнованный лейтенант Зыриков.
– Не понимаю ничего, товарищ майор, нас так в училище не учили.
– А ты уймись, – недовольно пробурчал майор, как бы вынимая листы первичного протокола. – У каждого своя пенсия и свои кисти на гробе.
– Нет, послушайте. Соседка старушка указывает, что подозреваемый заявился минуту назад.
– Старушке этой уже в прошлой веке на окочур пора, – поправил старшина. – Может они любовно сговоримшись.
– Полозков, Вы билет на электричку брали? – продолжил, однако, лейтенант.
– Брал он, брал, – охотно подтвердил осоловевший Хорьков. – Такие завсегда назло контроллерам берут. Еще в городе, на автобусе сюда перся, – зло процедил он. – Это я сексотом на электричку бежал, от автобуса опоздамши, – сдуру признался особый сотрудник.
– Да ты! – махнул на него кулачищем плотный Чумачемко.
– Исправляется, – удовлетворенно гаркнул старшина, широко хмыкнув. – Билеты будет скоро брать.
– Вот билет, – предъявил географ. – Сюда сегодня недавно, по номеру ясно.
– Ну, видите, подтвердилось первичное алиби, – продолжил лейтенант. – Нас как учили, мало улик – это уже много, много улик – это уже слишком. Не за что задерживать пока, товарищ майор.
– За жопу, – предложил, шатаясь, Хорьков.
– Улики, они, брат… не утки, – покрутил майор пальцем, – из воздуха не возьмутся. Из воздуха только вонь вылазит. Отойди, отойди в сторону, Хорьков! Их надо, брат, с боем брать, улики то… – почесал он за ухом. – Гарантию что-ли дашь, что это не он старуху брал?
– Гарантию на дам. Нас как учили, товарищ майор – гарантию, а также отметку в паспорте дают только в исправительно-законной системе.
– Это да… – растерялся майор. – И как еще новые кормильцы на это поглядят… Но до выяснения, утро вечера мудренее. Вот чего, Зыриков. Я по его поводу еще должен звякнуть, тут после вчерашнего, и вообще… козыри по новой сдались, изменились, дамы королей бьют… Ситуация в подвеске. Ну мы по инстанции-то по делу передадим… Тьфу ты, не об том я.
– А, может, его товось, – предложил Хорьков, дергая ладонью по шее и указывая на обмоток шнура бывшей люстры. – Как будто он там испокон висит, будто сам от противозаконной любви к старухе… – но замолчал под взглядом майора.
– Покамест так, – строго прервал всех старший начальник. – на комнату совершен налет, это ясно. – Он поглядел на Полозкова. – С использованием подсадной женщины. Печать с двери сдернута. Завтра пальцы будем снимать. Я покамест Вас, гражданин Полозков, как знакомого многих известных, не задерживаю, но оставляю на сохранность в указанном помещении до прояснения. До Вашего выяснения, с полным набором удобств, – и он ткнул в комнату рукой. – Глядите, смеркается. Ты, старшина, ночью его вместо пса стереги, как жену чужую, понял? Опечатаем, закроем на ключик, два стула приставлю и ночуй, береги возможного ответчика. Сапоги можешь сдернуть, – глянул он на кривые ноги помощника. – Портянки бы постирал, что ли.
– Полощеные, – смутился служака. – Еще к рождеству.
– Не слишком ли строго, товарищ майор, – вяло спросил Зыриков. – А то хватаем, потом отпускаем, и нам население разное говорит…
– Строгости Вас, лейтенант, что-то мало учили, – оборвал подчиненного Чумачемко. – Ночюй, пока сны лезут, – бросил он географу, и компания вышла.
Шаги стали удаляться, но потом Полозков услышал, как завозили стульями, тихо скрипнули вновь сапоги, шаркнули ботинки и шепот.
– Сами, чай, не дети, – громко успокоил начальника старшина в полный голос. – Хорькова зови, мараться не будем.
Вот и нашел умаявшийся Полозков приют и, возможно, ночлег в бывшей почивальне старушки Аркадии Самсоновны Двоепольской. Вечерний свет поглядел из окна на географа и глухую темноту бабкиной комнатки. Веревкой висельника шевелилась тень обрезанного шнура люстры на полотне серого потолка. Полозков, дважды споткнувшись о следы погрома, тихо уселся посередине комнатенки. Шарить по развороченным шкафикам в поисках огня или, хотя бы, кресала не хотелось. Тут очень вовремя услужливая память выволокла перед географом две бесплотные, в слабо очерченных форменках и даже без погон тени, которые быстренько подсказали Арсению выход.
– Брось, брось курево, воняет, как с трупа, – пробурчала в тихий вечер одна.
– Это не курево, это… находка… – глухим эхом ответила вторая тень и, свернувшись затушенной цигаркой, упорхнула в угол.
" Точно, туда и швырнул спички" – догадался Арсений и на четвереньках пополз в угол, и успешно треснулся лбом о доверчиво раскрытую дверцу старенького шкафа. Но через секунду нащупал коробок, и спасительная спичка дважды вспыхнула и дважды обожгла пальцы. Теперь, уже почти зрячим, он пробрался в другой угол, где совсем недавно серебряной ризой тлела икона и поводил пальцами в ее бывшем гнездовье, ощущая нежность паутины. Свечка лежала на полке. Тусклый огонек, зажженный Полозковым, дополнил картину разгрома.
Арсений осмотрел плотно запертую в упрямый косяк дубовую старушкину дверь, невесть как попавшую в потресканную пятиэтажку, потом и переворошенное и вздыбленное алчными искателями ложе, на котором ночевать, конечно, не решился. Поставил свечку в щербатое блюдце и кинул возле кровати, подравняв паркет, какой-то половичок, старое вывалившееся из шкафа замусоленное пальто и подошел, в надежде отыскать что-нибудь под голову, к шкафику.
Деревянные ящики были выдернуты, частью и выпотрошены, на полу внизу валялись катушки и шпильки, разбитое зеркало, и сияло пуговичное многоцветье. Арсений подергал тугие выдвижные ящички и тут рука его замерла на одном, скользящем по полозьям легче и вольнее, как будто от многолетней дрессировки. А в ящичке, переворошенном, но полном, покоились совершенно ненужные пожилому женскому лицу вещи – абсолютно старинный мужской бритвенный прибор, сохлый помазок и огрызки серого мыла в допотопной треснувшей мыльнице. Ящик был нижний в ряду. Арсений аккуратно выдвинул его и попытался вытянуть вовсе наружу. Сначала не получилось, но потом, как то приподняв и накренив, его удалось извлечь из гнезда. Пугаясь мелких домовых жильцов и разъяренных насекомых, Сеня аккуратно погрузил в гнездовье ладонь, и пальцы встретили теплую плотную бумажную ткань.
При тусклом, плавающем свете свечи перед глазами проходчика лежала фотография мужчины и тонкая узкая тетрадь, почти заполненная каллиграфическим летящим почерком владелицы. Почти этого, во всяком случае похожего географ уже видел в углу одной фотографии, да и, кажется, наяву тоже.
Арсений пододвинул свечу, рухнул на твердое, как застывающий бетон, ложе и, уговорив свою совесть немного смежить веки, полистал, старась вникать только в даты, тонкую, растрепанную по краям тетрадь. Это был старушкин дневник. Но, кажется, это уже не могло никого интересовать.
Дневник открывался 1946 годом и записью " Кеша уехал надолго. Жизнь моя почти остановилась. Интересно, есть ли в Китае женщины?"
Последняя запись была сделана совсем недавно: " Сын, что будет, если вместе со мной в беспамятство опустятся все наши с папой мечты, и то, что он жил ради будущего тебя и так и не свиделся с тобой. Я ненавижу себя, что вы такие разные".
Даты мелькали в дневничке с большими, с годы, проранами и разрывами. Большая его часть была испещрена письменами именно раннего периода. Мелькнула, даже, какая-то страничка, может быть вшитая, плотной бумаги, с жуками иероглифов чуждого письма. Тут вдруг выскочили совсем чудные две записи. Арсений поразился, это были не буквы. Это оказались оставленные когда-то помадой множественные криво и косо наложенные на страницу поцелуи. Под следами губ висела запись:
" Кеша вернулся!!! 24.10.52 "
Но тут же, ниже, зияла запись: " Кешу забрали 13.11.52"
Следующее сообщение молодая тогда старушка оставила лишь семь лет спустя. Арсений закрыл дневничок, устроил его на прежнее место, аккуратно вдвинув ящик, потушил свечу и уложил голову на выдуманную им подушку, свернутую в рулон и сунутую в несвежую наволочку кучку перекрученных разноцветных мотков шерсти. У верхнего края окна, из-под рамы выползла ущербная тускло-желтая луна и посеребрила пыль на паркете. Географ закрыл глаза.
А когда открыл, увидел старушку, но довольно молодую, с разглаженными морщинами и сияющим лицом, тонкую и стройную, укутанную в меняющиеся лунные покровы, которые скользили свободно и не мешали явлению тихо двигаться, свободно вздевать стройные руки-лучи и даже говорить.
" Что ж ты, Полозков, залез в чужую книгу. Мало тебе своих?" – спросила молодая старухиным голосом. И обратила на географа тоже закрытые глаза.
– Так принято, нашел – поглядел хоть, а вдруг судьба, – нашелся любитель старых строк.
" Судьбу не ищут и не находят. Ее или делают, или она сама настигает тебя. Средь шумного балагана. Единственное достоинство ковыляющего по каждодневным кочкам и ухабам – не разминуться. Ты хоть не зря меня повстречал?"
– Вы мне ответьте, – потребовал Сеня, не в силах оторвать от подушки голову, – Вы почему выбрали меня? Я-то совсем ни на что не годен.
Юная старушка медленно попрыгала возле окна, поправляя седую в лунном свете копну пышных волос.
" Был негоден, а теперь на что и сгодишься. Знаешь, а каково мне. Сил нет, жизнь на излете, а кругом бешеная кутерьма соискателей, дознавателей и разведчиков временных недр. Хватают за руки, травят намеками, только выйду, копаются грязными лапами в изветшавшем белье. Потом рыбой воняет. Я, конечно, старая ведьма, втравила тебя в историю, но сама устала. Вот и думала, вдруг ты, грамотей, крепкий и прямой человек – снимешь с бабки мраморную плиту обид. Прости! Но скажу тебе еще важное одно. Разве для меня ты стараешься, разве бабкину облегчаешь долю и по ее делам мельтешишь среди странных дел. Нет – ни за что. Ты бы пальцем не шелохнул, таков ты. Все для себя, во избежание себя и воистину самому себе.
Ну, правда – был ты красивый и умный, молодостью светилась сквозь тебя надежда. А теперь глупый средних лет почти оборванец, даже не учитель, не педагог – а разжевыватель чужой учебной жвачки для не очень страждущих лентяев и баловников. А каково – от всего этого откреститься и ринуться в мутное волнистое озеро неизведанной судьбы, какое омоложение.
Ну, правда – был ты любим и, главное, любил нежную по тем временам девушку всеми складками души. А теперь – потухший костер, горстка чуть теплого пепла у своих же ног. И никаких жизненных иллюзий повстречать эту старую молодую страсть вновь. Так разве для меня бегаешь, по моим ли заботам?
Никогда. Носишься, угорелый, – чтобы взъерепениться, себя перед собой выставить, как носильщика тонкой души, способного и на новый взлет. Одначе! И еще скажу. Да! Был ты во времена полон мыслей, суждений и оспоримых правд, горячий и горячечный ходок по еле видным следам истин. А что нонче? Копошишься в старых легендах, перебираешь тени русалок и водяных, да и с людскими плотями ты не равный, строгий и задорный обмениватель мнений на возражения. Ты начетчик, печатник клейм и оформитель протоколов на случаи доброты и сочувствия. Ты скелет своей души, ты муляж того проекта, по которому природа спроектировала тебя. И бегаешь – чтобы как-то скрыться от скелета в шкафу умствований. Не стыдно? Такой большой. Передо мной, старой, не стыдно?"
– Неужели я таков? – спросил, сжавшись, Полозков.
– Какой и все, – тихо ответила старушка. – Обычный.
От таких неприятных версий лоб внимавшего старушкиному бреду мгновенно покрылся испариной, и Полозков воскликнул:
– Вы эти фантазии про меня приберегите для совсем потерявших ориентацию, для развинтившихся сектантов и стремительных женщин Рит с бархатными ладошками Им про меня жалуйтесь. Мне эти выверты ни к чему.
" Ну-ну, – остановила возмущенного Полозкова неспешно фланирующая у окна старушенция. – Ладно, давай практическое. Как выбираться будешь из катавасии? Вдруг что невнятное случится, вот и гадай. Девушку поместят твою в плоскодонку и отправят в странствия, на борту с нахимовцами-мореходами или снайперами, или вообще плюнут на забавы с тобой, и искать перестанут. Что тогда скажешь испуганному гадальщику, неудавшемуся Робеспьеру-Марату Ильичу, если заявится с сатисфакцией, притащится, сунет принесенный счет за все и велит: " Других нет, давайте Вы тогда, уважаемый географ, отвечайте за опасный заказ. Раз в это дело полезли. А я Вам себя в комплекте, с зеленым картофелем, тухлой вырезкой и грязными чашками предоставлю, используйте и поместите на доску революционного почета".
" Ну-да ладно, шучу", – смилостивилась, тихо смеясь, старушка, тонко трогая пальцами разглаженные морщины. – Все-то Вы, Арсений, воспринимаете впрямую, в лоб. Но смотрите, главное, чтобы не опередили Вас в самом простом какие-нибудь слабо проявленные в красном свете девушки Элоизы или заразные соискатели Всея Руси. Им давно прямая стежка на ту сторону проложена, простым, сердечным людям. А Вашими заботами, так они туда и без согласия с матушкой природой доберутся, рукотворно, Вашими ручками. На Вашу шею груз ляжет. Не утянет? В воду? Есть, конечно, простой выход" – замялась старушенция, но все же кивнула на качающуюся тень провода под потолком.
– Это не по мне, – возразил географ честно. – Не люблю этой болтливости, на ветру. Да и язык синий, как у недорезанной свиньи. Противно. Я жизнь люблю, – добавил он по Павловски и вдруг хихикнул.
" О-о! – восторженно шевелясь, воскликнула старушка. – Это мы сейчас проверим на старой загадке. Слушай и отвечай. Пришла к одному старуха-смерть и говорит – пошли со мной. А что он ей ответил?"
– Люблю не тебя, а жизнь, – пробубнил Полозков.
" Дурак. Он ответил: – Что ты меня куда-то тянешь, отвяжись. Ты же старая, ни на что уже не годна, какой от тебя прок. – Тогда косая старуха ему говорит. – Идем, я тебе покажу тебя после, кем ты станешь. – И каков ответ?"
– Я не нужен себе потом, – ответил Полозков. – Покажи меня молодого, любящего и светлого и легкого. Как я летал.
" Дурень. Он ответил ей – Этого я насмотрелся, и этот мне обрыдлый в любом виде. Покажи мне, косая, себя потом, когда приберешь меня. Будешь ли лыбиться или рыдать. – Но не успокоилась с косой и говорит мужику – Идем, ты мне нравишься, я тебя пристрою по блату на теплое место. – Что ответил мужик?"
– Знаю я твое теплое, старуха. Это огненная лохань с кисельными берегами. Не хочу там торчать, по блату, – тихо возопил географ.
" Дурачок. Он ответил – ладно, хоть ты и старая, а свое дело знаешь. Давай напоследок хоть на твоем теплом месте поваляюсь. – Нет в тебе жизненной любви, Полозков", – закончила старушка у окна.
" Не знаю, – помолчав, повторила она, – есть ли в движении жизнь. Или только призрак жизни. Ладно, ты меня слышал, мне внимал. А теперь я хочу только одно, ты это знай. Ты возьми все, что я по старости наболтала, и переверни, все толкуй наоборот, выверни наизнанку, и будет так. Потому что я калека, я просто тень, тень своего и твоего убывшего счастья. И слова мои тень, обратный лунный росчерк твоих… Давай теперь, пожалуй, и распрощаемся".
– Так я не увижу тебя, что-ли, бабушка? – крикнул, всполошившись, Сеня.
– Не рассмотрел меня? – удивилось созданье.
В эфирном тумане, поводя блекло светящимися покровами, ночное существо тихо подплыло к ложу прилегшего и почти склонилось возле него на колени. Арсений охнул и чуть приподнялся на локтях.
– Это кто? Это разве ты, Рита?
– Я как раз вовремя, – нежно произнес Ритин двойник. – Тут старая тебя к шнуру манит, попрекая и обещая выход, но я сейчас освобожу тебя от этого дурмана, потому, что ты мой. Обниму и окуну в мою молодую кровь. Ничего не нужно, ни теорий, ни снов. Я позову – выходи. Выходи же.
Рита склонилась над застывшим Арсением, обняла его холодом и провела губами-сосульками по его губам. И тут страшный жар охватил Полозкова с ног до головы.
– Выходите же, – крикнул в отчаянии незнакомый голос. – Выходите, не могу тут больше орать.
Обливаясь потом, Арсений вскочил и посмотрел, как лунатик, на зацелованную им старую наволочку. Потом скоренько запалил свечу и увидел, что двери комнаты чуть приоткрыты наружу, на трех стульях, перегораживающих вход, мирно, как мешок с картофелем, спит старшина в форме без сапог, накрыв от света голову портянками, а за ним маячит Феня, отчаянно размахивая руками.
– Выбирайтесь же как-нибудь, его не сдвинуть! – повторила Феня звонким, не своим голосом.
– Проснется! – прошептал из-за барикады временно заключенный.
– Ну нет, – звонко возразила бывшая доходяга Феня, теперь нежданно выправившаяся и будто помолодевшая на двадцать лет. – После моего вишневого ликера да с моим снотворным, который по капле сосут, и слон не проснется.
У вонючих сапог старшины валялась небольшая стеклянная полупустая фляжечка.
– Проползайте снизу, – дельно скомандовала бодрая старуха и потом рукой поманила Арсения в свою комнату.
Сеня, как заправский сапер перед неминучим, пролез, скрипя ножками, под стулом и, чрезвычайно довольный, вступил в бабкины аппартаменты.
– Чаю, наконец, будете? – деловито справилась Феня. – До шести утра вполне время есть, – поглядела она на щелкающие ходики. – Не пробудится, медведь, падкий до сладкого, – и в две чашки долила бурлящий кипяток.
– Феня, – спросонья стал таращить глаза еще зацелованный льдом Арсений на преобразившуюся развалину. – Как же Вы?
– Риточке звонить? Сама не решилась без Вашей отмашки, – спросила старая женщина. – Заедет за Вами и вывезет…
– Пожалуй, не надо, – подумав, ответил географ. – А Вы с ней… вместе?
– Я работаю. Халтуры совсем не стало. Никому мы не нужны. А жить надо, – и она сунула под нос Арсению какую-то желтую афишку.
С бумаги на Полозкова смотрела бодрая, почти молодая Феня.
" Заслуженная артистка Кзылорлино-Балхашии и Дурятии, народная артистка Помалу-Немецкого АО" – вещала афиша крупными буквами. – Монологи, фортепианные скетчи, сценки из жизни, художественный посвист. Правила бомонда, французские пословицы и последние манильские моды. Уроки артикуляции и дикции. Все в одном представлении. Входные билеты свободно продаются.
Феня прошла чуть в глубь и закрыла лицо руками.
– Боже, – сказала она, обращаясь к географу. – Ведь моя любимая роль – Кабаниха. Как я обожала эту строгую даму, – Феня вдруг вся скукожилась, налилась деревянной статью купчихи, в руку ее будто-бы забралась крепкая клюка, и Феня грозно воскликнула. – " Что ты сиротой-то прикидываешься! Что ты нюни-то распустил? Ну какой ты муж? Посмотри на себя".
Потом вновь мягко повела руками:
– Где бы я не играла, в Мелитополе или Игарке, люди сидели со светлыми лицами, партер веял духами и мандаринами, а галерка шуршала карамелью. Разве сейчас так? – Тут из Фени, мягко опавшей, сузившейся и приобретшей теплую неловкость движений вывалилась нежданная Офелия. – " А я, всех женщин жалче и злосчастней, вкусившая от меда лирных клятв, смотрю, как этот мощный ум скрежещет, подобно треснувшим колоколам".
– Где бы мы не проводили гастрольную ночь, иногда и с милым другом, в захудалой гостиничке, в Анадыре или Шацке, или в помпезном кинотеатре Геленджика – в чистой вазочке возле меня всегда ночевала хоть одна свежая роза. Или тюльпан. А люди в фетровых шляпах и крепдешиновых платьях спокойно дожидались нас у служебного входа и просто говорили: "Спасибо". Но я не любила выездные концерты, будто ты щипач попал в вонючий трамвай, – Феня опять закрыла лицо руками и стояла так с минуту.
– Да, знаете, – грустно подтвердила она. – Приходится наниматься на разные роли, на выездные концерты. Но Риточка человек очень хороший, она разбирается в старых актриссах. Я ей звонить не стала. Подумала, Вы возразите. Вам бы от этих людей надо скрыться, – и она повела рукой в сторону коридора.
– А зачем же Вы… рядом с Аркадией Самсоновной… подсадные…
– Этого я не знаю, – отрезала Феня сухо. – Халтура в провинции. Вот телефон. Возьмите и адрес, – и она протянула Арсению клочок бумаги. – Здесь не очень далеко, одна остановка электричкой. За портом, у реки. Дом престарелых работников умственного труда. Хотя, конечно, уехала Аркадия не просто так, а на медицинской карете. Ну, не знаю. Чай пейте. Может быть, с баранками?
– Поеду-ка я срочно, – отрапортовал географ, кратко глянув в окно, уже потерявшее плотность ночи.
– Возьмите в дорожку фляжечку моего ликера, маленькая, в карман как раз лезет, – предложила Феня, вынимая из буфета плоскую склянку бывшего коньяка. – На ночь, если сон упрыгивает, десять-двадцать капель. И забудете все невзгоды. Как это Вы Аркадии приглянулись, удивляюсь.
– Спасибо, – промямлил Арсений, суя фляжку в карман пиджака.
Потом схватил фибровое чудовище и направился в коридор.
– Ни пуха, – промолвила вслед уважаемая прима.
– К чертям, – неумело отозвался путешественник и потащился по лестнице вниз.
На пятачке первого этажа к батарее жался ранний пацаненок, жуя тщедушную папироску, а рядом ухмылялся верзила с квадратной рожей.
– Здравствуйте, дядя географ, – вежливо поприветствовал Кабанок. – Это мой учитель, – почтительно сообщил он спутнику. И другим тоном сказал. – Мужик, закурить будет?
– Не курю, – кратко отшил мальчугана Арсений и тут же получил оглушительный удар по темени и, теряя остатки сознания на заплеванную плитку подъезда, услышал удяляющийся малиновый звон колоколов.
Арсений очнулся, когда рыдван с огромным багажником, где была вылежала прошлыми постояльцами мягкая лежка и теперь он соляным мешком переваливался и подпрыгивал на каждой ухабе, резко сбавил ход, приветливо взвизгнул клаксоном и встал. Из щели щелкнувшей и отвалившейся крышки брызнул свет фонарика, крепкие руки ухватили упревший до седьмой соли тюк и выкинули вон. Громыхнул замок и засов, и Арсений, потирая слегка лопнувший затылок и завядшие уши, увидел себя на скамье в громадном, темноватом зале-ангаре с разрисованными ржавой гнилью стенами и тусклой теперь лампой, вяло склонившейся над огромной болотного цвета махиной, занимавшей почти все нутро. Рядом со своими целыми ногами он с облегчением отметил заветный чемоданчик со старухиным бельишком.
Арсений тут же признал старого знакомого монстра – это, конечно, был броневик из стрип-кафе "Касабланка" и, похоже, тот самый зальчик, который он когда-то пробегал на пути к "сралке". Наверху, из стройной круглой башенки, ядовитым грибом сидевшей над толстым кривым корпусом, торчала, ощерившись, толстая жирная палка, изображавшая пулемет. Современной синей краской на боку опасного чудища теперь на ткани был выведен лозунг: " ЗАВЛАСТЬ САВЕТАВ" и еще один красной краской с другого борта " БОЙСЯ БУРЖУЙ ПРИШЕЛ ТЕБЕ…", и дальше надпись убегала за угол махины. Над танкеткой на обрубленной палке от граблей крепилась крупная фанерка с тоже загадочной фразой: " Павлик Отморозов в диникинских тылах. Съем фильма ПРОСИМ НИМИШАТЬ КИНО".
– Нравится? – довольно спросил сопливый голосок.
Полозков опустил глаза и увидел сидящего на дверной приступке броневика сурового парнишку Папаню в окружении двух-трех здоровых парнюг с обритыми, как бифштекс, отечными боксерскими лицами.
– Наша корыта! – с гордостью ткнул пацан в железо. – Надписали, чтобы прогуливать иногда. Водит мордой, жрет любую жрачку – дрова, уголь, бензин, спирт глушит круче ребят, колесами жужжит, как цекотуха. Настоящим патроном жахает, а вот холостым – пока никак. Но обучим. Ей гимназий не кончать.
Парнюги заржали.
– Может, наладишь, слесарек! Ладно, шучу. Ты как, оклемался?
– Вы бы по башке лупили тише, – пожаловался географ. – А то на свою толщину мерите.
– Прости, что кумпол попортили. У Вас, училков, кумпол нежный член. Но ты, тоже… совсем меня кинул. Сыграл под простого, а в чемоданишке-то у тебя что? Разводные да заточки с напильничками?! Ага. Бабкин хабар у тебя там, вот чего. Я, слесарек, с какого попросил тебя зайти: тут вокруг пожилой тетеньки старушки открылась карусель: ментовка рыщет, китай, Хорьков доходяга в город за тобой снаряжен на тебя глаз иметь, людишки возле бабки шныряют, ночами подушки ее изнутри лапают. А я, Папаня, в этих местах старший – ни ухом, ни брюхом. Нет, оно Барыга меня держит, но и сам не сусам. А ты оказался внутрях главная движущая мишень. Не стремно?
– Я, честно говоря, сам не понимаю, – скромно ответил Полозков. – Все думаю, а выводов мало.
– Не гундишь?! Ты какой взяток у пожилой заначил?