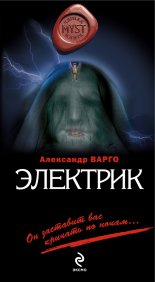Одна ночь (сборник) Овсянников Вячеслав

Летучая мышь, завёрнутая в зеркальную шаль, скользнула наискось от стола к книгам. В широких створках отразились корешки с названиями, от которых гулким колоколом забилось сердце. Л. мочила ноги в пенистом шорохе раздвигаемых штор. Географическая карта кивнула, приглашая к полноводному путешествию. Пробка пахла йодом выброшенных на берег водорослей. Ладога подошла, колыхнув платьем, гладкие колени.
Я целовал нечётное число. Бесцельно топтались на столе пальцы. Сидели в саду семь зверей, неподвижно сидели они перед раскрытой верандой, никогда я не видел бессмертных лиц ангелов. Белые губы молчали. Я ждал: когда же разомкнутся эти уста.
Шелест вошёл незамеченный. Взъерошенная зелёная лапа искала Мартышкино. Расспросы заводили её далеко, густея по переулкам в мисках с душистой кашкой. Я оглянулся, почуяв вестника радости.
Это был новый рассвет. Пронеслись над глубокой подушкой гуси-лебеди. Облако кинуло на веранду тёмный камень прохлады. Солнце умылось, блестели листья.
Андрей Иваныч звал в загорелом воздухе. В бороде у него гудел улей. Тюбики с ультрамарином и берлинской лазурью бряцали в карманах испещрённой куртки. Такой он был весь земной, сухой, с луговыми глазами полуденного Пана, с голосом кукушки в бору: раз, два, три, четыре, шесть, сорок… Приезжайте! Приезжайте!
Мазнуло дёгтем, по шпалам убегал гудок. Тополевый пух плыл. Ласточка нарисовала стреловидный горизонт и умчалась, щебеча. Л. возвращалась.
Подняла с дорожки отсыревшую даму червей. Шла, задумчивая, повернув карту узорной стороной. Муха шумела в банке. Сбоку, из-под мышки давно уже дымился, булькая, кипящий хобот. Лепестки застелили стол и сели завтракать.
Испачкала новую юбку в раздавленных оранжевых существах и ушла переодеваться до позднего сыроватого вечера. Удар откладывался в долгий ящик с двойным дном.
Из сада заглянул гусь. Ветер рванул страницы. Лицо Л. исказилось. Я стоял, ждал. Сарафан старел. Горели глазурью развешанные горшки, глядела, блестел день.
Соломенная шляпа затеняла пострадавший от солнца нос. Обвевала цветущая вишня. Подушки сушились, не поднять потерянных рук.
Убегала, мелькая бронзовыми ногами. Горсть сладкого гороха, смех, поле ржи на подоле.
Небо, земля, спящие ресницы. Книги бегут по стене. Входит рассвет и тушит лампу.
Пальцы-ящерки. Чайки летят с залива, несут крикливую весть. В лодке пусто. Здесь живут катастрофы. Море в рамке.
Глубокое раздумье. Тонут ялики. Море уйдёт, оставив складки смятой постели. С часов убежит молоко циферблата.
Рука, чашка с цаплей. На скатерти стремительно разрастается новый материк. Мы придумаем имя этой неизвестной стране. Мы там побываем. Мы там обязательно когда-нибудь побываем.
ДОЖДЬ В ЧЕТВЕРГ
Апрель, Ломоносов, бурный поток. Купили бутылку. Чернобархатистая велюровая шляпка, локти на парапете. Бес, седая борода бьется. «У тебя глаза огромные! — говорит она. — Синие и нежные, в лучистых морщинках, как у Пана!» Парк просох. Акварельки расставлены на скамьях. Бородачи с карандашами: «Не желаете портретик?» Всадник медный, рыцарь бедный. Пыльные столбы в вестибюле. Пол сам с собой играет в шашки: черные плитки против белых. «Скучаете?» В Кировском — «Фауст». Она в бордовом португальском костюме, который я так люблю. Красива, кто спорит. В шесть встал. Весна! Веточки! Нет и нет ее. Подснежники в рюмке. А там у нас что? Минус шесть! Борей дует в свою ледяную трубу. Телефон потрескивает. «Хочу сшить себе платье», — говорит она. Моет тарелки в раковине. Подарила рублем из зеркала. Апельсин резать. Поделился хлебом. «Спасибо за ножик!» Жемчужина с бульвара. Обеденный перерыв. Черный берет проплыл за стеклянной дверью. «Подышать вышли? Ой, холодно!» Розовый, на костяной ножке, сушится в углу. Унывает душа моя. На щеке пластырь. Бандитская пуля. Халатик с совком туда-сюда, босые пятки. Мать постарела, смородина в каплях, мокнет земля. Ночь. Ручей лепечет на дороге. Дно стакана. Прошумела в светлосером. «Вот вам ванильные сухарики к чаю. Почему у вас руки трясутся?» Теплый вечер. Обводный. Зал хлопал. Свитерок, джинсы. Тоненький, как джигит. Египетский мост выгнулся кошками в золотых коронах. За столиком, глаза в глаза. Яблочный. «Что там черное? Таракан! Везет утопленнику!» Долго плевалась. Плюс восемнадцать! Засеребрилось, бес в ребро. «Я сейчас не могу прочесть ваши сочинения, я прочту их вечером». И краснеет, как пионерский галстук. «А? Что? Да…» Дикарь в зеркалах. Хрупко. «Заборская! К телефону!» Порвалась цепочка. Ивы цветут. Так и пора! Петергоф. Сидим на камне у моря. Вино кислое. Ночь. Лежим. Космос, кометы. Дождь в голубых шальварах. Ваниль выдохлась. Холода вернулись. Она, не она? Ах, хороша! Марево это… Треугольник, тонкие пальцы. «Мерзнете?» Повернулась с чашкой в руке: «Хорошо в такую погоду пить горячий кофе». Промелькнула за окном. Змеиным. «Я вам несу заказ!» День Победы: сгущенка, тушенка из рук сыпятся. А там что? Тонконогая, буря черемухи. А я-то голый, с лопатой, врасплох. Май у нас. Огородные дела. «Не ждал!» — говорит. А я голос потерял от счастья. Вечер в Геологическом институте. Возвращался поздно ночью. Ах, этот дух берез! Голос тихий в трубке. Не сразу узнал. Она, полулежа, с младенцем. Я у нее в ногах. Ее облик смутен, но это она. Узкие подошвы ее босых ног касаются моего лица. Жуткое блаженство. Дом Лаваля. Она! Заколотилось бешено — птица в клетке. Отдать больничный. Опять этот черно-розовый узор. «Что вы хотите? Они ведь у вас откуда-то из загорода? Мы на днях были под Лугой — там едва зацветают». Мойка. Пушкин мокнет во дворике. 25 мая, бывает… Солнечное утро. Высыпали, щебечут. Фотографируются у подъезда. Белая блузка, черная юбка. Школьница. «А? Что?» Кваренги, кони. Мария Биешу: «Лаванда, горная лаванда, наших встреч с тобой синие цветы…» С ней на лодке, Оредеж, попали под дождь. С понедельника июнь. Сирень в хрустальном горле. Длинное, облегает до лодыжек. «Хорошо, прочитаю. Вы меня снабжаете литературой». Кружу, шашки. Дочь коменданта. «Скучаете? Вы тут как в темнице». Дождь, темно, брюки отглажены, свежевымытая шевелюра, рука дрожит. Положил на стол. «Не надо сердиться» говорю. «На таких не сердятся». Зонтик в саду бежит. Знакомый зонтик. Взбегает по ступеням. «Дышите воздухом? Да, я вся промокла!» Широкое серебряное кольцо. Принесла полную чашку молока: «Кушайте!» Чертит за столом какие-то значки на квадратиках фотопленки. Такая у нее работа. Сирень вянет. «Да, но зато есть время» — «Давно, и еще долго собираюсь» — «Сашенька, купи молочка!» Рассыпаются, мелкозавитые. Влажно, сад шатается. Гроза. Гранат. «Я так люблю ландыши!» Поднесла к ноздрям. Галерная, арка. На ветру журнал. «Любовь по-венгерски». Поэзию не любит, стихами не увлекается. Но дома есть «Библиотечка поэта». Купить пальто. Весь день мелькал. Июль. Плохи дела. Тополиный пух гуляет по городу. Явилась, чудное мгновенье. Белое, в розовую полоску. Руки голые, загар, клеймо, оспа. В Новгород на лето. Не до Мандельштама. Истфак. Гостит отец. Поедет провожать на вокзал. «Что это вы за книгу такую большую читаете?» Жара. Автобус с девушками. Пляж-мираж. Рация из сада. Усы, буйноволос, Кисловодск, медсестры, спирт, «не просыхали». Ремонт, фасад в лесах, заляпанные малярши. Им звякнуть. «Вы когда закрываете здание? Не хочется приходить в понедельник». Обернулась, чертежное перо в руке. Ключ на гвоздик. Душный конский хвост. «Все лето провести в этом каземате!» «Вышли бы, погрелись. Только что-нибудь может упасть сверху». Гавань. Торт. Ветер, солнце. Усталая, грустная. Морщинки у глаз, опущенные углы рта. Уплывает, уплывает это лицо… Гражданский проспект, новостройка, пробираюсь по досочкам. Кряжистый. Молотобоец с Днепра. Журналы. Ночной дождь, тепло, тополя пахнут. Строил ящик для угля. Пустая постель. За дверью голос! Вышел, шум шатается, мрачно блестят, с черных сердец стекают капли. Ночь, четверг, водяной кий расшибся в брызгах о пристань. В газете страшно: столкновения. Пассажирский с товарным. С юга. Пятигорск. Льет и льет. «Кто тебя обидел?» Доить козла в решето. Страна фракийцев, укротителей коней, земля мисян. Звонок из Крыма. Торопливо, озабоченно. Феодосия, голос не свой. В два ночи, перрон. Бросилась на шею. Новая, остриженная. «Привет!» Груши, дыни. Едва дотащила… Звонок из Москвы. Веселый голосок: «Что ты, не ночуешь дома? Или телефон отключаешь? Почему ты грустный? А я была на выставке Шагала!» Сентябрь. Беру трубку. То воды в рот набрали, то прокуренный. «Юра? Ты меня узнаешь? Все равно. Давай хоть с тобой поболтаем, пока у меня перемена». Учительница в школе, 23, отец-полковник, живет одна в однокомнатной квартире. Своя машина. Знает наизусть стихотворение Жуковского «Привидение». «Какой ты неразговорчивый! Тебе сорок один? У тебя совсем молодой голос». Ноябрь. Чайка в небе. Старичок, начальник маяка в Ломоносове. Седая бороденка, тулуп, трость, железные зубы. Не желаю ли я работать у него служителем маяка. Я подумаю. Поезд на Ораниенбаум. Сквозняки, розовые пятки. «Что это вы говорите! Вот, чтобы вам не было скучно. Только помойте». В декабрьском саду удалялась вишневая шапочка и пропала. Февраль. В парикмахерскую. Светло, солнце. Стою я тут на углу, смотрю в небо — и легче. Пришла. Целовал ее холодные румяные щеки. Водка в хрустальных рюмочках. Грустный разговор. Рвать сердце. На этом крест. Сырой снег. Ноги промочим. Март. Дышится. «Когда-то ты называл меня среброногой нимфой, а теперь я просто кляча». Леопард. Луна. «Я очень тронута». Алеет, мак, вся, вся, до мизинцев ног. «Сколько надо заплатить?» Снег с ветром. Улица Зенитчиков. Книги. Френсис Бэкон. В цветочном купил каллы. Врубель, Лебяжье, заячья губа. В четвертом часу у «Метрополя». Мане, Моне. Апрель. Снег выпал. Спрашивала о Бхагават-гите. Ей не выговорить. Смеялись. Полкило «Чародейки». «Семь самураев». Едва высидели две серии. Проснулся. Мутно. Споткнулся о порог. Целовал ноги, а они тают, тают. На то и снегурка. Кому-то из нас улетать. Билет на Байкал. А там и май. Чирикает решетка Таврического сада. Золотые клены, то лицо, омытые листвой тротуары. Молодо-зелено. Клуб «Водоканал». Книги вокруг. Всюду: на земле, на лестницах. Нашел то, что не искал. Звон будильника. Разлепил глаза. Шесть. Рань дикая. Постелила соломки. Стрельна, утопленное бревно, дуб шумит, дум полн. Небо в перьях. ТЮЗ. Звенигородская. Цветущая голова каштана. Голые девушки на лужайке машут ракетками. Тормоз, точка, прочитано. Как на тот свет. Юсуповский, Римского-Корсакова, в синем плаще, после дождя. «Тебе надо молодую». Поедем на лодке кататься. Попали в ливень. Пузыри. «Я полна желания». Лестница без перил, сучки солнца, тесемки, спина, загар. «Пир королей», радужные жуки, духота в залах. На то и июль. Ничего не получится. Водяные елочки. У нее выкидыш. Плачет ночью: «Наш ребеночек…» Эмбрион. Мутно-восковой. Месяц на рассвете. Решено: едем. Ростов-Ереван. Глядим: предгорья. Туапсе. Сняли на горе, дождь догнал, хлюпаем в тапках. Сентябрь, буря, море-фагот, бешеное, фонтаны над дамбой. Подобрались к этому ужасу поближе. Улочку захлестнуло. Град, ураган, все радости. Мокрые, оглушенные, зато видели. Аше. Сняли мазанку. Две железных койки, Левитан, «Золотая осень». Ночь, шторм, ждем поезда. Мимо, мимо. Прожектор с горы шарит в море. Бушующие валы. «Левитан» колышется, шуршит. Бледней мела. Эол дует с гор в трубу ущелья. Кто нас сюда затащил? Ледяное дыхание вершин ходит, как у себя дома, ерошит нам волосы. Бессонный хозяин. Дожить до рассвета, южные лучи согреют двух дикарей. Купались в прибое. Соль наследила белесоватыми лапами на обложке брошенной книги. Автобусик крутит ночной серпантин над пропастью, толкает, клонит. И при каждом толчке она сжимает мне руку. Крепко-крепко. Ночной перелет в Минводы. Кавказ под нами. Луна. Посеребренный грецкий орех на ладони неизвестного нам гиганта. Ночь на чемоданах. Кисловодск, куда глаза… Две тысячи метров над уровнем. По-змеиному. Провал, Княжна Мери, голова кружится. Колеса на север. Соленые камни, солнце всходит над светлоглазым морем. По гребню кто-то идет, осыпая гальку.
Метель залепила лицо, пальто. Песочная набережная, «Бавария», старик с канистрой, Олег Палыч, уволенный инженер. Борьба с зеленым змеем. Ведут в заднюю комнату, составлять протокол. Армения. «Ленинобад в обломках». Двести тысяч детей-сирот. На Мойке из-под полы: «Советское искусство 20-30-х годов». 23 рубля. Проснулся. Темно. Тускло отсвечивает стекло книжного шкафа. Гимнастика. Вяло размахивал руками. Утюг блестел на гладильной доске вверх железным носом, тонущий крейсер. Январь. Вздрогнул и вытянулся. «С Новым годом! Да так себе, в семейном кругу». «Покурить вышли? Идите, а то простудитесь». На Невском буран, «Искусство», китайские веера. Февраль. Второе. С ней на Литейный. Центральный лекторий, вечер поэта А. Пиджачок чувашский. «Вот, да, живет где-то здесь. Незаслуженно замалчивается…» Пройтись, локоть в локоть. Робею, голос дрожит. Да я ли это? Нет, нет, до гроба. «Я приду к вам сюда посидеть». Март, метель. Чай пили. Ставил ручку на дверь, весь день провозился, измучился. Апрель, митинги, подполковник Засыпкин из политотдела, луженая глотка: «Будьте политически устойчивые, а то потеряете моральное лицо». Тбилиси. Саперные лопатки. У нее болит голова, лоб стянут платком. Гладит плащ, опрыскивая из рта. Плащ шипит. Надела, отглаженный, синий, весенний, и ушла. Смотрю в окно с высоты третьего этажа. Все-таки оглянулась, махнула рукой, Мне очень грустно все эти дни. Мы в зимнем зеркале. Обнимаемся. Она, повернув голову, глядит на наше отражение. «Какие мы смешные» говорит. Май. Переставлял книги. Таврическая улица. Искал Фета. Свалял дурака. День пропал, солнечный, синий. Нити ведут в запутанном лабиринте. Исаакий в тумане. Так это Сахаров выступает! Проснулся в десятом часу. Она уже давно встала, помылась в ванной, напевает, мокрые кудряшки. Пили чай. В Челябинске взорвались два пассажирских поезда, от газа. Много жертв. Идем. К метро. Тепло, тополя. Она в голубой блузке с белыми ленточками на груди. Дрожат на дороге тени ветвей. Солнце запуталось, чуть слышный шум листьев. «Ты сейчас улыбаешься, как Пан у Врубеля, — говорит она. — У тебя глаза в морщинках, не одна я старею. Глаза такие светлые, мудрые и добрые. Ну вылитый Пан с голубыми глазами и свирелью!» Пришла заполночь, загадочно улыбается. «Почему так поздно? — спрашиваю. — Где ты была?» «Это женский секрет», — отвечает. Потом выяснилось: она стала ходить на массаж лица в косметический кабинет. Два раза в неделю. «Как ты не понимаешь, что хочется быть красивой! Я всегда, с юности, так хотела быть красивой!» — «Ну, ну, скажи, как ты меня любишь?» — «Ну, я постоянно хочу тебя обнимать». Она смеется: «А я хочу, чтобы ты всегда хотел меня добывать!» Июнь, жара, музеи, музыка, Поль Гоген. Октябрь. Десятое. Встали в седьмом. Летим в Анапу. Сошли с трапа, теплый ветер налетел, обнял. Платье затрепетало у ее ног. Номер, моря не видно — вот что жаль. Купались, еще можно. С утра дождь. И так до обеда. Читаю. Она спит. Сосенки-дикобразы. Купался один. Она не сумасшедшая. Ветер. Вода жжет. Трясусь в толстом свитере. Не согреться. Глотнул коньячка. Гуляли у моря, фотографировались. Гулять тут хорошо. Песок золотистый, море шелестит у ног. Шли три часа, до заката. Волна бежит, журча, изгибается, показывая ярко-зеленое брюшко, и выплескивается на песок. Анапа, мыс в розовой дымке. Махнем в Тамань. Встали рано. Пар из рта. Тополя, станицы, фруктовые сады, мазанки. В Тамани задувает, гребешки. Черное с Азовским, братья, обнялись. Там Крым, та башенка белеет. Да, дворик этот. Обведен булыжником, и лачужка-музей. И слепой мальчик тут где-то. Закоченели. Кочерыжки. Фотографироваться на ветру. Утром перед завтраком бегаю у моря и купаюсь. У нее процедуры: родоновые ванны, Мацеста, психотерапевт. Плачет. Бежит от меня босиком по берегу у моря, оставляя узкие следы в золотистом песке. Обессилев, задыхаясь, рыдая. Вырывается, хочет утопиться. Восход, море зажглось. «Ты пойми, — говорит, — мне же не нужен другой мужчина». В Анапе Бенедикт Лившиц. Купил зачем-то. Гуляли по набережной. Спустились по скользкой скалистой дорожке, рискуя сломать шею. Море мурлычет у камней, и эта даль, этот блеск. Хурма во рту тает, плод богов. Дом отдыха «Юность». Пионеры, безрукие, с отбитыми носами, позолота облупилась. Ноябрь, гул шторма, гребни бегут в окно столовой. Улетаем. В Ленинграде ждут дождь и снег. Будто бы умер. Сижу в надмирной пустоте и мраке за широким, прозрачным, как стекло, столом, и передо мной лежит книга моей прожитой на земле жизни, озаренная ярко-пронзительным светом посмертного знания. Я и читаю, и пишу ее. Будто бы читать это и есть — писать. И когда я поставлю последнюю точку у последнего слова «конец», я тут же рассыплюсь в прах и исчезну в пустоте и мраке. А книга? Бог поставит себе на полку?.. Декабрь. Снегирек за окном. Баня. Шел обратно в сумерках через парк, легкий, как перышко. Шампанское, вскрикнув, стреляет пробкой в потолок. Двенадцатый удар, новый круг. Январь. Я один. Она в Минске. Вернулась, поет: «Милого голоса звуки любимые». Гость звенит в дверь. Февраль. Книжонка попалась. В. Освальд, «Письма о живописи». «Мы вовсе не видим предметов так, как они, в оптическом смысле, представляются нашему глазу, а так, как они нами легче всего познаются. Мы обыкновенно пользуемся нашими глазами вовсе не для того, чтобы воспринимать внешние красочные и световые ощущения как цветовые пятна, но чтобы ориентироваться во внешнем мире для повседневных и практических целей». Март. Снег. Густой-густой. Адмиралтейство. Мирбо, «Голгофа». Мучительные страницы. В Манеже художник, лоб, черная рубаха, кушак. Объясняет свой метод окружившим его девушкам: «Малевич — физический геометризм. Я — от психического, мое открытие — спонтанность воли в мазке, в краске, сталкивающаяся с природной необходимостью, жесткостью природных геометрических форм». Конец мая, холод, дождь. «Доктор Живаго» у нее на подушке. За стеной труба рыдает. Докатился. Июнь. Не забыли мы чего? Толмачево. «Живой ручей». Шатровая липа у входа. Комната, окно в лес. Распахнул — птицы! Такой тут у них хор! Писк, щебет — весь божий день! Луг по шею, ромашки-колокольчики. Нас остерегают: «Тут змеи! Гуляйте, да поглядывайте!» Жара пришла. Купаемся в реке-Луге. Поход за целебной водой. Ящера бежит, блестит, обрывы, сосны. С крутизны муравьиная тропа. Сорвиголовы. Запотелый бидончик. Ночь средь бела дня! Бежим! От столовой до жилого корпуса, под бесполезным зонтиком. Под навес, а за спиной — ух! Ледяные ядра рушатся на дороге. Такого града не видали, а полжизни позади. Спиной. Спит. Ровное дыхание. Занавеску золотит день. Потихоньку встаю. Стук стеклянной двери. Иду в лучах. Безлюдно. Площадка с теннисной сеткой, блики на асфальте. Ласточки, трепеща крыльями, с писком пропадают за крышей котельной.
«Алло! Ну что ты звонишь? Одень потеплей Женечку и идите гулять». Пушкинская, 10. Чудом нашел. Разговоры. В восьмом часу вечера — страшная гроза. Дом сотрясался от небесного грохота. Стою у раскрытого окна, жду — ударит, убьет мгновенно. Но стрелы пролетели мимо. Июль. Проводил на Витебский. Тележка с вещами. Поезд ее увез. Бронзовый шар звенит на закате. «Молодой человек, вы меня, конечно, извините, у вас не найдется сигаретки?» По шпалам. Хрусталь дрожит над рельсами. Жара. Облако-холм. Тяжелое лицо. Голубой троллейбус на бульваре. «Тебе не надоело столько лет обнимать один и тот же торс?» — спрашивает она. Рябина откинулась от пощечины, всплеснулись зеленые кудри. Камень-диван со спинкой под изумрудным бархатом, Молоко колонн. Пришла с загорелыми ногами. «Большое спасибо! Вы в сентябре еще будете? Ну, значит, увидимся». У нее болят ноги. Мазал ей поясницу. Бедная. «Ладно, Слива. Вот, попейте чайку!» Светлый плащ, распустила волосы. Все у нас совпадает: день, месяц. На дворе сентябрь. Четверг. Четырнадцатое. О чем я думаю? Мое имя за спиной. В белом плаще, как обещала. В Дом Книги. Учебники. Стылый денек, канал, мозаика. «Долго он был в лесах!» Пруд покрыт ряской, бутылки лежат, как на столе. «Зачем Вам лишняя головная боль! Бросьте вы это!» Полез на чердак. Карта Риги! Ноябрь уже. Седой рассвет. Как там Оредеж поживает? Наша ель. Измазались в смоле, обнимая друга. За нами долго плелась старая рыжая колли. Чудо! Млечный путь! В том переулке. Рой золотых пчел. Трещала наваленная куча толстых веток. Человек из мрака, красное лицо. Девятое. Обвел кружком. Хризантемы у метро. Курчавой головой покачивают: «Такие, да не такие!» Телефонные признанья. Погода меняется, семь пятниц. Она! Кровь ударила. Два часа сидит, а сказала — на минутку. Тускло, бродим по рынку. Обшарили ряды. Купили мне польскую шапочку, кожаную, с козырьком. Она довольна, мне идет. Купили музыку слушать, антенна до неба — эфирный ус. «Латвийские поэты». Болтали. Серозеленые, ведьмовские. Ведьма и есть. Ее камень изумруд. Вместо «экскурсовод» я сказал — «экскурсовед», вместо «элитарный» — «улитарный». Ей стало весело, сняла пальто. Камни мокнут, как аспиды. Чайка летит, унося гроздь черного винограда. Мы водолеи. Аметист от пьянства. Полнолуние, жди бессонную ночку. Колдует над крышами. «Вы — человек эмоциональный». Показывает, смеясь: «Укрепляет мужскую силу!» Декабрь. Фонари бегут. Триста. Вот все, что у меня с собой. Пьяцци. Итальянец, что ли? Акварели. Дома, водопад рушится в ущелье. В каком из этих домов я хотел бы поселиться? Там дикий шум беспрерывно, там жить невозможно. Керамика и фарфор Фаны Франк. Какую бы я выбрал тарелку? Эту. Называется: «Ветер». А эта — красная: «Брат солнца». А мог бы я тут остаться ночевать? Вместо мумии в саркофаге? Муж курит в ванной. Жена обрызгивает каким-то жутким дезодорантом, который еще хуже. Яшмовая ваза. От дождя хорошо укрываться. Двести шестьдесят пудов. Помножьте на шестнадцать. Сколько будет? А? Не сосчитать? Знаю, знаю, как у Пушкина: двойки по математике. Темные лоджии Рафаэля. Невский, брызги. «Но потом я к вам загляну». Кришнамурти. Январь. Мокрая метель. Качаются сучья. Она еще спит. Филолай. «Когда несутся Солнце, Луна и еще столь великое множество таких огромных светил со столь великою быстротою, невозможно, чтобы не возникал некоторый необыкновенный по силе звук». Венера — шесть, жизнь — семь. Четверг. «Я к вам сегодня приду!» Звонкий молодой голос. Веселый и звонкий. Глажу пальцами телефонную трубку. Черные замшевые сапожки с меховой опушкой. Я читал книгу. Она шла ко мне в этих своих мягких сапожках, в красном свитере. Разговор о непорочном зачатии. Глаза у нее заблестели. «Оденусь и заберу ваш толстенький мандарин!» Погладил ее по спине. Снегу! Позвонила, поздравила. Они там отмечали у себя. Голос веселый, под хмельком. Шепчет: «Пока». Платформа, сумерки, снег липкий, сосны шумят. Пушинки попадают ей то в глаз, то в горло. Это у нее перчатки такие пушистые. Зато теплые. Просит зеркальце. У нее постоянно воруют кошельки. Кто-то может покушаться на ее деньги. Шапка, опушенная черным мехом, как у боярышни, перчатки. Между нами на лавке. Жест этот, каким она заправляет волосы под шапку перед зеркалом. Приручил Жар-птицу. На Большой Морской долго выбирал ожерелье. Будто бы я с какими-то людьми в зале с высоким потолком. Все заледенело: окна, пол — во льду. Мы сидим на скамьях, поджав ноги. Рядом за столом две девушки выдают деньги. Эти девушки — из лаборатории. Уборщица сгребает лопатой обломки льда — в яму в конце зала. Вдоль стен тоже сидят люди, окна у них за спиной в налезших льдинах. Кидают льдинки на середину зала, и они звенят, как колокольчик над дверью. «На всех денег не хватит», — говорит мой сосед. Книга шевельнулась. Витебский. Залеплен. Похабщина. Поют в затылок: «Медный грошик дай, господин хороший!» Февраль. Оттепель. «Привет!» Два дня сдуло. Шла ко мне и, наконец, дошла. Это ее серое пальто с песцом, шапка-боярышня. Немного пьяна. «Я только на десять минут». А просидела три часа. «Яблоко искушения или раздора?» — спрашивает. «Конечно, искушения!»-отвечаю. «Ну так вот вам хвостик от яблока». Оказывается, день Ксении Петербуржской. Томит жажда. Уронила шпильку под лавку. Говорит: у нее волосы длинные, ей поднимать неудобно, Это несчастье. «Ну, к чему это?» У него великолепные волосы, как бы ни постригли, помоет голову и — опять роскошная шевелюра. Она роковая женщина. Она не хочет меня погубить. «Сколько вы весите?» — спрашивает. «Не знаю. Я давно не вешался». Мой ответ ее развеселил. «Ведь мужские кости тяжелей», — говорит. Толстый каблук. Любовь объясняется биохимическими реакциями и процессами. Конкурс красоты толстух. Чем толще, тем красивей. Размер ноги: 37. Любила кататься на коньках на Волхове. И на лыжах — с крепостной стены. «Вот какая я была отважная!». Март. Ананас. Навеселе. «Не на работе же! — говорит. — На работе нельзя». «А где же?» — спрашиваю. «В чайхане!» — смеется она. Чай «Горячий поцелуй». Человек я редкий, настоящий друг, на которого всегда можно положиться. Преданный, беззаветный, Чтобы у меня не было на этот счет никаких иллюзий. Уронила свой бархатный черный берет на пол, отряхала: «Ужас!» Брала за руку, утешала. «Такая уж ваша участь». «Да ну. Вы придумали эту любовь. Все это вы придумали. Ах, как пахнет ваш ананас! Уже поздно. Мне пора…» В нее влюблялись повально. Мальчики в классе приносили ей список своих имен и просили поставить крестики: кто ей нравится. Подруг у нее не было, с женщинами не может быть дружбы. Многое остается сокровенно. Душа не проходной двор. Любила танцевать. «Ничего, ничего. Все будет хорошо» говорит она. Рука у нее горячая. Май. Жарко. Встали рано. Шляпка с алым бантом. Ищем по городу. Теплозвукоизолятор. Литовский. Камчатская. Пыль, грохот, переполненные трамваи. Большой Казачий переулок. Казачьи бани. Она устала, истомилась. «Зайдем?» Замки, краски. Дверь настежь. Две голоногие девицы сидят на ящиках у входа и курят. Играет музыка, и мальчик танцует на солнцепеке. Девицы хлопают. Витебский, бананы. «Это я!» Духи из цветка, растущего у подножия Гималаев. Итальянские очки от солнца. Читает «Гойю» Фейхтвангера. «Воспоминания» дочери Куприна. Далека от китайского, и десяти страниц не могла одолеть. Фильмы ужасов. Насмотрится, а потом не уснуть. Гривцова. Задумчивая. Вздрогнула, услышав свое имя. «Решала, куда пойти, — объясняет она мне. — А вы?» «Вот, книги купил, — отвечаю сокрушенно. — Что я за человек!» «Ну что вы. У каждого свои причуды», — возражает она, желая меня утешить. Смотрю на нее, и сказать мне больше нечего. Неловкая пауза. «Ну что же вы притихли?» — спрашивает она. Стоим посреди тротуара, мешая. Обходя нас, выражают недовольство. Ее бледное, припудренное лицо и эти крапинки, незаметные зимой и теперь опять проступившие. Тополя трепещут молодой листвой, игра света и тени на тротуаре, резкие порывы ветра. В мае не редкость ледяной вихрь. Она ежится и передергивает плечами в своем тонком белом плаще, волосы ее крутит жгутом. «Замерзла. Я пойду», — говорит она. Июнь. Бульвар. «Ну хорошо, я сейчас выйду». Троллейбус не тот. Кондукторша, на животе сумка, билетный рулончик. Куда меня занесло? Суворовский?.. Заячий переулок, зонты, кафе «Грета». Бледно-голубое. Так это Смольнинский! «Нет, он на Охту…» Раздавленный лист. Дверь высокого напряжения. Череп и кости. Выбирай свой путь, тайна кухни, главная деталь в вашем автомобиле, идеальные акриловые ногти, делаем и обучаем, оптические прицелы, рисую с фото, Петрохлеб, Квант-Нева, вход в магазин Шоп, всем по карману, мы сделаем вашу любовь взаимной. Чемароза «Тайный брак». «Бавария» в баночках. Скверик. Консерваторские восторги. «Ах, какая белая ночь! Эх ты, сухарь!» Поймали машину. Третий ночи. Сижу, шторы задвинуты, будто бы ветер, и сосны шумят в парке.
«Вы кушали? Я помешала?» «Да нет… Я уже все… Я так…» Вскочил из-за стола, сквозь землю провалиться. Нет, книги она не берет. «Кто же читает в отпуске!» Она будет ходить в гости, заведет много новых знакомств. На то и отпуск, чтобы заводить новые знакомства, освежить жизнь. Она на минутку. Она сейчас уйдет. Холм. Бессолнечно. Тополиный пух на бетонных ступенях. Белые ночи, музыка из бара, голоса, смех — короткий и резкий, как удар, как ожог. Еду загород. Купаюсь в озере. Хорошо идти босиком по насыпи, песок горячий, колокольчики голубенькие у шпал. Волны тепла обдают тело. Девушка и красная машина у платформы. Голые ноги, вислые груди под блузкой, расспросы: как выехать на шоссе. Безотрадно как-то. Слез нет. Ульянов, прислонясь к раме, читает «Евгения Онегина». «Прошла любовь, явилась Муза…» Июль. Блеск воды и девушки. Танец в сияющей пустоте. Ветер на ночной дороге, шелест тополей, луна над мостом, тень человека на стене, шевелюра, вытянутая рука, дуновение сырости, бесшумная, лилово-огнистая, изломанная ветка молнии над высотным домом. Блеск мокрого камня, навес автобусной остановки, рыбьи силуэты машин. Фрейд, отцеубийство, бронза тел, брызги хрустальнозеленой воды. В саду ночью, когда я возвращался. На скамье парень без пиджака, гладит на коленях кошку. А это не кошка, это, оказывается, женская голова, курчавая, черная. Мяучит, стонет. Расслабленное лаской туловище, полосатые штаны в обтяжку, бедра и ляжки, змеиное. Гоголь. Синий Рим. Гуляли. Она в шелковом платьице с голубыми цветочками, которому уже двадцать лет. Вышел из бани, постриженный — она машет мне с той стороны улицы. Огурцов, помидор, кукурузного масла. Асфальт липнет к нашим подошвам. Атомщики Смоленска идут с плакатами. Сон томящий. Скульптурный стол психоанализа, памяти Андрес-Саломе. Удивительная женщина, в ореоле легенд. Желтые стулья на тротуаре. Бронзовый том. Облачное, неуютное небо. Смоченный поливалкой асфальт. «Большие дома погасили огни», — поет экран. Толстые девки с воплями ныряют с обрыва, шлепаясь об воду брюхом. Кашель, плеск весел. Сизый дым костра поднимается над соснами. С бидоном ушла за черникой. Сижу. Собака дышит в затылок. Пыль на Гороховой. Геракл, флейта. Полнотелая, в цветном платье, банка из-под кофе — для подаяний. Не доехать до Стрельны, трамваи застряли в Автово. Писчий спазм. Да ладно. Погибать с фанфарами. Ходить куда-то, один, как пьяный, через блеск и тени, через пустынные знойные сады, через безлюдные дворы с мелкой травкой. Нагретые розовые заросли иван-чая, медовый запах, развешанное на веревках белье, колонна катков на шоссе, дух гудрона, горящее рыжими космами в клубах копоти смоляное ведро и хрустально дрожащие вокруг него струи воздуха. Загорает, сидя на коврике, в мечтательной позе, подперев щеку ладонью. Ласточки-гимнастки на проводах. Вышел из воды, как новый. Бодр, свеж, мокрые волосы. Музыка из дома, поет женский голос, красивый, щемяще-печальный. Всю ночь не давал спать собачий лай. Бесшумная белая машина на дороге. Две девушки в голубом и черном купальниках, юные, гибкие. Одна, вылезая из воды, посмотрела на меня со значением. Я загорел, черный, как головешка. Летнее гуденье мух. Ягодка горит. Нянька в Нью-Йорке. При таком росте! Потоки дождя. Пропадают желания, которыми так долго томился. Подумать только! Слезет и эта шкура. Один, как невидимка. Что-нибудь да вышелушится. Стрельна, колючки, дворец, пух летит. Тишина звенит в ушах. Солнце припекает шею сзади, а холодок овевает лицо. Вот и хорошо. Пишу, положив тетрадь на ветхие деревянные перила балюстрады. Стена рушится, маски разинули рты. Березка на балконе. Нашла, где жить! Ножку стройную продень. На площадке у стены пустые машины. Лопухи-гиганты. Ветер треплет край тетрадного листа, мешает писать. Залив выбросил на берег безголовый труп чайки. Шина в воде. «Ведь все еще лето», — поет раскрытая дверца синей машины. Привела сына. Познакомиться. Цыганские сны. Туфельки с серебром. Сидит, оправляет подол. Час пик. Крепкая, горячая нога. Вышла у Гостиного. Высокого роста, розовый плащ перекинут через руку. Груши, сливы. Август. Вернулась. Открытки показывает. Дом ее в центре Новгорода, на главной площади, там, где кафе «Чародейка», там она и живет. Музыка из кафе ей ничуть не мешает ни днем, ни ночью. Стрельна. Голубовато-туманисто. Стена, солнце, колючие заросли, шапки с пухом. Ветер из-за угла. Девушка читает книгу, сидя на периле моста. Загар, розовая ступня, подушечки пальцев. Из травы змеем выползает толстый сук. Купаются брюхатая старуха и мальчик в красных трусиках. Пишу, стоя в воде. К моим ногам подходят рыбки. Моя рыбопись. Теплая ночь, кинотеатр, шарканье, машины, девки, резкий смех. Быстро идет от кондитерской, губы, бусы. Зовет меня издалека по имени. Брызнули фары. Утро знойное, тополя пожухли. «Не шали! А то проживешь слишком быстро. Не успеешь устать». Разговор у магазина. Забулдыги. Сочные колокола. Почем штука? Златокожие облака. Хочет счастия. Немцы в трамвае. Черный поп в колпаке и рясе. Роскошь случая, пыльно-черные ресницы. Стрельна, пусто, скорлупки, рулон фольги. Выброшенное волной красное ватное одеяло. Старик с сеткой собирает бутылки. Какая рюмочка прошла! Чулки шелковые, ласковые, блестят кукурузно, оглядываются. Интуит ли этот солдат? Ночь, остановка. Катит колесом в курящее око. «Пьяница ты мой!» Вешается на шею. Простужена. Поездка в Новгород в холодном автобусе. Мрачности ее раздражают. Герои изломанные. «Голод» так и не могла осилить. Тяжелое, гнетущее впечатление. Она не любит такое. Отламывает кусочки шоколада. Морщинки фаланг. «Каждый раз, как я к вам прихожу, у вас летает эта большая синяя муха. Она к вам привыкла и вас любит. Она наверное только при вас и летает. Вы появляетесь, и она — тут. А до тех пор где-нибудь прячется». Карповка, мглисто, бурые крыши. Троллейбус номер четыре летит через Силин мост. Левый звонок. Кисти в стаканах. На полу играют дети: мальчик и девочка. Октябрь. В Куйбышевской. Клены на больничном дворе. Роняют «багряный свой убор». Разговоры у нас. Магнитная вода. Воздействие деревьев на человека. У Куприна в «Гранатовом браслете». Этот Желудев. «Вы как к нему относитесь? Симпатизируете?» «Я не хочу тревожить вас ничем». В вагоне плохое освещение, Павловск, огни, толпа. Правлю корректуру. Опять пятнадцать ошибок. Этому конца не будет. Рука ее на рентгеновском снимке: кисть, косточки. Грусть моя. Подкрасила скулы, и волосы что-то уж чересчур черны. Духи из цветка, который распускается после захода солнца в предгорьях Тибета. «Шаволи», что ли? Так они называются? Голос в саду: «А когда же мы будем посещать врача?» «Разве я похож на самоубийцу? В мои планы не входит такое окончание истории. Но тоска загрызет…» «Как поживаете? Совсем зима, правда? Такой снегопад! Я шла закутанная, надвинув капюшон, как куколка. Да еще и с зонтом. А вы? Я приду немного позже». Мерцание, шкура медведя, грядущие ужасы зимы. «Как потемнело! Опять снегопад начинается. Надо идти». Встает. Что-то свалилось с грохотом. «Всегда у вас эта деревяшка падает, когда я прихожу!». Ноябрь. Тринадцатое. Она только тем и занимается, что ходит по магазинам и выбирает для меня экзотические сорта чая. Сегодня принесла чай «Звезда желания». Сильно набеленное лицо раскраснелось. Фильм «Последнее искушение Иисуса Христа». Даже черепахи любят финики! Японская борьба, в которой я ровным счетом ничего не понимаю. В три погибели, а мне и одной — за глаза. Кровавый след. Такой оставляют губы. «Ну вот, испачкала вам чашку!» Сад лепной. Бегают дети и собаки. Снежки летают. «Слушай, Галя, вот какая ты пошлячка. Сапоги сапогами, а термос-то ты разбила!». Январь, четверг. «Ну, я пойду». Будильника она не слышит и спит, спит. Сын по ее вине опаздывает в школу. Нет сил вставать в половине восьмого. А в ноябре-декабре — самые сонные дни. На днях «кутила». Ее «кутежи». Художник Знаменский. Рисовал портреты декабристов, Нет, не знаю. Опять без работы. Кинорежиссер. Теперь это никому не нужно. Синий чулок. Не хочет приезжать к девяти утра. «Вот не хочу и все! Ехать в метро, в толкучке, когда какие-то нетрезвые у тебя на плече спят!» Читает мемуары Шаляпина. И сыну нравится. Принесла чай «Малайская фантазия». Потому что уже не увидимся в этом году.
«Куда вы пропали? Здесь, в пятницу». Март, Моцарт, полнолуние, тринадцатое, проснувшись посреди ночи, обнаружил, что мне 51. Не слишком ли на мою буйную голову. Она болела этим тяжелым гриппом. Музей Ахматовой, сквер в снегу, весной уж пахнет. Мы тут постоим с ней минутку, подышим, поглядим на небо. Ручьи, солнце на Мойке. Что ж. Существует такая древняя профессия: писать. Я и пишу. Плеск капель во дворе банка. Рабочие сбрасывают с крыш сверкающие глыбы льда. «Привет! Откуда вы? Когда же вы вернетесь? Да, это печально. Голос у вас, как у больного». Им устроили экскурсию в Горный институт, она очарована камнями. Убрала зимние вещи, а холода вернулись. Ей это совсем не нравится. Отгулы. На неделю. Навестить родителей. Апрель. Демидов мост. На Сенной трамвай сошел с рельс, рискованно накренился. «Да, и пишущие машинки чиним». 4-ая Красноармейская, сугробы у тротуара. У них грипп, ремонт, стучат «ходики», подвешенные на веревочку на гвозде. Узоры сердец, «сердечные» обои. Подоконник, баночки, кисточки. Стул из кругов, с сетчатой спинкой. На шкафу рамы, холсты. Город Мальбург, мрачно-синий колорит. В соседней комнате лежит на кровати Любовь Дмитриевна и кашляет. «Что с потолком делать?» говорит она в отчаянии. «Блестящий, страшный, жить невозможно!» Четырнадцатое. За воротами — Мойка, капли косо летят, женщины щурятся, золотые шары горят на мостике. Изгибается красно-белый трамвай. Поликлиника, та самая, с козырька струя плещет. Вон какая она свеженькая девчонка! Рыженькая, и оглядывается, распушилась. Под водосточной трубой груда горного хрусталя. Не пойду я с этими балбесами. От Нарвских ворот, разрыто, Эдвард Мунк. Мало своих чудачеств. Купили брюки, какие я хотел. Дождик на пыльном асфальте кропает сырые многоточия. Орхидея, душно, Матисс. В окно глядеть милей. Под нами Миллионная, колонна солдат и моряков, военный оркестр, барабаны, трубы. Музыкант в травянистой шинели, с огромным медным удавом, одетым на шею, торопливо курит. Она щекочет мне лицо волосами, и этот ее кельтский нос. «Лук или перец?» «Скоро дорожки просохнут». Искусств. «И сердце вновь горит», жарко. Девушка в тени с заунывной дудочкой. Сел, а скамейка сломана, чудом не упал, смотрю — стоит, отвернулась, будто бы не замечает. В Русском она была сто лет назад. Турецкому султану. Прелюбодейку тащат, камнями побьют. «И увидел во сне: вот, лестница…» «Что-то вы не слишком похожи на жителя Африки. Не раскован, не речист, не жестикулируете. Вы — замороженный сын северной расы» Какую бы царевну я выбрал. Ну и останусь навсегда в подводном царстве. Куда Садко смотрит? Не все то золото… В галерее от белых портьер веет прохладой, и так светло и хорошо. Пушок над верхней губой. Брак по-американски. Супружеские пары меняются партнерами. «Понимаете?» Оказывается, я не знаю таких простых вещей, я, который знает все. А еще писатель. Тут подвальчик облюбованный, полумрак, интимная атмосфера, и музыка играет. Апельсиновый. Через соломинку. Вечное отсутствие денег, семейные ссоры, разбитые коленные чашечки. «За мое долготерпение мне надо поставить памятник!» «Не зарастет… тропа… Главою непокорной…» «Сколько вы презентуете?». В пределах разумного. Розу не довезет. Донжуанский список. Май. Бремя блестящих волос. С Невского. Льдины в Мойке — последние, пластинчатые, вон они как обрюзгли, погружены в мутный сон. «Баррикада». «Надо вас расколдовать». Черемухи на окраинах. Пена простынь вздувается на веревках. Зеленобородые камни под мостом, в них запутались рыбки. Две девчонки едут на буферах между вагонов трамвая, на корточках, едва держась, вот-вот сорвутся под колеса. Смотрю с задней площадки, они — на меня, озорно улыбаясь, блестя яркими, как у птиц, глазами. Цветущий каштан у метро, тревога, ржавые рельсы, проливной. Переждем в парадной. Заодно обсудим наши дела. Июнь. Сидит, поматывая ногой, шутит: «Для всех я лакомый кусочек!» Только сейчас заметил, какие у нее мускулистые икры. «Вот ваш любимый букинистический магазин». Красные столики в галерее у Гостиного двора. Утолить жажду. Склоняюсь, чтобы услышать негромкие, как шелест, слова. «До Технологического… До Звездной…» Август. Кошмар. Будто бы ее раздирали лунные ведьмы, бледнолицые, туманно-телые, серебристо-волосые, с длинными пальцами, злорадно смеясь хрустальным смехом. Горестно смотрит. «На что истрачена жизнь? На чувства?» Ломбард. Старик в грязном плаще, едва ноги волочит. Робко сует трясущимися руками в окошко фотоаппарат «Зенит». Приемщица, грубо: «Такое мы не берем! И никто нигде в городе не возьмет!» Старик не сдается: «А не знаете ли, где можно продать? — говорит он просительно-умоляюще. — У меня безвыходное положение, поэтому я и беспокою вопросами». «Нет, понятия не имею, где можно продать эту рухлядь!» — огрызается приемщица. «Ну ладно!» — говорит старик, безнадежно махнув рукой, и уходит на дряхлых ногах, покорный. Сентябрь. Ночной ресторан «Адамант». Разбитые стекла, кошки, машины. Повара-привидения курят во дворе, громкие голоса. «Сейчас придет твой брат». «Не придет». Утро. Фургон автоматчиков с песнями. Игольчато-кровавый георгин. Герцог Альба. В Эрмитаже «Обнаженная маха». «Вам какие нравятся? Миниатюрные». Вид из окна, внутренний двор, там работает жестянщик в робе, блестят на столе полосы нержавеющего железа. Едет продавать книги. Куда-то на Старо-Петергофский. Растерян, смятенье. На балконе десятого этажа бьется, как флаг, розовое полотенце. Заблудился, не могу найти свою дверь, хожу с кучей шинелей в охапке, какие-то люди, механизмы, машины, опрокинул чайник. Ночь пишет золотым пером на черной воде. Два звонка. Захарьевская. Египтяне у входа скрестили руки. Варят смолу в бидоне на горящих досках. Клочкастый, черно-седой дым. На затопленном кладбище, со мной волк, я его кормил. Потом он пропал, я остался один и не знал, в какую сторону мне идти, как выбраться из этого гиблого места. В Юсуповском «Дон Жуан», в спину дует, белые спинки. Зеркало с букетом роз и бронзовой люстрой. Вышел из бани, шатаясь, как скелет. Ослабел. Еле добрел. Тихо, все спят. Пламя свечи. Нефеш — дыхание жизни. «Орфей» Фомина. Моросит. Галерная. Прощаются. Сдавленное рыданье. Болтался по букинистическим магазинам. Окна въехали в лужи. Луна — трамплин для черных лыж. Дженан, гордая, пленная птичка. Где бы достать аравийский яд? «Ну улыбнись же! — говорит. — Надо улыбаться, чтобы настроение было». Напекла оладий. Попросила отрезать голову рыбе. Горбуша. Города Шумера: Эреду, Ниппур, Урук, Лагаш, Киш, Угариш, Библ. Делает гимнастику по Нарбекову под магнитофонную запись. «Он испытывал властную потребность писать». Пришла румяная. Принесла чем окна заклеивать. Серое с меховым воротником мелькнуло за колонной у входа. Прижимаю к груди ее меха, ее шапку, вдыхая ее запах. Пошла приводить себя в порядок. Якоб Хагели. Сын уже ее перерос, ему тринадцать, сутулится, и это ей очень не нравится. Ее рост: метр шестьдесят. Дворцовая, солнце. Свернула волосы под шапку. Шарф с шарами на концах обмотала крест-накрест вокруг шеи. Стоим, пережидая поток машин, я — к ней лицом, спиной — к машинам. Держит мою сумку, а я застегиваюсь. Сад ноябрьский, замерзший. Ее восхищение Симоной де Бовуар, свободные отношения супругов. Ее женская жизнь, духи, она не мыслит свою жизнь без духов, это особая атмосфера, целый мир. Фирма Шеви пре, у них есть нота жасмина. Это у Гюисманса: рояль ароматов. Прощаемся. Замерзла, нос красный. С каждой новой зимой она все хуже переносит этот ужасный холод. Погладил ее по рукаву. «Созвонимся», — говорит. Идет по аллее. Удаляется. Вот — скрылась за деревьями, вот — опять видна, ее серое пальто и меховая шапка. Зимнее солнце, кучи замерзших, почернелых листьев. Чувствую себя таким несчастным. Это ее влечение к духам, усилившееся в последние года, порабощенность ими. Она говорит, что могла бы влюбиться по запаху. Подышать загородом. Река-зеркало, коньками резать. А во льду серебряные монеты. Фонарь в переулке, такой лучистый! Словно парча. Мышь скреблась. Стучал зонтиком. Будто бы иду по узенькой горной тропинке, а к спине привязан какой-то громоздкий груз, сноп, что ли. Поскользнулся и едва не свалился в пропасть. Колет за столом грецкие орехи. Солнце на снегу. У мусорной цистерны вороны и собаки, их распугивают скрюченные люди с мешками, он и она, ворошат палками. Моцарт спрашивал меня, глядя яркими глазами: «Почему ты не можешь так слушать музыку?» Обливаюсь ледяной водой. Она, сидя на постели, разглядывает свои голые ноги. Мучается, чувствует себя ущербной. Иду через двор, мне нужна военно-окружная медицинская комиссия, шум воды, Матюшин, космические зигзаги. Четвертый этаж, кожаная дверь с тугой пружиной. Реплика: «Из его книг кричат актуальные проблемы!» «Такой хорошенький, я вас сразу заметила», — говорит она, беря меня под руку. И мы идем с ней, болтая, по вечернему Невскому. Будто бы на лодке унесло бурным течением в море за длинную косу, там, в море за мной гонялась ужасная черная акула, я отмахивался веслом. Купил мешок картошки, гладкая, белая, из Гатчины. Резкое чувство: как будто свежий, пьянящий, весенний ветер дул в разбитое окно. Что-то бесценное и неповторимое гибнет. Делал гимнастику, по пояс голый, отражаясь в темном окне. Тело еще молодое. В метро девушка в длинном черном пальто, с заплечной сумочкой на лямках, гладкая прическа, пшенично-шелковые волосы блестят. На Невском, под аркой, оглянулась, крикнула кому-то, звала. Долгий разговор по телефону, больше часа вдыхал этот голос. Над «Старой книгой» сбрасывают глыбы льда. Тротуар огорожен красными тряпками. «Берегись!» — кричит баба в фуфайке. Бегу. На Большой Морской у дома номер семь поскользнулся. Отогревает замерзшие руки чашкой кофе. Рукописная. Уайт. Американец, так и есть. Магический реализм, видите ли. Дом сумасшедших в сумерках, тени ветвей на белой стене. Клочок снега в поле. Тлеют головни. Домик у болота. «Что если бы мы с вами так сидели?». Геракл залеплен снежками. Велено ждать, вот и стою тут в саду, прячась за стволами. Вижу: махнула рукой с горки. Опять поток машин. Не перейти. Забрызгали грязью из-под колес. Стираю платком пятнышки с ее прекрасного лица. Оно бесстрастно, как мрамор. Хлопья завертелись. Ох, вьюга! Ничего, ничего. В метро отряхнемся. Яркий перрон. Пропускаем поезд за поездом. У нее есть брат, занимается продажей антиквара. «Чтобы не было однообразия, для здоровья психики, надо в день знакомиться с семью новыми людьми». «Лесниченко! Сколько лет, сколько зим!.. А мы тут на Ленсовета, 66…» Метель с ума сошла! Желтки фонарей расплылись в переулке. Лотки занесены. Фигуры в вихрях. Стою, задрав голову. Темно в окнах на ее девятом этаже. Вот зажглось! Декабрь. В пять у фонтана. За спиной: «Это я!» Оборачиваюсь. У нее новая шапочка. Ей очень к лицу. Задушит поцелуями. Таких духов ей не дарили с сотворения мира. «Вы сумасшедший! — и повторила тише: — Сумасшедший!» Опять пытаемся перейти этот проклятый поток колес. Стоим посреди дороги, она схватила меня за руку, сжала мои пальцы. Недавно познакомилась с моряком из Крыма. О, за ней много волочится! Длинный хвост. Летчики, художники, циркачи, врачи. Особенно врачи пристают. В поликлинике нельзя появиться. Тут же увлекаются. Беда да и только! Поскользнулась. Сыро, озноб у нее на спине, и ноги замерзли. Читает «Жизнь женщины». Чему быть, того не миновать. Феминизм! Нет уж! Как устроено природой, так и должно крутиться.
«Почему вы так долго не звонили? Я о вас вспоминала…» Надел мое элегантное зеленое пальто с кушаком, кожаную польскую шапочку. Мутно, сыро. Институт «Растениеводства». Автобусная остановка. В Коми мороз. Минус 58! Бегу. За мной белый медведь. Та дверь. Нева седая. Шапка-боярышня. Простужена. Просидеть день в ледяном доме. Вольтер в кресле. «Что за мужчина, если нос картошкой или утиный!» Любит хищные, орлиные. Будет лечиться малиной, ноги греть. «Вот тот балкон!.. Выпью — увидите вы меня! Буду носиться, как бешеная!» Февраль. Звоню. Она температурит. Приеду с бутылкой и шубой — согревать. Ей пора к своим читателям в ледник. Ветер раскачивает снегиря на ветке, раздувая у него на груди алый пух. Надо что-то придумать. Так нельзя. Унесу ее куда-нибудь на скалистый остров, вихрем, как Черномор Людмилу. Она будет ходить в звериной шкуре и собирать себе плоды на пропитание, а еще меня проклинать на чем свет стоит. «Чего доброго, вы увлечете меня в грот, полный летучих мышей! — говорит она мне, смеясь. — Вам это скоро надоест, и вы станете мечтать о вашей покинутой пишущей машинке». В окне сереют сумерки этого февральского дня. Сорваться, что-то предпринять, изменить, совершить что-то немыслимое, какое-то безумие, добиться невозможного, лететь через весь город, кричать, стучать в эту ледяную дверь. Продолжаю сидеть. Тупо смотрю в окно: там тьма сгущается… Рига или Таллин. Арка, скульптуры, вазы, двор и ворота. Река, вечер. Массировал ей спину. Заплакала. Повезли настольную лампу на Садовую. Тротуар изрыт. Купили творогу. Она продрогла. Встретимся на остановке. Жизнь после смерти. Чернела рана. На грани таянья. Опять у «Растениеводства». Накрашена, шапочка. Рада гвоздикам. По Гривцова скользко, горбатый лед, в глазах черно. Вот и надо крепче держать ее за талию. Так ведь масленица! Там тепло, и людей мало. Читает «Манон Леско». Блины с грибами. Ее знакомую гадюка ужалила в ногу. Нет резиновой обуви. Маньяки на всех углах. Сузился круг. Шаляпин, Дарвин, Гаршин, Лесков. Нам в феврале не скучно. Швабра шурует у нас под лавкой. Они до семи. Закрываются. Нечего делать. Пошли, сударыня, вон. А там сырой снег во тьме повалил. Нам до Сенной. Ладони на поручне едут вниз. Едут вверх. Сумочку вырвали в проходном дворе. А что? Не трагедия? Ревнивый. Отелло. Увидит — обоих одной рукой придушит. Опять я затеряюсь в снегопаде. Буду кружить вокруг ее дома, вокруг ее девятого этажа, как вихрь, и взывать к ней, не давая ей спать всю ночь. Март. Завтра позвоню. Хочет приобрести участок, и я его возделаю. Будет жить со мной в шалаше. А то кто же мне кашу сварит? Читает «Тристана и Изольду». Ее дедушке девяносто лет, она бы с удовольствием к нему поехала, но где столько денег взять? Пишет письма, не забывает. «Если вы захотите, то позвоните в четверг, в половине второго, тогда и уточним». Помехи. Пропал голос. Светлый, голубой день, сосульки блестят. Там же. Рада ирису. Столик у окна. От двери дует. Любит орешки. В предыдущем рождении она была белкой. Комичная история: череп нашли у них в шкафу. Оригиналка ее сотрудница: то в троллейбусе подерется, то на кладбище на похоронах. Откровенничает с поперечным-встречным. О ее романах осведомлены все, вплоть до того, что делается у нее в постели, до интимных деталей. Чрезвычайно активна, бурнодеятельна, заставляет всех заниматься ее жизнью — от директора до уборщицы. К концу рабочего дня утомляет всех ужасно, все они, словно выжатые лимоны, она у них все силы, всю кровь высасывает, вампир какой-то! Вот готовый персонаж для моей повести, она с радостью мне дарит. На здоровье. Вокруг курят, галдеж, плешивые выпивохи. Она разгорелась от вина, глаза, лицо. Наши перчатки и шапки на подоконнике. Хоть отогреется у калорифера. «Гулять по парапету моста! Тоже мне — герой! — восклицает она раздраженно. — Бесцельно, бессмысленно. Над какой-то помойкой! Тупость и больше ничего!» Напрасно я пытаюсь оправдать возмутителя ее спокойствия. Она глядит на меня проницательно, в ее зрачках острые искорки: «Вы хотите стать героем? Хотите! По вашим глазам видно!» Ей весело. Она довольна. Уходим. Певец запел у нас за спиной, словно на прощанье: «Не повторяется такое никогда!» «Песня шестидесятых годов», — заметила она бесстрастно… «Ваш ирис завял на другой же день, и я его выбросила, — сообщает она мне через неделю. — А гвоздика стоит. Не знаю, что и думать. Героическое растение!» Пойдем покупать помаду. Хочет весной освежить себе губы. На Сенной капли летят. Без четверти пять! Опоздаю! Побежал. Надо на Гривцова, а я каким-то образом попал на Гражданскую улицу. Растяпа! В двух соснах! Спрашиваю у женщин: «Как мне попасть на Исаакиевскую площадь?» Показали: «Там Майорова, и направо». Пальто длинное, мешает, полы путаются. Вон — Николай на коне. Солнце, песок, куски льда. У мэрии митинг, знамена колышутся, громкоговоритель выкрикивает проклятия. Жидкая толпа… Идем к Невскому под блестящей завесой капель и струй. Читает Ирвинга Шоу, «Молодые львы». Она любит читать об этой войне, о Германии. Уже выбрала. Провела себе по запястью. Абрикосовый мазок. Не очень яркий, к весне, когда все делается ярче, пестрее. Положил пиджак рядом. Холодные у нее руки! Ледышки! Она опять потеряла кошелек, вытащили на рынке. Нельзя жить в одиночестве, одичаю. Вот у нее соседка — одна живет, с собачкой, только с собачкой и разговаривает, и вот — одичала, с ней страшно встречаться, не то, что ключи от квартиры у нее оставлять. Ее сын отказывается заходить за ключами к этой сумасшедшей. «Скоро вы будете совершать свои подвиги на огороде с лопатой в руках, — говорит она мне. — Долго я не увижу своего верного друга». В сумерках, через мостик, черно-маслянистая вода глядит огнями. «Я же предупреждала, что я — ведьма! Глаза-то зеленые, во тьме светятся, как у кошки. Ведьмовские!» На Черное море поедем. На чем? На велосипеде?
Ледяные брызги, весь март. У «Растениеводства». Ну и погодка! Снежная жижа. Не гулять же! Миндаль в шоколаде. На Плеханова. Хмарь эта, вечер, текучие тротуары. Долг платежом красен. Кабачок «Лезгинка». Надеремся до чертиков и спляшем на столе. Я — с кортиком в зубах, она — кружась вокруг меня. Музыка играет, кабачок уже битком набит. Она ходила ко врачу по своим делам. То ли негр, то ли араб. Очень приятно положил руку ей на голый живот. Такая черная лапа у нее на животе! Это же сразу чувствуется: что за мужчина! Она жила белкой в лесу, прыгала с сосны на сосну, охотник ее подстерег, выстрелил в глаз, чтоб шкурку не попортить, душа ее вылетела и переселилась в это женское тело, и теперь она сидит передо мной и грызет орешки. Трогательная история. «Духи — игрушки женщин, — говорит она. — Помните, у братьев Гримм: «Принцесса и свинопас». Продавала поцелуи за пустяки. Она плохо кончила. Сотрите. У вас на губах осталась моя помада». Над аркой, высоко — ржаво-крылатый Марс крылатой спиной. В два. Ровно. По вторникам рыцари поднимают забрала в тихом зале, приветствуя нас, как старых знакомых. Новая выставка. Абстрактный экспрессионизм. Привезли из-за океана. Черные камни в чистом поле. Это ей непонятно. Она уехала бы в Америку с каким-нибудь опытным, энергичным, деловым человеком. Она, не раздумывая, согласилась бы на предложение богатого человека, который мог бы ее обеспечить. Разумеется, чтобы это был хороший, порядочный человек. Сад не просох. Сыро. Поболтаюсь где-нибудь. Жую булку, Лермонтов, фонтан мертв. Булка с тмином, корка жесткая, не разжевать, челюсти устали. Воробушки тоже есть хотят. «Заждались? Опять пить вино?» Столик в дальнем углу. «Невозможно жить в таком безденежье, в такой нищете! — восклицает она. — Мое терпение лопнуло. Так вот и рушатся семьи!» И она горячо говорит, говорит. Накипело. А я слушаю, сочувственно слушаю ее, я во всем с ней соглашаюсь. Образ мужчины, какого она могла бы полюбить, состоит и из социального положения и профессии. Конечно, она не могла бы полюбить какого-нибудь сантехника или кочегара. Ее не устроит и грузчик. Что это за работа — грузчик! «Через месяц уже опять затоскуете по своей машинке и будете к ней красться из моей спальни посреди ночи. Я прозорлива, достаточно прозорлива, чтобы не делать такого неблагоразумного шага. Вы — фавн, любитель нимф, рожки и копытца, вот вы кто!» К ним в квартиру часто залетают птицы, даже говорящий попугай залетел. «Вы романтик, — говорит она. — Браки по расчету самые счастливые. Все эти безумства любви проходят». Апрель. Звоню. Оказывается, болеет. Тени безлиственных тополей на солнечной платформе. Жду поезда. Гитарист бренчит. Идет по вагону с кепкой в руке. Черный бархат обугленной насыпи, огонь ало бежит по склону вдогонку колесам, я жадно вдыхаю этот горький дым, летящий в раскрытую форточку. Парк просох. «Дик, Дик!» — зовет звонким голосом. Блестящий поясок, голая шея. Села на скамью, ласкает пса, треплет пальчиками шерстистый затылок. Это моя голова лежит у нее на коленях и мой затылок ощущает ласку ее пальцев, а по позвоночнику бежит горячая дрожь. Вот и ливень! Как из ведра с громом. Остроозонное мгновенье. Я человек пропащий. «Это, в конце концов, даже неприлично!» — восклицает она. Одичал, сырой ветер остудит. На каком-то темном дворе, и половинка луны над крышей светится. «Хорош гость! Хоть бы словечко выронил за весь вечер!» — продолжает она возмущаться и не перестает меня корить до Нарвских ворот. Звезда! У, зрачок рвет! Венера! Она, она! Ее жестокие стрелы… Поправилась. Ей нужна тушь, да не та. В Купчино видела. Темно-сизое, словно гроза готовится. Ее лицо и волосы на ветру. «Безделушки, но женщина без них не может», — оправдывается она. Ларьки кружатся. Кукурузное масло, батарейки, стиральный порошок. Мостик через Мойку, ржавые трубы, рев насоса. Двадцать восьмое. На этот раз она пришла первая. Сидит на скамейке, подставив лицо солнцу, закрыв глаза, в белом своем плаще. «Окоченела в этом леднике, вот — греюсь». Не найдем на Садовой, так куда-нибудь еще поедем. Игрушки, керамика, колокольчики, она их трогает, и колокольчики звенят. «Эрос». Там продается кукла ее роста. Как живая. Лучшего подарка мужчине и не придумать. В шкаф буду прятать. С собой возить в футляре. Хоть вокруг света. «Вот если бы вы несли меня на руках по Перинной линии и нас весь город видел! Не несете же!» Камешек попал ей в туфлю. Опираясь на меня, вытряхает. Розовая ступня в прозрачном чулке. Я как слепой. Под трамвай лезу. Не схвати она меня за руку, быть бы мне перерезанным. Покашливает. Простуду не выгнать. Ясноглазый жулик на улице предлагает нам путевку в Рим или видеокамеру. На выбор. Зеленый карандашик для век. Огрызок остался. И тогда она обеспечена косметикой на весь год. Плывем в витринах. «Вы приносите мне счастье, — говорит она. — Нет, без шуток. Я бы повсюду носила вас с собой, как амулет, в сумочке, если б можно было вас волшебным образом уменьшить. Жаль, жаль, что нельзя!» Светлый весенний день. Дверцы раскрываются. Ее «Звездная». Прощаемся у эскалатора. «Ну, копайте свой огород, — говорит она. — Весь май. Вернетесь — в музей сходим».
ЛОПАЮЩИЕСЯ ПУЗЫРЬКИ
Ехать? Не ехать?.. Июнь. Сирень. Не спится. Включил горячий душ. Легче. Баку, цезарки, гуси, пани Костенецкая, златовласая красавица, грабовые аллеи, кареты ночью, свечи в фонарях. Рука мертвой армянки свесилась с арбы, полной трупов. Колонна пленных русских солдат, москалей, на Варшавской дороге. Все это слышно, видно. Хожу босой. Ничего не изменится. Судьба написана на небесах. Крепко заварил. Кругом инфаркты. Так 52! Старый пес. Юбки бегут по предгрозовой улице. Хорошо спал. Матрас с душистым сеном. Яблони цветут. Панна у фонтана. Мглисто. Немые деревья. Крик отчаянья: «Чарусь, вернись!» Сны, острота горного пика, светлый корень. Где я о нем слышал? Старая сосна выросла из тумана, опоясанная облаком. Непонятный всадник, траур по душе моей. Птичка в тумане твердит и твердит свой грустный припевчик из двух простых нот. Розовые зигзаги в реке. День на огороде. Досадили салат и перец. Тучу принесло, недолгую, с дождем и громом. Трава вдруг запахла. Проводил на станцию. Уехала. Один на платформе. Смотрю вслед убегающему в елях поезду. Понедельник. Выспался. Пью чай в саду среди одуванчиков, голый по пояс, в красных штанах. Жук в квадратных, радужносиних латах. Ланселот. Аве Мария. Башкирцева. В сердце врезалось. Вчера кукушка в тумане за рекой. Зачем? Кончено. Тот май, та ограда Таврического сада. Роскошный баритон. Щедрый, размашистый, рокочет, соловей во хмелю. Луи Амстронг. Ее кумир. Не помялась бы соломенная шляпка в чемодане. У нас возраст заката. Едем к морю, там волна всплеснет, молодое лицо, зеленые, смеющиеся глаза наяды. Утро. Гроздь сирени у сарая шевелится в лиловых тенях, жадно дышит, раскрыв миллион четырехгубых душистых ртов. Я влюблен в эту гроздь, свободен, меня никто не видит. Вечер. Стою у крыльца, читая книгу о Делакруа. Солнце садится, брызгая красными лучами сквозь пальцы клена. Гулял. Нашел ландыши. Детский сад. Золотой склон одуванчиков. Мое детство пробежало у этого старого, одетого ряской, пруда, у этого дуба-великана. Столб, провода поют, фарфоровые изоляторы, как луна. Проснусь: опять понедельник. Вот ведь напасть какая! На стене из неоструганных досок хрупко-прозрачно дрожит солнечный треугольник. Первая мысль: «Вдруг жара обманет?» Дверь настежь: о нет! Не обманула. Звон пчел. К каждому цветку прильнула пчелка, пьет жадно, пьет — не напьется. Огромная зеленая муха, гудя, летает в солнечной комнате, от окна к столу, кружится над моей головой, мешает писать. Муха умная. Зажигательное стекло собрало лучи в точку, жжет мне грудь. Дух огня. В электричке. Удар молнии. Отказываюсь от встреч. Дрожит маревом над насыпью, у шпал, в золоте лютиков, Алжир, Танжер, дуновение чумы, белки араба. Купаюсь посреди столбов; трехгорное облако, свист железнодорожный, рельсы кудрявятся. Делакруа с голубым колокольчиком на сто пятой странице. Лампочка погасла. Сплю, скрестив на груди руки, чувствуя мрак за окном. Пишу на комках земли, а они рассыпаются. Много, много их — комков в поле. Распаханная до горизонта книга. Я в синей рубашке с коротким рукавом, загорелая грудь, молодой, красивый, мной увлекаются. Полный локоть, зевая, смотрит в окно вагона, истомленная жарой, шея, ложбинка. Поезд тормозит. Белка перебежала дорогу. Полинялый зверек. Куст разросся, весь в тени, а над ним солнце. Наломал бы букет, да заметят теннисные ракетки. Стою тут. Вечер. Галчонок убегал от меня, летать не мог, прыгал по дороге. Надо мной, негодуя, кружились галки. Какой-то странный седой старик, в белом, с сумкой, метался то в лес, то из леса. Услышав свист электрички, побежал к вокзалу, остановился, повернул не в ту улицу, потом обратно. Вот чокнутый. Позвонил: у нее плохо, синяки, смотрит «Новости». Я приеду только в пятницу, привезу ей мазь. А голос у нее такой жалобный, грустный: «Ну, ладно. Пока». Клен удивляет. Эта ребристость листьев. Как он шевелится. Птичий хор. Тысяча звонких флейт и дудок. Стою на дорожке, лицом к солнцу, закрыв глаза, купаюсь в лучах. Над лужайкой гул. Шмель серьгой повис, вцепясь в розовое ухо. Гнет к земле цветочную голову. У клевера бочки меда. Иду купаться. Насыпь. Холм дрожит и мерцает. Пью чай у веранды. Фарфоровый чайничек, воробьиный пух. Прополол морковь. Пражский еврей, Старые грады, Градчаны, Олений ров, император Рудольф II, покровитель алхимиков, маг, еврейский квартал, красавица-еврейка Эстер, любовь во сне, куст розмарина под каменным мостом, Кеплер, его нищета, его больная жена, кузнецы, цыгане, солдаты, лягушки, небесные пути, золотые гульдены. Морская рыба, именуемая учеными «ураноскоп», у которой всего один глаз, но она постоянно смотрит им на небо. На велосипеде до разлива. Свидание с сосной. Статная, тысячерукая, стройная, как колонна. Обнял крепко. Стоим, не шевелясь. Подняла веко. Из-под коры золотой глаз горит. Тихий, закатный. Два рыбака удят в тростнике. Прощай, милая! Мне пора. Сажусь в седло. Утро. Розовые ножки дикого винограда взбираются по кирпичной стене. Назойливость мух, лето красное, любил бы я тебя. Блестящие, атакующие обручи слепней. Сижу в траве с чашкой чая. Наперстки лютиков. Плешивый одуванчик горд остатком дымчатоседых кудрей на темени. Жук-разведчик ползет по зеленым коленцам, балансируя чуткими усами. Ветер налетел, взъерошил книге бумажные волосы. Стена сарая в горячих пятнах, просыхают прислоненные к ней сырые доски, струится пар. Гроза соберется или так и прокопается там, в тряпках туч, копуша? Купаюсь. Бородатые камни в водопаде, рыбки выпрыгивают, блеснув серебром. У воды спина гладкая, водоросль елочкой между лопаток. Столбы встают со дна, как идолы. Ныряю в голубые колокола лучей, они качаются, и я с ними, и звон идет пузырьками по всему озеру, от берега до берега. Влажно. Жасмин. Молнии. Полные ведра. Желтый домик в переулке. Прошла девушка с душной помадой. Картошку окучиваю. Тополь бормочет. Приятный человек. Враг слов. Голова захлебнулась в седине. Я потихоньку ухожу в землю, по щиколотку, по колено, по пояс, по шею… Спал. Комар в комнате. Не тронул меня, пожалел: и так душа в теле на ниточке держится. Сосед доски на станке стругает. Кудрявые стружки. Пацюк. Без двух пальцев на правой руке. Станок старый, бензином подкрепляется. Стонет. Иду с мокрыми плавками на голове, чтоб не напекло. Тюльпаны, Тиэко. Долго я еще буду дрожать от этого имени? Иногда все прежнее вдруг возвращается, и хоть плачь. Я тут стоял весной, прислонясь спиной к стволу осины. Это было в мае. Также шумел лес, дул теплый ветер с поля, раскачивая свежие макушки деревьев, пригибая траву на склоне, и за стволами внизу виднелась светлая пашня. Это было давно, та весна, тот май, очень, очень давно, я тогда еще был молод, сознание было: что молод. Свежая рука ольхи колышется у моего лица, щекочет подбородок. Лист в жилках, пронизан солнцем, зубцы бегут в тень, а посередине дырка, гусеница, ее работа. Колокольчики, белая пена цветущего дудочника. К чему эти записи, наобум, на клочках?.. Два дня: вторник и среда. Громыхнуло. Дождик робкий. Тихий. Я стоял на платформе, снял рубашку, дождик так приятно освежал тело, безумная жара, духота. Дождь расхрабрился, ударил сильней. Ах, хорошо! И пока в поезде ехал, гроза разбушевалась нешуточно: ливень стеной, разрисованной узорами молний. Машинист боялся молний, тормозил, и поезд целую вечность тащился до Сиверской. В Питере не легче. Из метро носа не высунуть. Толпа сгрудилась у ступеней, сверху плеск и несет дождевой сыростью, грохот небесный, ослепительные, гигантские змеи, столбы ливня. Раскрыв зонт, побежал по мокрым ступеням наверх. Заскочил в магазинчик, что-нибудь молочное. Гроза еще пуще: град, потоп, девушки бегут, полуголые, под бурей. Наконец, стихло. Отгрохотало, отсверкало, отхлестало. Девушки шли по мокрому асфальту, держа туфельки в руках. Густо пахло отсырелыми тополями.
Зарубки Робинзона. Ярое Око в Новгороде. Площадь, искал, расспрашивал, стучал не в ту дверь. Монастырь у Ильмень-озера. Она рассказывала. Артель художников, реставрируют. Живут, не тужат. Весь день, лежа на топчанах, ножички мечут в деревянную дверь. Вошла в сени, слышит: бум, бум, бум. Что такое? Открывает дверь: о боже! Вся в ножах, как еж. И у виска просвистел вот такой рыцарский кинжал! Бородатые, грязные, гогочут. Меченосцы. «Представляете?» Сей храм, а войдешь — срам. Порванные струны. Купался. Сочный тростник у насыпи. Шла по шпалам, молодая, в купальнике, нос обгорел, с ней две девочки, две дочки. Внимательно поглядела мне в глаза, потом на мой голый, черный живот. Небо затянуто. Недавно шел дождь. Мокрая сирень. Делаю гимнастику во дворе, сгибаю спину, приседаю, кручу руками и головой. Ветер подул, расчищая день. Тяжелые фургоны туч ползут нехотя многогорбой колонной. Выглянуло, соня! Заблестел, как звезда, краешек фарфорового изолятора на рогах электростолба. В городе горячей воды нет. Вот и помылся. А что в мире? Греция, как видно. Озеро в лилиях. Сверкающая змея скользит в изумрудно-прозрачной воде, подняв изящную, умную голову. Это око не моргнет. Это сам Фалес. Звонок в дверь. Вернулась с Северного кладбища, от бабушки. Желтая юбка, кофточка, посветлевшая, удовлетворенная исполненным, наконец, долгом. Могилку с трудом нашла, траву повыдергала, ивы нависли, надо обрубать. «А ты почему такой вялый, хмурый?» — спрашивает. Поели творога. Потом на Витебский. Разве это квас! Едем, вагон пустой, мчатся под веками розовые острова иван-чая, Эфес, 145 фрагментов. А подлинных?.. Война — царь мира. Войдем юнцами, а выйдем старцами. Вырица. Прояснилось. Стояли на берегу. Вчера вернулась. Была у врача. Облучать бровь. В сентябре. До сентября она изведется. Страшно. Лежали в постели, она такая горячая. Давала читать кусочки из своего дневника, из «бывшей любви». Глубокие, как раковина, розовые закаты. Помню ли я ее прелесть двадцать лет назад? Загадочная, в летней темноте нашей комнаты. Молчу, молчу. Нет заговорного слова. В Стрельну. Кронштадт как на блюдечке. Под мостом лучи играют. Мальчишки плещутся. Кувшинкам в каналах жарко, у них желтые платья, дворец разрушается, лопухи-великаны, знойные лестницы. Художница с ящиком красок спит у стожка. Липы цветут медоносно. Нагретый камень парапета. Шершавый, камешки. Ладонь впитывает тепло, не хочет с ним расставаться. Безлюдно, кирпич обнажился, разбитые стекла, заросли сорной травы, тишина, одичанье, и там залив туманно синеет. Уже шестой час! Лаваш у трамвайной остановки. Поджаристая корочка. Пришла усталая, заморенная. Смотрит «Графиню де Монсоро». Голова разболелась. Нет отрады в раскрытых окнах. Душно. Через час заглянул к ней: уже спит. Грустно стало. Утро мглистое. Парит. Слышал сквозь сон: уходя, стукнула дверью. Половина восьмого. Пью чай. Телефонный звонок. Не меня. На платформе. Жду поезда. Молодая, яркая. Кормит голубей семечками из кулька. Черное платье с разрезом, голые по плечо руки. Голубь, трепеща, сел на ее вытянутую ладонь. Порывы горячего ветра. Купался. Шел по насыпи и опять встретил ту, с двумя девочками. Посмотрела еще внимательней. Оглянулся. И она… Читаю о Паганини. После купанья, как пьяный. Что со мной в этом году? Дождик. Рубил топором угол дома. Грибной суп. Салат из зелени. Огурец с грядки. Первый! Картошку молодую пожарил. Пошел купаться. Жасмин в переулке еще не отцвел. Прохладцей веет. Камни сверкают в водопаде. Косматые черти. Нырял, резвился, плавал на спине. Радуюсь воде, как рыба. Жабры прорезались. Заплыл далеко, ясность, в глубине белые елочки. Две девочки, тоненькие, забавлялись, ныряя со столбов. Взбирались поочередно на все торчащие из воды столбы. Смеясь, визжа. И прыгали с них, опустив голову и вытянув руки, сверкнув в воздухе бронзовыми ногами. Прелесть девочки, точеные, юные. А мне вода — наяда, я с ней обнимаюсь, кристальные объятия, с холодком. Вечером читаю книгу о Паганини. Демонический скрипач. Чудовищный итальянец. Сестра принесла молоко. Она говорит: главное для нее спокойствие. Спит с открытым окном. Будет только рада, если какой-нибудь бродяга залезет. Сидят в саду на скамейке — сестра и мать. У Паганини — туберкулез и сифилис. Лечился опиумом и ртутью. Кожа да кости, скелет со скрипкой. Триумфы музыкального дьявола. Ошеломляюще. Проснулся от голосов и звона ведер. Это за окном, за дорогой. Еще б часок. Курчавый гигант в небе. Купался, замерз, в мурашках. Иду босыми ступнями по горячему песку, камешки покалывают. Карл Великий. Звездная мантия. Гогенштауфен. Палермо, апельсиновые рощи. Петух поет. Конфеты «Бим-Бом». Кругленькие. Вступаю в воду с замиранием сердца. Стопка шатких камней. Ногой нащупываю опору. Ожидание водного холодка, миг погружения, уже плыву. Не спал до рассвета. Голоса на улице, вой пса. Ржавое. Сон и ветер. Ничего, ничего. Прошло. Вот и дышать можно. Без бровей, а рот прекрасен. Пиво в кармане пальто. Жара в тени. Малину ел. Повесил у матери в спальне красивую деревянную люстру. Тут в поселке есть такой чудо-мастер. Купался с Н. Она читает «Анну Каренину». Вся в синяках, очень подвижная, живая, порывистая, на все натыкается, бьется. На руках волосы, гуще, чем у меня, это ее смущает, хочет сбрить. Я уговаривал не делать этого. Шел обратно по насыпи, волны жара приятно обвевали тело. Дома лежал голый на диване. Усыпительно тикали часы. Подводное марево. Морда черной рыбы. Дождь брызжет в раскрытое окно электрички. Молнии, мрак. Тополя, зонты. Путь вверх. Впереди меня на дороге ноги девушки, полные, бронзовые. Темно-красная юбка. И нет их. А так хорошо было за ними идти. Кошмары. Мотоцикл, тарахтя, метался по улице всю ночь. Встал поздно. Бочки полные. Кузов грузовика сквозь сад синеет. Лежу. Больной. Солнце рисует на полу золотую раму. Гераклит. Сухой блеск. Психея испаряется. Огонь всех рассудит. Потемнело. Паук ползет на мою тетрадь. Старый приятель. Машина у обочины. Облака плывут на розовом капоте. На лодке. Ветер, грести трудно, искупаюсь на том берегу. Прыгну с обрыва. Прыгнул. Тучи брызг! Чудесно. Лежу в лодке, жуя хлеб. Река горит. Рыжие рельсы. Ураганный ветер. По дороге прогремела телега с бурой лошадкой, цыган в фуражке свесил с борта беззаботные сапоги. Белье на веревке рукоплещет. Старуха с забинтованной рукой сидит у колодца, читая в очках газету. Молоко привезли, совхоз «Орловский». Визжат пьяные женские голоса. Велосипед брызнул спицами между берез. Проснулся от холода. Одеяло сползло. Помыл пол. Пересаживал кусты. Таз синий. Топор оскалился. Сосед в махровом халате, подпоясан кушаком, в феске, как турок, зовет в баню. Три веника на выбор: березовый, дубовый, еловый. Пошел к реке. Черная бабочка раздвигает гигантские крылья. Утром глажу траву рукой, у нее волосы в росе, хоть выжимай. Гулял по дороге. На столбах записки: «Куплю дом», «Молоко козье, будить в любое время суток, со своими банками». Закат, поезд. Мальчики балуются на рельсах. Хлеб заплесневел. Срежу, поджарю на сковородке. Прошелестел велосипед, как по ландышам. Жгу щепки. Пошел к станции. Купил буханку. Горячая, душистая, чудная буханочка! Шел через лес и все нюхал, нюхал. Ах, блаженство! На дороге встретились две женщины, несут на рынок корзины, завязанные чистыми косынками. Сплю, как младенец. Тыквы зреют. Детская ванна, эмалированная, под водостоком. Паук-утопленник. А вчера на оконном стекле топталось странное насекомое, комар, не комар, из породы титанов, ноги в десять раз длиннее тела, тоненькие, бесполезные, только путаются, мешают, ходить ими невозможно. Зачем ему такие? Поздний ужин. Жарю на сале молодую картошечку. Лампа в ореоле мух и ос. Святая Екатерина. Ночью воров ловили. Стрельба, крики. Стоял над обрывом у реки. Лодка за ноздрю привязана цепью к торчащему из воды железному колу. Вода вздрагивает, пузырьки, морщинки. Стог плывет, гребя тихими веслами. Режу салат. Молния заглянула в притихшую комнату. «Гроза!» — крикнул кто-то. Метнулась белая шаль. Ливень за стеклами, топот. Молния разорвала на себе рубаху от рукава до рукава, бешеная, на дне моих глаз! Дождь и крыша болтали всю ночь. Муха спит на подоконнике, уткнувшись головой в угол рамы. Поезд прошел, шлепки по шпалам. Надела желтую юбку. За сметаной. В сентябре посадим китайскую яблоню. Банный день. Мыло ест глаза. Вышел: радуга! Горит семицветный пояс над миром! Спички, стул. Потом вспомню. Жалобное ржанье на рассвете. Цыганский конь. Стреножен. Вздрагивает боками. Мутно, в испарине, товарный, с гравием, опять за свое: кап-кап. Ищет наощупь своими замерзшими пальцами, шарит в саду. Спускается с лестницы. Вид у нее! Мой армейский полушубок поверх ночной рубашки и соломенная шляпа набекрень. Волейбольный мяч взлетает за насыпью, голоса незримых игроков. Цыганенок бегает по дороге, держа за ниточку бумажного змея в небе. Провожал на станцию. Шершавый ковер еловых шишек. Поезд зашумел, настигая. Прощаемся. Клюнула в щеку. Остаюсь бороться с огородным клещом. Заросшая канава, мост из седых бревен. Костер-краснобай, трещит алым языком в темноте у заколоченного дома. Дети визжат и прыгают вокруг огня. Пьяная, пузатая, посреди улицы спрашивает кого-то под елью: «Это наш?» «Непохоже», — слышу ответ. Когда подхожу близко, пузатая вежливо говорит: «Здравствуйте!» — и похотливо улыбается. Свежескошенный холм едет, сверху две цыганские головы, вилы, вожжи. Велосипедистки виляют рулями среди сосен. Паук на окне ткет кружева. Туманно. Щебенка на дороге нежно-желтая после дождя, как птенчик. Разлив. Утопленная лодка. Лес на плечах тумана. Два пня на берегу — наши стулья. Мокрые. Рыбак в майке принес резиновую лодку. «Любуемся?» — говорит. — Значит, ты не местный». Лежа жду: когда зашумит поезд. Шум этот словно рождается у меня в ухе, глубоко-глубоко, и растет-растет, переходя в грозный грохот. Страшно лежать одному в доме. Гитара гуляет на дороге. Трогает сердце. Слышу разговор: «Это деловые так поздно стучат. Раньше никак: к потолку пузом валялись, считали мух». Вопль в лопухах, шипенье. За черной кошечкой ходит серый, как сатана, лютоглазый кот. Обшарил карманы: пять копеек. Тащиться в город.
В городе дождь, апельсины, бляха грузчика, мельтешенье, гудки машин. Отвык, одичал. Говорить разучился. Голосовые связки развязались. Сумка тяжеленька: огурцы, кабачки. «Ты почему не держишь своего слова? — встречает она меня у порога. — Где твои обещания? Ты когда должен был приехать?» Она в халате, у нее новая стрижка. Пуаро, котелок, усики. Поставил сумку на стул. Опять дождь собирается. Поздний вечер, а я как-то и не заметил, пока шел. Стою, как слепой, посреди комнаты.
Убежал из города. Мылся в бане при огарке свечи в майонезной банке. Мошкара. Шляпное ателье. Обрыв. Ветер. Веранда сотрясается. Сплю под двумя одеялами да еще и полушубок сверху. По доскам стучат копытца. Яблочко зреет. Свист поездов. Приехала врасплох. Все с себя сбросила. Танцевала, голая, дурила, пела, расшалилась. А потом рыдала, горько, безутешно, упав в подушку. Самосвал гудит у ворот. Пошел в лес и заблудился. Вышел к кладбищу. Поезда ржавеют. Штанина украшена колючками репейника. Колол дрова. Сосед с рыбалки. Мокрую сеть чинит на корточках. Жабры в ведерке плещутся. Кудрявое весло во все небо. Отварил сыроежек. Белки. Цыганский конь бежит по дороге, ржет жалобно. Цыган у столба, ширинку расстегивает. Электричество пропало. Думал: медведи ревут, а это самолеты летать учатся. Готовятся к войне. У станции поставили мусорный бак. Чтоб лес не засоряли. Тащу тележку, полную всякой всячины. Чемодан с мокрицами, гимнастерку. Лежа, достал часы со стола, приложил к уху. Стук дождя по железной крыше заглушает тиканье. Спится, как мертвецу. Кричал лишнее. Ночь шаталась. Проснулся, тишина, как вата. А ноготь-то посинел. Пью чай, прячась за рамой. Пузырьки кружатся, как ожерелье, как хоровод, как танец сцепленных рук. Собрал яблоки. Мышь ночью шуршит под шкафом. Встану, включу свет. Тихо. Ни гу-гу — плутовка. Погашу свет, лягу — опять за свое. Поставил мышеловку с кусочком сала. Слушаю: хруп-хруп. Не дура в капкан лезть. В лесу скучно. Мотоцикл на просеке, грязный по уши. Тонкая, как тростник, рука, размахивая платком, певуче кричит через реку на тот берег, лодку зовет — переправиться. Туман. Варил грибы до часу ночи в двух кастрюлях. Бульон слил в банку, попил, пока горячий. Сытность ударила в голову. Голоса в саду. Опять бродил в лесу дотемна. Моховики повыскакивали. Брюхатая лошадь перегородила дорогу зловещей цепью. Что я, в самом деле! Стул красуется посреди комнаты: надел элегантный зеленый костюм и глядит не наглядится на себя в зеркальной дверце раскрытого шкафа. Как влитой, в плечах не жмет. Знакомый костюмчик. Спрашивает: вспоминал ли я ее за эти дни? Часто ли? Сидит на постели, полураздетая, чужая. Прячет лицо. Закипает чайник. Комната озарена, подозрительный блеск на мебели. Ночью пламя плясало. Пьяный пел на дороге. Четыре дружка за столом, бутылка, болтали. Не сплю, дождь. Это его темные пальцы стучат надо мной. Стукнет два раза. Пауза. И третий удар — громче, со значением. Ждет — отзвучит сигнал. Опять сначала… Цыган привел лошадь, привязывает цепью к березе. Луна? Лосось стоит на хвосте? Туман, хоть под поезд. Шум и лязг ремонтного локомотива. Бурно дышит на рельсах у самого дома. Гудки, голоса, звенит железо. Прожектор прорезал седую толщу тумана. Не могу согреться под одеялами и всей одеждой, какую нашел в шкафу. Слушаю этот лязг и рык ночных работ, гуденье двигателя. Дрожу вместе с этим двигателем от ледяного холода. Топлю печь. Открыл дверцу — о! Огненные горы рушатся! У станции купил подсолнечное масло «Кубань». Продавщица обсчиталась на десятку. Дала с сотни сдачу. «Вам восемьдесят пять. Правильно?» — и достает из-под фартука пачку истрепанных, замусоленных бумажек. Солнечный супрематизм рамы на фанерной стене. То вспыхнет, бодрый, яркий, то — затуманивается, омрачается, дрожит, гаснет, бледный, хрупкий. Собрал овощи, повезу в город.
Парикмахерша в бане, халат расстегнут, грудь вываливается. Стригла, туго запеленав в кресле, как воскресшего Лазаря, болтая с подругой о любовных делах. Та лежала на лавке, задрав ногу в резиновом тапочке. Радио хрипло-блатным голосом надрывалось, пело горестно: «Годы! Годы!» Вернулся к прошлому. Перекладывал тетради. Стук с улицы. Удары мяча о деревянный щит. Будто бы переодеваюсь в служебной раздевалке. Потолка нет. Осеннее небо. Рядом железная дорога. Приближается поезд. Мне никак не снять с себя рубашку. Прилипла. Из сумки рассыпалось пшено. Женская раздевалка тут же, за невысокой перегородкой, разговаривают, слышу ее голос, она что-то говорит этим своим певучим голосом. А я удивился: вот ведь, ее голос теперь меня совсем и не волнует. В октябре каждый пятый человек хандрит. Розовая куртка идет, щурясь. Почему-то не ушла, ее ботинки в прихожей на коврике. Ей надо в налоговую инспекцию. Просит достать со шкафа картонку с ее шляпкой. Галерная, дождь хлещет. Переулок Леснова. Клуб «Маяк». Арии из русских опер. «Что сердце бедное трепещет? Какой я грустию томим?» Возвращались. Черным-черно. Круги в лужах. «Что ты ходишь какими-то кружевами?» — говорит она. Едем, месяц слева. Сажали кустики малины. Снег посыпался. Не спится. Пробовал читать: буквы скачут. Небо печально. Пляшущая обезьянка. Теплоходик до Лахты. Тут Лиза утонула. Эрмитаж твой бесплатный. Вороны преследуют белку, пикируя со всех сторон, черная стая. Белочка спасается, держа кусок сыра в зубах, перепрыгивает с ветки на ветку, с сосны на сосну. Поликлиника, фикус в кадке, фотообои — горный водопад. Очередь по номеркам. Облучать. Дневник Марины Мнишек. Москва орет: блядь польская! В Кракове шляхта танцует полонез. Паны и панны. Понедельник. Лай на лестнице. Бегал с кинжалом по ночной улице. Без шапки, с голой шеей. Никто не попался. К счастью, или к несчастью. Малая Конюшенная. Сидят в красных креслах под навесом, ветер треплет края тента. Осьминог, черепаха, бесснежность, ноябрь, пыльные вихри. Леониды. Ливень звезд. Синяя заря зовет уйти из дома, туда, за шоссе, где начинается пустыня. Бредовые фразы бормочущих во сне берез с запятыми ворон на сучьях. Каменный гость поднимается по лестнице, ступени стонут. Достал из шкафа пожелтелый череп, рыдая, целовал пустые глазницы. Экран, тоска, танец афганской сабли. Ходил в баню. А обратно через парк брести, выбившись из сил, собаки с лаем набрасываются. Опять Распутин, паутина дворцовых интриг. Моцарт, анданте из двадцать третьего фортепианного концерта. Пошли гулять. Снежок, вечер. На дороге черный десант ворон. Сколько их! Куда их гонят! Несметные полчища. Хлопанье крыльев, карканье. «Кыш! Кыш!» — кричит она. Машет рукой, ногой топает. Взвилась туча, очищая нам дорогу. Спрашивает: вижу ли я в ней человека? Картошка в кастрюле варится, невозмутимая, как стоик. Атараксия. Встретить бы женщину с таким именем. Метель в смятеньи, пальцы бурно бегут по клавишам окон. Глухой переулок. Бетховен, «Героическая». Возьми себя в руки. Рождество. Ночь ясная. Ангел летит алебастровый. «Лежит королевна в своей комнате; в двенадцать часов и летит к ней змей». «Пение Алконоста настолько прекрасно, что услышавший его забывает обо всем на свете». «Иван-царевич смело взялся за чашу вина, выпил на один дух. Опять пошли разгуляться, дошли до камня в тысячу пудов. Старик говорит Ивану-царевичу: «Ну-ка, переметни этот камень!» Иван-царевич тотчас схватил камень и бросил, и думает себе: «Эка сила хочет во мне быть!» «Он проснулся, соскочил, схватился со змием биться-барахтаться». «Добрые молодцы по неволе не ездят». «А как выпил третье ведро — взял свою прежнюю силу, тряхнул цепями и сразу все двенадцать порвал». «А Иван-царевич горько-горько заплакал, снарядился и пошел в путь-дорогу: «Что ни будет, а разыщу Марью Моревну! Шел, шел и видит — лежит в поле рать-сила побитая… Иван-царевич вздрогнул, встал и говорит: «Ах, как я долго спал!» Оттепель, темно, сон вещий, сбудется на днях. Усадьба Шереметьева, дети рисуют в лимонных окнах. Бабьи дни. Сок барвинка. Согласно поверью, кто из новобрачных раньше заснет в брачную ночь, тот первым и умрет. Нельзя спать в полдень и при заходе солнца. Заснешь навеки. Смесь мизантропии, обостренной чувствительности и восторженности. Гусар, Чуевский. Гори, гори, моя звезда. Лежит, плачет. Из глаз горячие ручьи текут в уши. Плачь, сердце, плачь… Сила беззвучия. Молодой месяц — хватайся за монету! На перекрестке дорог разорвем пояс. Свадьба снилась, слышал ночью свадебную музыку. Возврат к действительности, горькое падение покрывала. Ужас! Встал, вижу: январь, восемнадатое. Древний сад будд в Усуки. Зал тысячеруких Каннон. Одиннадцатиголовая Каннон. Голова стоящей Яку си. Лицо бодхисатвы Майтреи. Зал феникса. Лицо Амида. Девять статуй Амида. Нева, метель. На голодный желудок. Захмелел. Шел, шатаясь, сквозь бурю, как Ларошфуко. Паскаль, тростник колеблемый. И падает, падает этот пушистый новый снег и скрипит под ногами, и все вокруг ново… У нее температура под сорок. Вызвал Скорую помощь. Врач гренадерского роста, халат по колено, лысиной задел люстру. Гулял. Обнимал березу и пел в сумерках. У нее доктор. Красивая женщина. Какое это чудо — красивая женщина! Сразу и жить хочется, радость в сердце. Провожал в прихожей. Подавал ей черное, тонкое ее пальто. Смотрел на черную ее сумку с блестящей металлической окантовкой. Голос у нее такой молодой, звонкий. Как когда-то, где-то. «Серебряный шар», о Горьком. В окружении красивых, блестящих, великолепных женщин. Андреева, актриса. И та, английская шпионка, Скрижевская. Старуха, снег. Огненные глаза машин мелькают в переулке. Запредельно жесткая коррекция. Чья бы мычала. Опять оттепель. Плакали мои лыжи. Провансальский писатель. И ты, Брут! А что такое мысль? Диалог двух глухих. Из Алжира. Кагор, как кровь. Вот и вечер. Лимон мороженый. Плеск талой воды из трубы под откосом. Чайковского, 42. Ей на УЗИ. Сижу в кожаном кресле, жду, когда она выйдет из кабинета. Вынесла снимок, еще мокрый. У нее на щитовидной железе нашли какие-то два узелка. Ничего страшного, рассосется. Метро лучше. Тут «Чернышевская». Купили ватрушку. Большой Конюшенный мост, решетка с позолотой, фонарь. Денек промозглый. Переулок Мошкова. Кабачок «Тысяча и одна ночь». Вон Нева! На ветру ватрушку жуем. В Эрмитаже что-то новенькое. Австралийские аборигены. «Видения мира». На стволах эвкалиптов рисунки. Дух первотворца. Радужный змей. Тушат свет в залах, просят к выходу. У нее сапоги жмут, идти не может. Сидим на красном диване. «Проклятые сапоги! — восклицает она. — Босиком пойду!» Она помнит: в ее юности три четверти города еще были в брусчатке.
Утро. Рожки марта. Рассыпалась колода эротических карт. Едем. «Смотри: серпик!» — «Где?» — «Да вон, в окне бежит!» В Озерки. От Звездной на маршрутке. Проспект Сантьяго де Куба. День ясный. Морозно. Тут поликлиника такая. Грибок на ногах лечат. Теперь мы с легким сердцем на Невский махнем. По пирожку с маком да стакан чая. Много ли нам надо. Древние иранские украшения. Ну, вот это окно, о котором ты бредил. Внутренний двор Эрмитажа, снег, мраморная нимфа повернулась к нам спиной. «Видишь, какая вислозадая!» говорит она печально. «Вот и я такой стала. Много мучного ем. Пора худеть. Пора, пора… Тут где-то «Голова Бетховена». Бурделя. Я могу еще завести себе молодую любовницу. А с ней мы останемся друзьями. «Тебя трудно повстречать, но мне удалось тебя встретить, тебя трудно услыхать, но мне удалось тебя услышать». Вечереет. Воздух сливовый. О балете. Ульяна Лопаткина. Звезды на небе, звезды на море. «Волосыны да Кола в зорю вошли, а Лось главою стоит на восток». Афанасий Никитин принес из Индии эту алмазную фразу с созвездьями. Не зря за три моря ходил. Не зря, не зря. Обнимал ее во сне, ощущая волосы у нее под мышками, она о чем-то говорила, оживленно и доверительно. Ее грудное контральто, прекрасное загорелое лицо. Странно. Грустно. Еду, день за стеклом. Невский в каплях. Думская башня спрашивает: который час? Мокрая метель отхлестала хлопьями дома, асфальт, весь город. Завеса раздвигается, открывая такое яркое, такое голубое мартовское небо. Четвертый этаж. О чем так звучно он поет? Черная собака за сугробом. Подбиралась ко мне, а я отгонял ее палкой. Лучше бы он это не писал. Брат ваш и соучастник в скорби. Нижинский. Пошли их на кулички. Кулачный боец, пошатнулся, упал замертво. Принесли собачку. Крошечная, меньше кошки. Златоволосая. Забилась в угол коробки, дрожит-дрожит безумной дрожью. Уж мы ее и на руках носим, и к груди прижимаем, как младенца, пытаясь согреть, уговариваем ласково и нежно. Нет, трясет ее, бедную, комочек черноглазый, как будто ее внутри ток бьет. Что нам делать?.. Успокоилась только на четвертый день. Спит на диване, устроясь в шерстяных вещах: шарфах и шапках. Вчера мы ее мыли в ванной. Покорно стояла в тазу, кроха такая, мокрая, жалкая. Потом, завернув в полотенце, держал ее на руках, пока не обсохнет. Одни глаза торчат и черный нос-кнопка. Читал китайскую книгу об алхимии. Гулял. Солнце пьянит. Прошлогодние черные листья в затопленной канаве. Встречал ее у метро. Светлый плащ, шляпка. Волнуется, ей в поликлинику. Яркий апрельский тротуар. Серебряные хвостики на осинах. В космосе бутоны миров. Уходя утром, заглянула ко мне — взять рукопись. Я вскочил голый и долго не мог понять, что она хочет. Приснилось или услышал от кого-то, что единороги пугливы, прячутся в зарослях, поймать их невозможно… Поднес к носу листочек тополя. Клейкий, только что родился. Получил в дар гору превосходной финской бумаги. Чайки над фьордами. Теперь я живу! В субботу загород, гуляли по холмам. Голубые глаза всюду, куда ни сунься. Она не уверена, что это подснежники, хоть я и знаток и у меня свой шесток. Сидим на жердочках, жуя взятые с собой картошку и крутые яйца. Прозрачная апрельская чаща. Белые хлопья чаек, крича, вьются над полем. Встреча у Казанского. Ее «Формиздат». У нее приступ мигрени. В аптечном киоске купили сильнодействующие таблетки в плоской синей коробочке. Выпили виноградного сока. Невский, жарко. Опять в метро. У Нарвских ворот купили три розы: две алых и одну золотую. Смотрю: кругом красивые голоногие девушки. Это нам с тобой пешочком топать на Старо-Петергофский проспект. Трамвая век не видать. У них рояль раскрыт, черный ворон. Бронзовая статуэтка Скрябина. Хомячок в стеклянном ящике ворошит опилки. Клюквенная, от нее хмель мягче. Возвращались в темноте, теплый ветер, опять пешком. Устала, еле плелась, бедная. Последний день апреля. Еду один. Цель воина — умереть. «Какой прекрасный сон удалось мне видеть, и как печально было пробуждение». Каждая травка говорит, что она полна новой силы, что она — Чекрыгин. Визионер, импровизатор, воображение безбрежно, оно — молния, по существу бессознательно, никогда не мог объяснить, почему сделал так, а не иначе, лишь оформлял, что всплывало и лопалось углем на бумаге, под ночные колеса летящего поезда, как Анна Каренина. Замерз. Звезды крутятся: двенадцать спиц в колесе. Цветущая слива под дождем вздыхает. Капельки прыгают с шиферной крыши — в оцинкованный желоб. А там — нежно-янтарно светятся стропила недостроенного дома. Сплю, положив руки на грудь. Диванчик узкий. Проснулся, слышу: ветер воет, ночная буря. Утром выхожу: на грядках снег. А слива, бедная моя! Что с ней буря сделала! Истрепала, обломала всю. Весь цвет на земле и целые ветви валяются. Вот беда какая! Май холодный. Пифагоровы штаны. Купил на рынке ведро картошки с ростками. Яшмовые. Для посадки. В дверях, спиной ко мне, такая старая, в ночной рубашке, эта дряхлая шея, впадины за ушами, жидкие волосы, узелком на затылке… Вавилонянки в храме Афродиты. Храм Зевса, башня на башне, выше и выше. Круговая лестница до вершины. На верхней площадке — роскошное ложе и золотой стол. Там всегда находилась и ночевала жрица, девственница, посвященная богу. Бог иногда приходил в храм и спал с ней. Будто я куда-то еду. В форме, морской офицер, звездочки. Странный купол Исаакия и Адмиралтейство, совсем на Адмиралтейство не похожее. В фургоне с матросней. Потом на тележке, матрос вез, толкая сзади. «Ну вот, доставил! — говорит. — Вылезайте, товарищ лейтенант!» Кубрик какой-то, черт-те что. Нет, мне тут не нравится. Выхожу на улицу. Там меня останавливает детина в ремнях накрест, повязка на рукаве. Патрульный офицер. «Эй, куда это ты собрался, белая ворона?» — говорит он. — Такую форму тысячу лет уже не носят!» Я стал оправдываться, что не знал, что вот, захотелось в форме погулять… Иду с водой через дорогу. Скворец, искрясь, точит свою желтую спицу о сук. В половине пятого у решетки Казанского собора. Горят золотом крылья грифонов на Банковском мостике. Дом номер 20, этот сумрачный двор, скамейка в скверике, ее «Формиздат». Выносит сверток, сверкающий, как рой пчел. Какая-то особая пленка для парников, лучи пропускает. «Ты хорошо выглядишь, — говорит. — Загорелый». А сама бледная, и этот пепельного цвета приталенный плащ. Вхожу. Гул голосов. Пишут, полное возмущения, коллективное письмо султану. Безучастный, стою, поглаживаю желто-лакированную спинку стула, она теплая и шелковистая, как у кошки. В створку раскрытого окна дует волнующим майским воздухом. Кусок голубого неба, Пушкин, дымок бакенбардов тает. Цыганские сны. В них надо сгорать. Крылья, то есть — жизнь. Печальна жизнь мне без тебя… Скажи ты мне, скажи ты мне… Витебский вокзал. Опоздаю на поезд. Бегу, в руках коробки с рассадой помидор и тыкв. Хрупкие, нежно-зеленые растеньица, взлелеянные на подоконнике в городской квартире, их так легко сломать. Она умоляла, она богом просила нести осторожно, не трясти, не раскачивать. Душно. Будет гроза. Дождь застал на дороге от станции, налетел, шумя, мой лучший друг, целовал мое разгоряченное лицо прохладными, влажными губами капель. Три лягушки прыгают наперегонки, мокрые, счастливые, одна другой меньше, семейка: папа, мама и дитя малое. Байдарка скользит по облакам. У костра две девочки. Открылась бездна звезд полна. Пузырьки взвиваются, лопаются, взвиваются и лопаются. Парочка на дороге: он — седой, кривоногий, обнимает ее за талию; она — молодая, разрез до бедра. Искупался. Лихое начало. Гигантский букет голубых лучей бьет из-за гребня. Жорж Дюруа, вылитый, закрученные усики. Ослабевшие пружины дивана. Римская улица. Нет, Константинопольская. По стеклу ползет странное тоненькое насекомое с усиками и длинным хвостом. Лиловая грудь сирени. Домик железнодорожника. Второе июня. Провожаю ее в Сестрорецкий курорт. День солнечный, но прохладно. Мы в куртках. Выходит из регистратуры, в руке медкарта. Окрыленные тополя над платформой. Еду один обратно. Лахта, Яхтенная, Старая деревня. Гуляли у волн. Она в своей новой соломенной шляпке. «Ах, чем это пахнуло? Да это же черемуха! Еще не отцвела!» глядит восхищенно, держа меня за руку. За вокзалом старинный, потемнелый деревянный дом, два этажа, башенки, балконы, узорные карнизы, стекла веранды синими ромбами. Дачи, Зощенко, мороженое из сундука — «Даша» и «Митя». Еду. Заводы, заводы за Ланской. Бетонные заборы, ржавые дворы. Трамвайный парк, футбольное поле, фигурки бегают. Проснулся: парашютный десант. Один парашютист попал в паутину у меня за окном, бьется на ветру. Я и ветер листаем китайскую книгу: я в одну сторону, он — в другую. Неоструганные доски, озаренные золотистым днем сквозь запыленное окошко вверху. Сарай стар, мшистая крыша. Двор в лопухах и лютиках. Идет мальчик в желтой рубашке. Заросшая, «Имени Коминтерна». Проснулся без четверти четыре, висел на волоске сна над пропастью. Словно кто-то толкает меня изнутри и будит. Вышел, уже рассвет, плывут озаренные гиганты. И-далекий, влажно-печальный голос кукушки. За железной дорогой. II июня. Навестил ее. Сестрорецкий курорт. Жаркий день. Иду по побережью с двумя женщинами. Блестит зеркало, скользя из рук, разбиваясь, волна за волной. Там Кронштадт, тут — нудистский пляж. Такими рисуют грешников в аду. Подхожу. Поют, прищелкивая пальцами и завывая… Заскочил не в ту электричку, еду, еду, лес гуще, мрачней. Места незнакомые. Вышел. Какая-то Слудица. У вокзала куст сирени. Пышный, розовоперстый, как в Персии. Стою на платформе, солнце садится над лесом. Теплынь. Шаганэ. Глухая сторона. Проснулся. Пустота в пальцах. Снилось: пишу книгу, а строчки расплываются, и страница течет — это река, наш Оредеж. Без заглавия, безголовый какой-то текст, в блеске, в камышах. Снилось и писалось что-то радостное, и я чувствовал, как улыбаюсь и смеюсь во сне. Нет, такую книгу мне, конечно, никогда не написать наяву. Ясно. Об этом и думать нечего. Гулял. У реки обручение: дождь надевает ей на пальцы свои хрустальные кольца. Сколько наяд, столько и пальцев, всем замуж хочется. Русалка выплывает из-за осоки, пузырьки, как бисер, обсыпали. Раскольников, пыль, кирпичи, известка, жара, зловонные лестницы, распивочные, пьяные вопли, визги. Митька, Митька, Митька, Митька!.. Запах краски на тухлой олифе, топор в дворницкой под лавкой между двумя поленьями. Запор на крючке: дерг-дерг. Мечты о фонтанах и садах. Сон об отдыхе в пустыне, пальмы и ручей с цветным дном. Голова кружится, сейчас упаду. Капернаум. Каюта. Болтовня за спиной. Пузо в тельняшке, накренив канистру, заливает бензин в бак машины. Льется лилово-шелковистой струйкой, источая приторно сладкий, как жасмин, запах. Эта канистра кажется неисчерпаемой, как море. Искупался, вода бодрая. Сосна на берегу стоит мускулистыми корнями. Муравьи, вздутые юбки, булавочная голова самолета блестит на закате. Вышел. Витебский. Резко, рыба, черная игла в небе. Парень в майке, продавец даров моря, достает из мешка и мокро шлепает на опрокинутый кверху дном ящик тускло-серебристую саблю с мертвыми глазами. Пошел на почту, пенсионный день. Жара, пух летит, молочная очередь у цистерны, мой загар и синие глаза, молодые женщины смотрят пронзительно. Веранда, окна раскрыты. Стою голыми ногами на зеленом коврике в круге солнечного света. Приятно ощущать тепло на голых ногах и думать о бездонном мире нового дня. Улитка. Судорога пробежала в ахнувшем небе. Туча светлыми пальцами в окно: тук-тук. Нарастающий грохот, лавина колес, жужжание больших, черных мух на стекле. Нет волны, мелкая рябь, пузыри, вздохи, круженье, мутная пена. Дачи застеклены зеркалами. «Колокольня В-й церкви: биллиард в одном трактире и какой-то офицер у биллиарда, запах сигар в какой-то подвальной табачной лавочке, распивочная, черная лестница, совсем темная, вся залитая помоями и засыпанная яичными скорлупами, а откуда-то доносится воскресный звон колоколов… Не то чтоб… а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь, и как-то грустно. Всего противнее, что ведь действительно о чем-то грустишь! Юродивая! Юродивая!..» Двадцать шестое июня. Дунуло в окно, бумага на столе вздыбилась, зашуршав, как белый конь. Жертвенный. Царский. Облако-рак. Человек из-под земли. «Убивец!» Комната с острым, туманным углом. Свеча в искривленном медном подсвечнике на стуле. Читают о воскрешении Лазаря. Гроза, ливень, плеск в саду. Эти грациозные и грандиозные речи. С крыши дугой, шумя о своем, — дождевая струя. Стихло. Воздух густой, парной. Лист жасмина с алмазной запонкой. Лежу, задремывая, в прохладе. Многовершинные знойные горы стоят в окне веранды. Купался в прицеле грозы, под пулями капель. Воздух насыщен дыханьем взволнованных растений. Свет дождевой, рассеянный. Раковины, бормотанье. Колеса мчатся в сизую, как ночь, тучу. Выделены шрифтом, кавычками. Током бьет от окна, кареглазая, бледная. «Это только значило, что ТА минута пришла». По запотелым стеклам переполненного троллейбуса текут капли. Она в резиновых сапогах, с тортом. Рот сердечком. Не пойму, зачем она употребляет такую яркую помаду. Купили подарок сестре: хрустальную конфетницу, брянскую, 78 рублей 60 копеек. Продавщица стукнула волшебной палочкой — и зазвенело, чисто-чисто, как камертон. Идем, по сторонам глядя. Через пустырь, мимо школы. Птицы, птицы… «Как ты смешно ходишь: ноги задираешь! Только сейчас заметила». Говорит она. Пусть говорит. Я — тварь дрожащая, ПРАВО имею. У сестры завелся новый друг, на 12 лет ее младше. Познакомились в Репино. Не тот Меньшиков, а который в «Покровских воротах» играет, с усиками. Девки штанов не носили, парни им под сарафан сена насуют, а те — смеются. Вот и открыли генетический код человека. Радость луча в мокрой листве. Устал, вино в ушах шумит. Вышел освежиться: мир гаснет, закат. Руки тут, вот они, а голова, как не моя. Рельсы струятся. Блеск ее глаз. В вагоне на скамьях лежат девицы, выставив в проход голые розовые ступни с растопыренными пальцами, как лепестки. Шелуха семечек. Туман. «По крайней мере, долго себя не морочил, разом до последних столбов дошел… Вам, во первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадайте. Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!.. Потому страданье, Родион Романыч, великая вещь… Прогуляться собираетесь? Вечерок-то будет хорош, только грозы бы вот не было. А, впрочем, и лучше, кабы освежило…». Играли в дурака, в сумерках. По дороге прогрохотала цыганская телега с бидонами, цыган в фуражке стоял в телеге и кричал на лошадь. Сивая грива, глаза черные, огненные, взгляд волчий. Побрился. Босой на траве. Что есть всё? Вот вопрос! Металлические кольца одержимы магнитом, а поэты одержимы Музой. Знаю, знаю, кто сказал. Можешь нос не задирать. Стрижи в дождевом небе ловят клювами капли. «Я дитя Земли и звездного Неба, но род мой небесный… Я иссохла от жажды и погибаю — так дайте же мне скорей холодной воды, текущей из озера Мнемосины». «Плотное, влажное, холодное и темное сошлись сюда, где теперь земля, а горячее, сухое и светлое ушло в даль эфира». «Бездельно. Улица шумная, носятся автомобили, тепло (не мне), цветет все сразу (яблони, сирень, одуванчики, баранчики), грозы и ливни. Я иногда дремал на солнце у Смоленского рынка на Новинском бульваре. Люба встретила меня на вокзале с лошадью Билицкого, мне захотелось плакать, одно из немногих живых чувств за это время (давно; тень чувства). Наша скудная и мрачная жизнь. Болезнь моя росла, усталость и тоска загрызали, в нашей квартире я только молчал. Мне трудно дышать, сердце заняло полгруди». Анаксагор, жизнь безумная, глухая. Бледное от страсти лицо в белую ночь. Не было, ничего не было. Трехгорно, смутно. Обливался на дворе холодной водой из колонки. Дивное ощущение! Выдышаться в смерть. Звезды, грязь. Червь ушел в землю — конец дождям. Готовлю обед, поглядывая в окно на бурный ливень. Режу острым ножом на доске сочные листья салата. Капли скатываются с клена, как по ступеням дрожащей лестницы. Оса штурмует окно, храбро бьется с незримой преградой. Лежу, небо у изголовья. За струистым стеклом гроза, расплывчатость, один, мне 53. Резко-белая черта, как удар раскаленным прутом по глазам. Последняя громовая нота. Уходит. Рыжий паук спустился на подоконник. Что-то его испугало, проворно поднялся опять по незримой паутинке. Ласточка ошалело носится под тучами. Цинковый рукомойник на дворе засверкал, как звезда. Затопленная дорожка в саду.
Сосна в бусах, роняет с шорохом дождевые жемчужины. Из-под века коры смотрит умный янтарный глаз. Купался голый. Туман. Сырое ку-ку из леса. Белые чаши жасмина. Опять облился холодной водой. Стоял босыми ступнями на росистой траве с белыми головками клевера. Небо сразу стало выше, шире, тучи титанически шевелятся, распахнул объятья, братаемся. Вскипятил воду в ковшике, а чая-то щепотка. Гулял. Знойно-влажно блестит листва. Шмель в рыжей шубке, жарко ему. Звон пилы рыдающий. Мостик из замшевых досок через канаву. Густой, парной запах просыхающих после дождя растений. Дохнуло и на меня Это на Этой дороге. Опять надвигается в тишине, потемнело, пахнуло влагой, гремит лениво, нехотя, заоблачное ворчанье. Неубранное белье мокнет под дождем на веревках, возбужденное, обрадованное переменой в судьбе, рукава рубах свисают над яркоглазой травой, тянутся к ней, покачиваясь и вздрагивая. Лежу у окна с небом, на правом боку, с закрытыми глазами, подложив руку под голову. Внезапный блеск сабли пронзает веки, раздается удар грома, и я, испуганный, вздрагиваю. Будто бы, выпив вина, пьяный, лежу, обнимая обнаженную хмельную женщину, и она горячо прижимается ко мне, и лепечет мне на ухо что-то нежное и страстное, полное грозы, молний, мрачного электричества, шума мокрых вершин. А та, за окном, воительница, бушует, гремит, не переставая, и сабля сверкает, глубоко озаряя глаза под веками, и кто-то огромный с треском разрывает небо. Я в один из своих дней. Купался в полночь. С сосен с шорохом падали капли, вспугивая розовые полосы на воде. Вышел помолодевший. Дорога лежит нежнотелая, спит с открытыми глазами бездонных луж. Варю уху из двух рыбок. Сосед дал. Оса и паук на туманном стекле. Оса бьется в сетях, обессиленная. Паук терпеливо ждет, затаясь, вверху. Лег спать, а по мне кто-то скользнул — по животу, по ноге. Вскочил, включил свет, отвернул одеяло — паук! Черный, мохнатый, на простыне!.. Будто бы лежу на дне глубокого колодца с черно-ржавой торфяной водой, а глаз мой плавает на поверхности, мрачная ромашка. Окно, овца в небе, муха гудит у изголовья. Подоконник то потемнеет, то разгорится. Тополь пишет тенистыми чернилами, у него на ветке фразы шумит много слов. Простужен. Сегодня не обливался. На лодке, у тростника за пазухой. Закат, забылся, шевеля веслами, как плавниками. Вода возрождает. Тянет к себе, уговаривая, нежно взяв за руку. Поздно. Брось. Голова мутная, как в тине. Зеленая муха ползет по абажуру. Не отделаться от вкуса рыбы, съеденной утром за завтраком. Стою у окна, смотрю в сад, и этот вкус рыбы во рту. Снилась книга, круглая, как блюдце, как карась в золотой кольчуге. Иду, облако — чудо, и девочки в купальниках, размахивая полотенцами, бегут через дорогу к речке, маленькие, острые, как бутоны, груди. А гора растет, шевелится, воздушная недотрога, плечи, шея. Как может повернуться женщина! Молния затрепетала мотыльком. Гуляю в доме, от одного окна с грозой до другого окна с грозой. Скучать некогда. Кровавый вечер. Блестит нож на столе. Шаляпин, велосипедист, жирный паук на озаренном стекле раскинул сеть. Цыган пробренчал на телеге с бидонами, горланя и стегая кнутом вялобегущую лошадь. Ни дня без грозы. Сад побит, залит. Конец света. Пишу у окна, глядя на эти ужасы. Дождь ослабел. Лягушка прыгает на дороге по лужам, всплескивая мглистую воду. Иду по ночной дороге в лужах и думаю об Апокалипсисе. Это место из пятой главы: «и видел я Ангела сильного, провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее? И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Ничего, ничего. Горстка праха. Спросил через забор у соседа: какое число. Говорит: пятнадцатое июля. Снилось: будто бы лежу на дороге с какой-то женщиной, на виду, посреди множества людей, я лежу сверху на этой женщине, а голова ее среди камней и грязи, лицо неразличимо. Нас обступили мужчины и желают участвовать. Я протестую. А женщина, напротив, согласна, она хотела бы доставить радость всем сразу и возглашает возмущенно: «Хватит с меня и того, что я с мужем вот так намучалась!» Я целовал ей ноги и готов был на все, лишь бы она не отказала мне в своей милости. Чей-то гнусный, бабий голос рядом произнес: «Молодец! Уломала!» Проснулся в поту. Половина седьмого. Петух поет. Пчела летит пить с чашечек. Томлюсь в тюрьме дождя за обложной решеткой. К вечеру просвет, пошел купаться, а туча черная-черная, как первоначальная тьма из бездны. Вода обожгла, сжав в объятьях. Вышел возрожденный, словно юноша. Встретилась девушка с велосипедом, ведет за рога, в синем купальнике, на лице красивая мечтательная улыбка. Витебский. Клубится битва в полнеба. Лужи на асфальте, парной запах тополей, капли повисли на пальцах листьев. Вхожу. Она сидит на диване, розовый халат, мочит ноги в тазу и смотрит американский боевик. Взял с полки том Блока, «Записные книжки», и ушел к себе. Святослав Рихтер: «Рояль — это адская машина с акульими челюстями. Струны — натянутые человеческие жилы». Жаркий день. «Рыбы» Ларионова. Канал луженую глотку дерет Скалозубом. В Летнем саду сто лет не были. Духовой оркестр стариков. Джазовые мелодии. Сидим на скамейке, она замерзла, руки как из ледника, я согреваю их в своих, а она ногой подрагивает в такт мелодии. В «Елисеевском» купили селедку. У нее ноги отваливаются. Двадцать четвертое июля. Конечно. Ей хочется в Петергоф к фонтанам. А там теперь цены за проход неимоверные, для миллионеров. Идем вдоль ограды, высматриваем лазейку, мы с ней тоненькие, как щепки, вполне можем сквозь жерди пролезть. Нет, увидят. Лучше под этим мостом переберемся, по краю бездны, по скользкому гранитному выступу, рискуя свалиться в бурный поток с песком и илом. Ну вот, целы и невредимы, и бесплатно гуляем, а ты боялась. Тут есть на что поглядеть. В заливе купаются три индуса, коричневые, как ил Ганга, белозубые, кричат, тычут пальцами в Кронштадт. Идем, держась за руки. Парк кончился, поля. Сняли обувь и шли босиком по песчаной дороге. Дубравы. Травка пострижена под бобрик. Резкие тени. Проснулся. Она встала за стеной. Шумно металась. Опаздывала. А ушла только через час. Лязгнула дверь. Я успокоился и снова уснул. Приснились какие-то малайки. «Адажио» Томазо Альбинони. Ем черную смородину из чашки. У залива нам попался щит с надписью: «Купаться запрещено! Холера!» «Ну вот, а я руки в этой холерной воде мыла!» — вскрикнула она в ужасе. Забор. Флаг на башенке, как над фортом — белая и желтая полоса. Огородик, ульи, пчелы летают. «Спасательная станция». «Чувствуешь, водорослями пахнет?» Она раздувает ноздри, повернув лицо к морю. «Вот тут нам с тобой почаще надо гулять».
Хожу в сумерках, опираясь на ивовый прутик. Купался в грозу. Смерть от молнии — дар богов. Плыл, крича туче: «Убей! Ну, убей же!» Тоска. Бессвязно. Белые головки клевера вздрагивают. Орландо Лассо, бельгийский Орфей. Волны бьют лодку в скулу. Бьют и бьют. Мальчики в тростнике удят. Пожелал им поймать щуку. Колючая лапка с двумя зелеными шишками. Небо без птиц. Сплю, крутясь, как песчинка в вихре. Деревца, тоненькие, тянутся вверх — выше, выше. Оса вьется над чашкой чая, чаеманка. Знойно, купаюсь, хрустальная звезда. Лира Орфея. В звездные ночи я ее ясно вижу. Это поют Земля и Небо, си минор. Вот оно что. Муха уселась сверху на блестящий металлический ус антенны. Так ей лучше слушать. Алябьев, Глинка. Солнце на шоссе ревет мотоциклом. Весь день знобит. Гипноз заката. Вальс-фантазия. Стою на высоком берегу, над обрывом, прислонясь спиной к березе, она теплая, а светило, пылая, прячется за елями. Сыроежки червивые. Потерял ножик. Стоило для этого в лес ходить. Кружил, кружил вокруг стонущей сосны. Нет ножика. Леший подтибрил. Шуман, «Лесные сцены» в исполнении Святослава Рихтера. Ем чернику. Звезды ясные. Ковш, а над ним — седое крыло ночной тучи. За хлебом, а то разберут в мгновение ока. Две девушки босиком шли по шоссе, блестя запачканными ступнями. Пишу на клочке перед чьим-то домом. На дорогу вышла женщина: не инспектор ли я? Номера домов записываю? Туман на рассвете. Яблоки в алых брызгах. Она, легка на помине. На шее новое янтарное ожерелье. Янтарь необработанный, говорят, для здоровья полезен. Купим соковыжималку, а блузка подождет. Плеск у соседей, качают, гремят ведрами. Картошка уродилась — с голову годовалого ребенка!
В городе, как не в своей тарелке. Приехал ночью: огни, чьи-то колени с гусиной кожей, жирная грудь, ларьки, журналы, похабно. В Стрельну, побродить одному. Мутно-желто. Автомобиль с прицепом, грузят сено в тележку. Разулся, сижу босой. Кузнечик прыгнул на большой палец моей вытянутой ноги и гордо восседает, как изумрудный царь. Принес ведро вишен. Она, гладя белье, смотрит фильм про атомную станцию. Халаты, скафандры. Бледная, плохо себя чувствует. Поставил ведро и уехал. Она не обернулась. У реки костер. Мужчины за бутылочкой, ребятишки коптят на огне сардельку, нанизанную на прут. Она спускается по лестнице, как перистое облако. Тюль — занавески шить. Солдатские башмаки, она в них по горлышко утонула. Загадочное зеленое насекомое ползет по стеклу, распустив прозрачные крылышки. Провожал. Улыбается из вагона. Закат, коробка сигарет. Лик его ужасен. Четыре девочки и собака. На реке белая перина тумана. Октет фа мажор. Фары на шоссе. Немигающее око в небе. Да и понедельник в придачу. Мусоргский с нищим чемоданчиком. Выброшенный на лестницу. «Надо запретить сочинять такую музыку!» Чайковский о его «Борисе Годунове». Ем яблоко, червяк в нем. Лежу, солнце брызжет в лицо горячими лучами. Картошку в город везти… Она печатает на машинке с латинским шрифтом! Да ничего веселого. Родословные породистых собак для клуба собаководства. Вчера ей резали десну под наркозом. Фиолетовые зигзаги. «Ночной Гаспар». Марта Аргарис. Погасло. Полет дьявола. Окна пассажирского поезда пробегают по подушке. Рыжий, как все ирландцы. «Ты? Уже?..» Читаю книгу: страница черная, страница белая. Бедный, на шнурке от кальсон повесился. Крышу кроют зеркальным карпом. Двадцать пятое августа, день рождения Иоанна Грозного. Копаюсь в грязи, вылавливая из жижи полусгнившую картошку. Стая дроздов на сухом дереве. Сплю. Хлещет по стеклам. Баренцево море, шторм, поп в рясе, женский плач, плывут венки. Вас окружили крысы. Освободитель из Новой Гвинеи. На Сенной «Дон Кихота» не продать. Ночь ледяная. Спал в лыжном костюме. У соседа в сырых сетях ни свет, ни заря бьется серебряный лапоть. Она встала, поет, голая, янтарное ожерелье у сосков, лихо заломленная бровь. Вскрикнула. Напугал велосипедист, выскочив из-за спины, как блестящий вихрь. Черный луч ударил в дорогу, по которой мы шли. Отсырелый сверток суеверных дней. «Закрой заслонку и давай спать», — говорит она потухшим голосом. Лежу во мраке. Песнь варяжского гостя. Еще не все. Миска зеленых стручков. Четверной прыжок. Пар от железа. Встала. Слышу ее шаги в комнате и стук двери. Накачал воды, колышется в ведрах, играет утренним блеском. Лодка, зной, желтый обрыв. Разбудила собака, белая в черных кляксах. Сюита номер два си минор Баха. Солю грибы слезами. Радуюсь, как ребенок, не явившийся в мир. На дороге свежесрезанные златоголовые георгины. Милый друг подарил. Раскинула руки, лежит, блаженная, растянулась до леса, во всю ночь очей не сомкнула. Огоньки сигарет во тьме гуляли. Дыня с водкой. Сгорел, как ракета. Бледнорукая, ловит меня под луной в высокой траве. Ночью все автомобили серы. Заговор окружности против центра. Затяжные паузы. В корзине мокнут шляпки. Чмокнула в щеку. Ржанье пасущейся лошади за платформой. Рельсы гаснут. Вот и все. Цыганка на дороге, золотые колеса в ушах.
Сливы варит в медном тазу. Аромат на всю квартиру. Нас в гости пригласили, так о чем я думаю, почему не готов? Могу одеть японскую куртку и отправиться хоть в Токио. Там я сойду за своего и затеряюсь в толпе. Там все такие, мягко сказать, миниатюрные. Она в тревоге: ветер испортит ее прическу, над которой она трудилась все утро. Они вернулись из путешествия по Северной Германии, а мы что ж, лыком шиты?.. Тепло, пьяненькие, троллейбусы рассыпают дождь звезд. «Что ты дрожишь, как птичка? Не дрожи!..» Всю ночь в квартире под нами спорили голоса, нерусские, азербайджанцы, мужчина и женщина, не давали спать. Женщина плакала. Мыл окно — потемнело! И какой-то странный шум. Град! Тротуар белый. Как клавиши машинки. Неслыханный тайфун в Японии. Катастрофическое наводнение. Тощий, как щепка, с морщинистым лицом старик-японец в лодке по желтой воде на улице города. Дерзновенная и безмерная сила. Стихия. Судьба стеклянная: блестит и хрупка.
Ядовитое око, зелень бледная: всю ночь, всю ночь глядит мне в лицо, не мигая. Лень встать, завесить. Монтень учит умирать. Смуглый, вихрастый, в клетчатой рубашке, читает за столом, подперев щеку рукой. Я вздрогнул: это же я! Желтое в алых брызгах яблоко. «Это то, что видели наши отцы, это то, что будут видеть наши потомки». Манилий, «Астрология». Грибы варю. А там-то: звезд! Плыву в море, закупоренная бутылка с запиской. Долго болтаться, только б глаза сохранить сухие, а то — буквы расплывутся, пропадет весточка, никто не узнает о кораблекрушении. Как назло лук рядом режут, креплюсь из последних сил — удержать слезы, а глаза затуманиваются, затуманиваются, уж ничего не вижу… Шаги гигантов, хохот, удары. Фары с шоссе тянутся ко мне в темную комнату, лижут огненным языком мое лицо. Хрустит соль. Снятся лесбиянки. Снилась Капитолина Ивановна, поселковая библиотекарша, и невестка ее, Женечка Медведева, с детской коляской. Женечка зовет меня. Подошел с замиранием сердца и нежно с ней разговаривал. Молодая, ничуть не состарилась, все такая же дивная, божественная, как тридцать лет назад. Пловцы на олимпиаде в Сиднее. Погиб альпинист Батурин. Снежный обвал. Непокоренная вершина сверкает, как алмаз. Восьмитысячник! Ты подумай! Ах, ты ледяная, бесчеловечная красота гор!.. Проснулся. Вставать не хочется. Туман. Виденья летят, не оглядываясь. Пушкин поплыл в Америку. Бронзовый, гигантский. Поставят в Нью-Йорке. «Что в мой жестокий век восславил я свободу…» Там свои — курчавые негритята. Шел от метро, тонкие розовые полосы. «Я в дверях вечности стою». «Поэт в плену у Психеи». Ночь полна полустертых лиц. Буква «Алеф» — белая на черном. На лестнице воняет газом. Жуткий смрад, жгут кости. Именинники Андрей и Павел. Пять раз просыпался, вылезал из шкур и шинелей и шел к унитазу. Моча, как керосин. Паганини за стеной. Сливы-эфиопки испуганно взглянули на меня из миски фиолетовыми белками. «Все боги обладают разумом, из людей же — очень немногие». Платон, пир, чума. Потянулась ниточка — и оборвалась. Понедельник. В доме так тихо, что уши поют. Съел гроздь черной рябины. Влажная, холодная, рот вяжет. Выхожу из тени и тут же в нее возвращаюсь. У солнца своя музыка. Чюрлёнис, осень, Зося, сумасшедший дом, простуда, смерть в 35 лет. Чем гордится земля и пепел? Трава седовласая. Царская шапка звезд. Как у Мономаха. Красный месяц. Стою у окна. Бах, трио-соната. День как день. Октябрь. Солнце летит. Рыжий венецианец. Мышь на столе, хвостиком махнула. Чаша с водой и медный шарик Александра Македонского. Самые опасные болезни — это те, что искажают лица. Гиппократ, странно. То ли это издание? Цыган в зимней шапке вышел на дорогу. Во сне виолончель, этот голос… Блюдце с мукой. На запотелом стекле тают горы, золотые и розовые, чернеют прочерченные каплями ущелья. Приехала. Фильм вчера смотрела. «Красная скрипка». В состав лака входила кровь молодой девушки. Скрипка передавалась из рук в руки много веков. Попала в Китай. Мао сжигал все музыкальные инструменты. Расстреливал музыкантов и учителей музыки. Гигантские костры из музыкальных инструментов на площадях. Ладно. Чай байховый. Идем в механическую мастерскую. Берут ли в починку пылесос? А стиральную машину? День теплый, небо ясное. Астрономы обнаружили в созвездии Ориона газообразные планеты, сгустки газа, в семьдесят раз больше нашего Юпитера, двигающиеся хаотически и сами по себе, вне гравитации, вне звезд. Открытие, опрокидывающее все существующие в нашей науке картины мира. Медный волос. Откуда он на мне? С Кассиопеи? Вот открытие, которое ее волнует. Торнадо. Вихри колоссальной силы. Смерч диаметром в милю, скорость — триста миль в час. Сюань — древняя столица Китая. Два прилива, два отлива. Биологические часы крабов. Их Тихий океан на руке носит. Мадагаскарские крокодилы берут в жены красивейших девушек. Хватают на берегу и тащат в воду. Девушки радуются, что вышли замуж за духов вождей. Это Элагабал. Его везут запряженные в колесницу четыре голые женщины. Они безумно красивы. Кто-то смотрит мне в спину. Точно нож под лопатку. Закат золотит пруд, утки. Настольная книга Льва Толстого. «С пользой и удовольствием читал Монтеня». Пришла. Просит, чтобы я посмотрел в лупу прыщик у нее на носу. Потом готовила баклажаны. В ночной рубашке, как русалка под месяцем, не спится ей, почему я не ложусь, уже поздно, уже час. Бред. Постель взрыта, буря тут ночевала. Еду. Куча угля на какой-то станции сверкает черными алмазами, провода в небе блестят нежно, струны эоловой арфы, в них поют голоса ангелов, а тополь мой гол, но по его виду не скажешь, что он горюет. Нет, он ждет знака, свыше. Свет у нас на третьем этаже. Плещется в ванной. Помолилась перед сном. Лежим. Потолок падает, как коршун. Арка ступни, на которой она стоит над миром, а под аркой мчатся по шоссе машины. Бесконечный поток машин. Ей хочется антоновских яблок. Боже, что за жизнь наша! Вечный раздор мечты с существенностью! Едем. Она в черном беретике. В Павловске чудные женские ноги на перроне. От неврастении лечатся иглоукалыванием. После ванны, сидит, поджав ногу, наносит на ногти какую-то ярко-белую мазь. Говорит, что она для меня как мебель. Сорвал ягодку боярышника. Пресная, безвкусная. Спускаюсь по скучным ступеням — она! Ее желудево-ворсистое пальто, шапочка. «Куда это ты собрался?» — спрашивает. Лицо бледное, суровое, ни тени улыбки. Ночь. Стою, прислонясь лбом к холодному стеклу.
Смотрю: календарь странный, без красных чисел, смутное что-то. Как бы октябрь, как бы семнадцатое. Строительный кран на закате — цапля на одной ноге. Продавщица раздавила пальцами яйцо и залила желтком монеты в коробке. Варю картошку. Сумрак, небо гаснет. Трамвай до Автово, а там — дворами. Хирург назвал ее изящной. И такую изящную ножом резать! Вечно я с сумками, Фигаро. Снял с плеча, отдыхаю. Тополь золотой, мглисто, поликлиника. Шум паяльных ламп свыше. На доме крышу смолят. К зиме готовят. В Европе наводнение. Боевые вертолеты, ветер в горах, бородатый грузин, проводник банды. Месяц утренний, грустный. Жерар Лабрюни. Обрили наголо. В гетрах, брат тигра. Это не стул, стулья такими не бывают. Лакированное плечо, на которое можно опереться, и пачки чая у него все раскрыты. Подозрительный торговец, на китайца не похож, раскосость не та. Вулканолог тебя спрашивал. С Камчатки. Ее Римского-Корсакова. Плясали под патефон. Русланова пела: «Валенки, валенки, неподшиты, стареньки». Пять лет ей было, живо помнит. Голос Руслановой: «Знает только один бог, как его любила, по морозу босиком к милому ходила». «Я бы тоже по морозу босиком бегала, — говорит она. — Я страстная, безрассудная». Помнит: закончился учебный год в школе. Конец мая или начало июня. Идет по улице, и голым ногам так тепло, от солнца, от тротуара! Это ощущение летнего тепла на голых ногах незабываемо! На первом курсе института: поехала с молодым человеком на Острова, в ЦПКиО. Сидели на траве под вязом. Гус-то-ой вяз! Весело, смеялись. Влюблена немного. Так и не поцеловались ни разу. Вдруг гроза! Ливень! Вымокли до нитки. Обратно на трамвае, мокрые. Юность, свежесть, ожидание счастья… Ноябрь небывало теплый. Сплю с открытым окном. Она поет за стеной: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва…» Идем в Эрмитаж. Старик в тулупе поет под аркой Главного штаба. Певец Панин. Нева наша. Трамвайчик бежит по волнам, бело-синий. Золото льется над Биржей. Даная, Юдифь. Заупокойный храм царицы Хатшепсут. Ученик спросил монаха: «Есть ли сердце? Или сердце отсутствует?» «Сердце отсутствует», — был ответ. Встречал у булочной. Бежит. Светло-желудевое пальто. Довольна. Развеялась. Дмитриев совсем старый, восемьдесят, шамкает. Жизнь актера. Пасмурно. Пулково. А где «прибытия»? Красивая, в очках, в серебристом пальто. С ней мальчик, сын. Заглядывает за барьер, улыбаясь, взволнованная, повторяет: «Точно, точно! Это он!» Вечер. Лютеранская церковь. Стою под деревьями, ем сайку. Невский в огнях. Небо светлое, звездочки. Я во мраке невидим. Девушка, взглянув на меня, улыбнулась в темноте. Так это бывший бассейн, а теперь тут Моцарта исполняют. После концерта стоим в вестибюле и чего-то ждем. Дверь открывается, и там — белый полукруг в небе. В лунном сияньи… У метро молодежь шумит. Шоу. Купили кокосовый торт. «Я еще интересная женщина?» — спрашивает. «Еще какая интересная! — отвечаю. — Способна кружить головы!» «Твою голову кружить, — говорит. — Только твою». Фильм старого времени. Буйноволосый, курит у раскрытой двери летящего ночного трамвая. «Будем говорить грубо: вы влюблены?» Между «Балтийской» и «Технологическим», бледная, как бумага, мучительно улыбается, валидол… На дороге, пожилая, с собакой. Веселое лицо в платке. Под хмельком. «Ах, гулять-то как хорошо! Не осень, а сладость! Воздух-то! Кушать бы его!» Бежим на станцию. Она — задыхаясь, хрипит, отстала. А тот — гудит, обогнал, у платформы… Ах, черт! Зря надрывались. Из-под носа… Девятое ноября, день рождения председателя Земного Шара. У метро хризантемы. Несу, нюхая. Кусто. Осьминоги, крылья плавные, с узорной изнанкой. Ум от звезд, сердце от солнца. Тела опознанных. В Мурманске сырой снег. У нее спазмы головы. Лежала весь день. Говорит, что чувствует себя одинокой. Предложила расстаться. Заглянулапосрединочи: «Тычтоделаешь?»«Несплю», — отвечаю печально. Вот и утро. Мглисто. Машина в переулке. Из кузова столб поднят, на столбе площадка. Электромонтер в черном с белой шнуровкой шлеме провода чинит. Печатаю в очках, как под водой. Розоватые щупальца колышутся высоко в темном осеннем небе. За три квартала. Клуб «Тайфун». Подростки бушуют. Юрий Кружанич. Хорватский часовой. Форма, композиция. На подсознание действует. Проковырял лунку во льду: проплывают слоновьи ноги Исаакия, седые, в изморози. «Наверное, я неласковая, — говорит она. — Какие мы с тобой нетеплые!» У нее защемление нерва. Лежит ничком, плача. Массажировал ей спину. Командующий Северным флотом, седой адмирал, лоб в испарине: «То, что вы говорите — ужасающая некомпетентность. Я даже и отвечать не хочу на ваши вопросы. Причина проста — нет топлива кораблям. Дайте топлива — и ни одной иностранной лодки в Баренцевом море не будет. Всех вытолкаем». По дороге к станции — согнувшись, тащат мешки, везут тележки. Измазанные в земле. Картошку, морковь с полей. Старики, дети, женщины. Молодые. Вон — в фуфайке, глаза сверкают. Солнце, резкий ветер. Швейная, «Большевичка». Лаваш и колбасу, закусим за столиком в кафетерии. Купили на ярмарке розовую блузку и черную в полоску бархатную юбку. Дома примеряла перед зеркалом, пела, довольная. Два мальчика летали на коньках по чистому льду. Прозрачней стекла, тонко пел под молниями полозьев. Стою у пруда, зачарованный, не оторваться. Что у нас? Двадцать восьмое ноября? Незнакомка мелькнула, и нет ее нигде. «Боже мой, какое безумие, что все проходит, ничто не вечно». «Время сделало один шаг, и земля обновилась». Не надо Шатобриана, чтобы понять. Не сплю вторую неделю, шатаюсь от ветра, лист дохлый. Декабрь без мороза. Батый у Киева. Несу свежеиспеченную, горячую буханку, не нанюхаться. В тени великого Баха. О ком это они? Черные, мечутся, каркая, в ночном розоватом небе. Суббота, мглисто, почему я решил, что восемнадцатое декабря? Не могу объяснить, хоть режь. У нас с ней поход за медом. Там продают, на Ленинском проспекте. Магазин «Русская деревня». Пойдем вкось между домов, да еще зигзагами, так и без транспорта запросто доберемся. Мед гречишный, мед башкирский. Дают пробовать на палочке. «Настоящий мед должен язык жечь, — говорит она, — а этот что-то не очень-то…» Все-таки взяли литровую банку. Еще купили мыла и стиральный порошок «Ариэль». Да вот бетонный забор, тут можно, никто не видит. Присела, приподняв полы своего синего пальто. Черная шляпа. «Неужели ты ни о чем больше не можешь говорить, кроме как о своей литературе?» — спрашивает она ледяным голосом. Быстро, быстро идем, бежим, чтоб не замерзнуть. «Легковато мы с тобой оделись». По мостовой вьются, гонясь за нами, белые змейки. Гертруда Стайн, ясно, колготки «Черная роза», еду, ветер в поле, вот гора, где спит мой бедный отец. Уже ночь. Паркет скрипит, плеск в ванной. «Посмотри, есть ли звезды?» Ничего там нет, как вчера. Одинокий челн причаливает в сумерках. Эпоха Сун. Неизвестный автор. Лепит снегурку. Свечки трепещут, пламенные язычки в окне, на Стачек. Крестится. Как бы наша комната, полумрак. Шью книгу, большую, в серебре, игла, как месяц за окном, поблескивает. Так еще никто не шил книги. «Ну, шей, шей!» — говорит чей-то голос. Тает. Елабуга. Следы пальцев на глянцевой черной обложке. Видел гору: изрыта нишами, в нишах стоят фигурки. Есть ниши пустые. Прячется, торчат уши. Книга-рояль, нажимаю клавиши. Есть клавиши незнакомые, никто еще на них не нажимал. Второе февраля, по обычаю пошел в баню, мороз, звезды. 54 стучит: «Кто в теремочке живет?». Утром лежим с ней в постели, она поет песни. А там? Опять?.. Вышли из дома, и я полетел вверх, как свечка, в носках. Захотелось ей показать, как я летать умею. И я лечу выше, выше, куда-то в горы, и вот, пытаюсь подняться над гигантским зеленым деревом, растущим на горе… «Телеграмма!» — кричат за дверью. Самолет полоснул крылом. У него реактивный глаз. Наши тинистые книги ему не прочитать. Спускаюсь в подвал. Там продают собак. Две босые, полуголые девицы на стульях. Одна сажает меня к себе на колени, прижимается, раскачиваясь, и ведет какой-то странный разговор. Я объясняю ей, что значит фортепьяно: это громко и тихо. «А! Подумать только!» — смеется она и прижимается тесней, крепко обнимает меня обеими руками. «Идем ко мне наверх» — предлагает она… Метель. Беспортретно. Пять песен, пять книг. Вот и все. Визжит. Лукавый час. «Иль играть хочешь ты моей львиной душой и всю власть красоты испытать над собой». «Невесть чего ерехонится, а огня-жизни нет». «Успокой меня, неспокойного, осчастливь меня, несчастливого». «Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Март, тускло. Снег на Мойке. Пушкин смешной. Решетка, тающий двор Капеллы. «Снегурочка» шестого марта. Без пяти три. Восьмое, день чудесный, блестя на солнце, друг прелестный. Щурится, в шубе ей жарко. В цветочном, кустистая, можно ли желтую дарить? Одиннадцатое, гулял, унылый. Две девушки, юные. Гладкие лица, подведенные глаза. Обрывок разговора. Взглянули на меня внимательно. Слышу: зовет. Рукой машет. «Откуда ты идешь?» — спрашиваю. «Из жилконторы» — отвечает. Еду. От окна дует. На платформе под фонарем госпожа Арну. Приснилось: будто я иду вечером в своем длинном зеленом пальто, несу на руках собачку, огибаю какой-то мрачный многоэтажный дом. Тускло, грязь. То ли осень, то ли ранняя весна. Надо перебраться через канаву. Ноги скользят, не удержать равновесия. Чтобы не упасть, сажусь прямо в грязь, в эту канаву, стараюсь собачку не уронить, плачу от бессилия. Кое-как встаю, обхожу сарай и кучи мусора, тут дорожка, следы шин, сухие стебли. Двое пьяных, шатаясь, несут за ноги — за руки третьего. Приближаются. Я сторонюсь. «Этого пока еще нести не надо» — говорит идущий впереди заднему. Двадцать первое, автобус бежит по желтому Петергофу. Городской суд. Репейник блестит. Александра Федоровна, душа твоя на небесах! Нижний парк, солнце садится. Голос в трубке: «Хочешь послушать живого Паганини?» Театральный мостик, бежит в платочке. Мозаику будем смотреть. Филармония, Спиваков, триста рублей в кармане случайно не валяются. Ах, как жаль, как жаль… Ладно тебе! Имя во мраке. Фанданго. Эти две бабы, уж прячется, лучисто, стекло зажглось, бакенбарды жженые. Толкают, директор в недоумении, «Купание в гареме», руками разводит, малахитовая шапка горит. Гордые устремления ума. Послевкусие, напал волк, сумерки. Колеи от колес, ручейки. Иду, иду вверх. Догнал грузовик, обрызгал с головы до ног. В мутном небе, высоко-высоко, хоровод чаек. Рыбачий поезд из Лебяжьего. Шум-гам, красные, обожженные, глаза блестят. Сундучки, коловороты, бушлаты, ватные брюки, валенки. Весь вагон пропах рыбой. Купили корюшки, 1 кг — 50 рублей. Прозрачный мешочек серебра тут же взвесили на безмене. Петергоф в тумане. Белогрудые птички прыгают по веткам. Суд не состоится. Подкатил к остановке, двухэтажный, как в Лондоне, сидеть мягко, с ветерком. А платить тетя будет? Гуляли. Седые веточки. От воздуха пьяные. Снежок самоцветный. Начал ей что-то говорить и запутался. Купили зелени, шампиньонов, крабовых палочек, две пачки чая. Серенько. Сырой, пронизывающий, из-за угла. Семнадцатая реминорная соната Бетховена. Первое апреля, маловерные. Груда срубленных ивовых прутьев с набухшими почками у дороги, запах свежести, как у Гоголя в шестой главе «Мертвых душ». На пивной бутылке Степан Разин в красном кафтане, подбоченясь, плывет по Волге-матушке. Патагония. Пингвины купаются в бушующих зеленых волнах. Их игры, плеск, радости. Сардиния. Нурагийские могилы гигантов. Святилища воды. Бодрый-то бодрый. Хаотично как-то. Стол с утра пьяный от солнца, апрельская яркость, шатается на ножках, как паук, писать немыслимо. День певучий, расчирикался. Пошел прогуляться. Созерцал грязь на дороге. Фантастика! Призывал духов земли и воды. В канаве поток бурлит сквозь зубы что-то нечленораздельное. Почернелая ветка встала поперек горла. Два пузырька, сцепясь, бьются у этой преграды, крутятся-крутятся, не разлучатся, а вода звенит, поет. Пошел за хлебом. У магазина ножи точат. Рыжая струя бьет из-под диска. Потом с собачкой пошел гулять, несу на руках, пусть подышит. Пруды, рисовальная школа. Девочки подбежали. «Ах, какая прелесть! Как вашу собачку зовут?» Одна, самая маленькая, вся в веснушках, воскликнула: «Вырасту, тоже стану такой хорошенькой!» И гладит мою собачку по ее золотым кудрям, а ногти у девочки, вижу, как у взрослой, в маникюре. Дома не сидится, а надо картошку варить в мундире, а то через час голодная явится, меня съест. Документальные съемки. Разгерметизация. Дырочка-то с пять копеек. Через 20 секунд — потерял сознание, через 40 — сердце больше не билось. Черная болванка космического корабля в голом поле. Мечутся, копошатся. Шашлычком тянет. На заливе лед. А там? Ангелы? «Никогда здесь лебедей не видела!» Она восторженно смотрит, глаз не может отвести. Вон они — семь белоснежных, в полынье плавают, в туманно-голубой дымке. Праздничный перезвон монастырских колоколов. Песок и снег. «Верба твоя!». 10 апреля обстригали яблони. Блеск велосипедного звонка на закате. Дух Святый найдет на тебя. Опять Петергоф. У сестры суд, квартирная тяжба. Смазать надо — колесо Фортуны к нам и повернется, улыбаясь до ушей. А так — зря башмаки топтать. Ольгинская улица. Сижу тут на скамейке. Принц Гэндзи. Синичка тренькает. Прошла девушка, крылато и дивно, колыша черными крыльями распахнутого пальто. От стен охристо. Кондитерская, так вот она. Купили глазурованных сырков, сушек с маком и славянский пряник в виде сердца. Сидим, лопаем. Церковь, ров, мостик, желтые цветочки, вода бежит, светловолосая, монеты на дне. В «Океане» купили кету. Садовая взрыта, песок, доски, бульдозер. III рассказов Александра Грина. Жара 20 градусов. Космос пахнет. Две банки сардин и миндаль. В них кальций. Ей врач сказал. Пыль, толпа, девушки оголенные, в блузках. У сирени грудь набухла, вот-вот брызнет. Того чая в Апрашке уже нет. Ладно. Еще погуляли по Невскому. У нее вдруг заболели ступни. От босоножек, подошва плоская, а она привыкла носить с изгибом. Еле дошла до дома. Гул самолета. Четверг. Черемуха выпустила коготки. Везем саженцы в коробке. Ивы — золотой рой. У кленов лапки. Раскрыл окно голый и долго дышал. Она, провожая, поцеловала три раза. У поликлиники наклонил ветку тополя и нюхал. Клейко. А там — радуга! Откуда, красна девица? Май, вихрасто. Шел через лес. Старый цыган спит под елью, как желудь, фуражка, сапоги. Черный столб, усы-струны. «Кашка» в цветущих шапках. Книга попалась, автор утонченный: паутинкой пишет. Цыгане в вагоне, шумные вишни. Положили на полку над моей головой громадный букет голубой сирени. Сижу, вдыхая, девятый вал. Пьер Сулаж в Эрмитаже. В глазах черно. Оверни. Дольмены. «Гудрон на стекле». «Что до меня, прежде всего я…»
Троица. Бархатцы, День теплый, облака плывут. Выпили по рюмочке. Она заплакала. Бабушка ее любила, холила. Влажно. Кузов самосвала. Нежгучий диск. Сижу у Казанского. Длинноногие девушки. Ну, вот: телефон воды в рот набрал. Треск за ушами. Она от врача, исследование груди, в молочных железах нашли какие-то звездочки. Ничего хорошего. Идем к метро, у нее камень на сердце, говорит о системе лечения Шевченко: тридцать миллилитров водки с маслом каждый день. Тополя трепещут. Вещие зеницы. Надвигается… Кто-то подошел к порогу и говорит, говорит… Очнусь: дождевой хвостик махнул на стекле, и опять — ничего. Невский, бежим под одним зонтом, брызги. Конь взвился, Клодт за узду держит. Опоздаем на Скриба. «Актриса Адриана Люверкуль». В первом ряду слева, под локтем оркестра. Арфистка просит ее извинить: она своим золотым лебедем загородила мне видимость. Если я не пересяду на другое место, то я вот так и буду смотреть на сцену сквозь струны ее арфы. После концерта идем за кулисы. Поздравить дирижера. Он завален розами. У него машина на Фонтанке. Дождь хлещет, мутно, дома. Протирает тряпкой лобовое стекло. Это ведь белые ночи! Вышли, шатает, тополя, шелест этот, запах влаги. Наша — Лени Голикова. Лежу на спине, рябь сна. Тополиный пух на закате между домами. Гулял по дороге. Голая девушка вешает белье в саду, золотоволосая, белокожая, чудо-девушка. А солнце ярко, а трава зелена. Ушла, оставив влажное пятно у меня на простыне. Сны. Один щемящий, другой — о том, как хвалили мою новую книгу. Ей тоже снится. Красная змейка. К болезни? Накрасилась, убегает. Семинар маркетингов. Я — в Стрельну, волны послушать. Амазонка на вороном жеребце, желтоволосая, в черном корсете. Девочки купаются, плещась и визжа. Две лежат в лодке, свесив за борт ноги. Тоненькая, индианские волосы. Гуляет с догом. Гитары женских фигур на лужайке. Клевер нежный. Ставила мне банки. Не присасываются. Машет факелом с горящей в спирту ватой. Полотенце загорелось. Пожар чудом не устроили. Плачет, сноровки нет. Уехал. На стене играют, мягко колышась, два изумруда — овал и треугольник. Дунет — и они взвиваются, расплескались, пляшут, обезумев, как волны. Эту скоропись не прочитать. Спал без снов. Сегодня на стене мечется изумрудный обруч — то вытянется, то сожмется, вспышки зеленого огня, водяной рот. Камешек — Гималаи. Ёкнуло. Не случилось ли чего? Понесла нелегкая в город. Электричка-то последняя. Приехал: ночь. Метро закрыто. Такси не для таких. Пешком по Обводному, лесовозы, полусвет этот. Пьяная у парапета, в канал свесилась. До Нарвских ворот, по Стачек, вышел на шоссе. Теплынь, белые ночи, гуляют, смеются, столики на тротуаре. Без пяти четыре. Рассвет на ресницах. Звоню-звоню в дверь. Сонная: «Ты с ума сошел?..»
Птичка с желтой грудкой сидит на ветке, не шевелясь. Второй час уж сидит. Потемнело. Ливень грянул. Бесценный ты мой! Стоим с ней на кухне, выключив свет. Вспышки молний, как на экране. «Грандиозно!» шепчет она, прижавшись ко мне. Семнадцатое июля. Миклухо-Маклай. Из окна мчащейся электрички вижу синюю вспышку электросварки — в дверях депо. Тополя, зной, грозовые тучи. Старуху убили на лестнице. Милицейская машина. Усачи зевают. Толпа. Голоспинные, голоногие женщины. Следователь звонит нам в дверь. Белобрысый ежик, в майке. Не видели мы что-нибудь из окна? Не сцепляется, постоянные ошибки. Грезящий часовой. Поставлен сторожить отражения облаков в канале. Платят блеском золотых монет. Она стоит в спальне, как царица Пальмиры, Зенобия. Один раз в 50 лет после арктического шторма рождается великая волна и катится в океане, пока не достигнет берегов Австралии. Там ее ждут эти безумцы, сорвиголовы. Сёрфинг. Летят на своей досочке по гребню гигантской волны — бездны на краю. Их звездный час. Очи синие. Бегу на берег. Тюрьма смыта. Вихри пузырей… Просыпаюсь. Беспощадно ясно: рассвет. Цыгане кричат на улице. Двадцать девятое июля. Жара, тополя плавятся. Брови балконов, знойное небо. Ваниль из булочной. Ее шелковое золотистое платье потемнело на спине от пота. В соломенной шляпке, вьются ленточки. Воскресенье. Пошла покупать мороженое, очень уж хочется. Развесное, в вафельных стаканчиках. Спускаюсь по лестнице и вижу с последней ступени: за распахнутой настежь дверью нашей парадной на бетонной площадке дрожит золотой утренний свет. Едем. Низкое солнце бьет в окно мчащейся электрички. Голова цыганки впереди, над спинкой. В медных волосах — черная с серебром бабочка-заколка. Жаркие, конские. Качает. Шатобриан, шатры. «Ибо меланхолия — это плод страстей, бесцельно кипящих в одиноком сердце». Чайник свистит, закипая, пар из носа, Эдгар По. Возвышающее возбуждение! Девушка идет под черным, как ворон, зонтом, юбочка, длинные ноги грациозно изгибаются в коленях, туфли на шпильках цок-цок по асфальту, обходит лужу. Шелестит под дождем мокрая листва тополей. Стою у раскрытого окна и смотрю сверху с третьего этажа. В одной руке тарелка с овсяной кашей, в другой ложка, замерла у рта. Таких белых, таких красивых ног сроду не видывал. Грустно я живу. Ненужно, книжно. Капли, срываясь, падают с изъеденного гусеницей листа. Слежу за их полетом, но так и не могу разглядеть: достигают ли они земли. Она стала похожа на красивую, зрелых лет японку. Горбоносая, осанка, прическа, яшмовый гребешок на темени. Загорает на крыше, читая книгу. Притягательно-телесна сквозь листья вишни. Кусками — ноги, плечи. Нырял, светло-зелено, столбики. Вода холодна. Купался долго, с радостью. В переулке музыка. Умрет. А звезды?.. Ждет на дороге, голова туго обвязана белым платком, по-крестьянски. Мария. Обивал фанерой. Вихри, Брукнер. И всегда-то он начинает так торжественно. Говорит: вчера листала альбом с фотографиями, и ее поразило мое лицо, где мне уже 50: такая на моем лице безнадежность. Купался, вода бурная, мрачная, столбы торчат, как зубы, мокрые, черные. Никто не купается, один я безумствую. Вылез, стою, обдуваемый северным ветром, бронзовый, как папуас. Капельки стекают, щекоча. «В смерти — жизнь». Это название первоначальное. А потом ему другое, овальное, в голову пришло. Так вот и собираю камешки в книгу. «Я твоя старая, больная мать». Видит машину — ночной призрак, слышит шаги по лестнице. Лампочка лопнула, как последнее солнце. Город, дождь. Тот пепел.
Видели журавля на реке. Вода вихрастая, бьет в нос. Белый гриб нашли в папоротниках. Переодевается под обрывом. Светловолосая, рослая. Надела через голову красную рубашку и пошла босиком. Ей в Гатчину, к пожарному инспектору. Какие-то перерасчеты. Сидела в парке на скамейке: проголодавшись, ела булочку. Говорит, в юности любила гулять одна в парке осенью. На нее находило это глубокое меланхолическое настроение, до слез, до спазмов, горькое наслаждение одиночеством, увяданьем, и мысли такие… Иду через лес. Красно-золотистый свет дрожит на соснах. У Байрона в 37 лет были седые кудри. Повез на войну в Грецию любимого гуся и цезарок. Собачка наша ощенилась. Слепые комочки пищат в коробке. Мадагаскар. Бой хамелеонов — за самку. Поединок рыцарей. Их оружие — цвет тела. Устрашают врага, меняя окраску. У кого грозней. Побежденный, отступив, угасает, становится черным — знак поражения. Самка выползла из чащи. Благосклонная к победителю, принимает светлые тона. Апраксин двор, очки, булыжник блестит. В музыке мало Музыки. Голые стены. Куда я попал? «Извините, вы военную пенсию получаете?» — спрашивает меня седоголовый, высокий, по виду полковник. В аптеку, что-нибудь… Девушки колышутся, криво усмехаясь. Куда они бегут? Фанфарный обвал в конце пятой симфонии. Во Флориде акулы загрызли шестерых. Стрельна. Котенок мяучит. Серенький. Кошка делает вид, что не слышит. Две женщины остановились, мать и дочь, огорчаются. Хотят поймать котенка и отнести кошке. Да не тут-то было: удрал в заросли. Вот какие тут дела. Девушка в белых штанах ведет за рога велосипед. На багажнике, свисая, болтаются гибкие стебли тростника. Взглянула на меня странно. Старуха в панаме ушла в траву. Присела, задрав желтый, плоский, как доска, зад. На песке загорают три пожилые женщины. Без солнца. Тихо-серебристо, как лунной ночью.
Вагон, дети, все куда-то едут, празднично одетые, день субботний. Черт понес на проспект Обуховской обороны. Книги. Купил даосский трактат по алхимии. День странный, в хвостах и перьях, ветер этот, небо высокое. Она приехала посвежевшая, просветленная. Привезла грибов. «Ах, как чудно в лесу!» — говорит. Глаза сияют. Продавец книг, подвижный, как на пружинах, кричит мне: «Вот какая книга вам нужна!», сует мне в руки. «Даосская сексология. Управление своей жизнедеятельностью». Ему секунды не устоять на одном месте, крутится, скачет около своего товара, выдергивает книги из кучи, бросает, глаза белые, кричит поверх моей головы: «У меня в тридцать не было столько энергии, как теперь, на шестом десятке! Работать, работать надо!» Вернулся. На обед пшенная каша с тыквой. Она в черном платье. «Парсифаль». Брукнер на коленях от восторга. А Вагнер ему: «Умерьте свой пыл, Брукнер. Спокойной ночи». Через полгода Вагнер умер. Лагаш. Столица Шумера. Глухой старик — царь. Нужна ли мне эта встреча? В Стрельну поболтаться. Дети, волейбол, арбуз едят. «Лидия Николаевна, идите сюда!» Пьяная парочка. Он, лысый, разгневанный, убегает. Она, толстуха, краснорожая, в летнем костюме, плетется, шатаясь. Он, обернувшись, в ярости: «У, б…! Надо же так нажраться! Валялась целый час в траве и еще и сумочку посеяла!» Она, обиженно, надув губы: «А мне, думаешь, приятно, что мой любимый мужик спит со всякой сволочью! Мне, думаешь, это очень, приятно, да?» Снег чаек на камнях. Тина гниет. Обломки перламутра. Шумерки в бусах, магический шнурок вдвойне обвит вокруг талии, неснимаемый от рождения до смерти. Оберег. Шерингтонова воронка. Шумерские дома без окон. Города: Ниппур, Шуру пак, Киш, Урук, Ур. Понедельник. Битва ворон и чаек в темном небе. Падают, кружась, перья, черные и белые. В Эрмитаже Вермеер. Тихий Амстердам. Выбрались. «Идет мне эта помада?» — спрашивает. «Оттого, что ты все время занят своей литературой, я перестала чувствовать себя женщиной», — говорит она печально и смотрит куда-то поверх крыш. Дочь Саргона — верховная жрица города Ура, Энхедуанна. Кирпич Экура горькую песнь поет. У стены с левой стороны встань! У стены слово я тебе скажу! Стон и плач. Бегут в чалмах, кричат, рвут в клочки, топчут и жгут звездный флаг. Телефон: «Это у вас убитая бабушка?» Луна на двоих. Тебе какую половину? Полунин, нос помидором, бежит, бежит… Горящий поезд… Просыпаюсь: октябрь, второе. А когда первое было? На лестнице окурок курит. Эпоха Сун. Танзания. Нгоро-нгоро. Кратер, а дыма ни колечка. Еще не проснулся, черт вулканический. Трокай — древняя столица Литвы. Витовтос. Листья, рушась, издают этот звук. Липа, светоносная, под дождем. Вокзал, голуби, уныло. Чайка летит, плача и стеная. Роют янтарь. Им нравится — работа на вольном воздухе. Глиняные ямы глубиной в 10 метров. Вручную, лопатой. Кусок янтаря, 300 грамм. Редкая находка. Альбом для Кусто. В акваланге и маске рисует под голубой водой алые кораллы — «Оленьи рога». Боги гаснут. Остров Пасхи. Принесла щуку, в раковине не умещается, леопардовая. Уху варить. Книгу нашел: «Путешествие в южных морях и странах». Листаю, дивные картинки. Гигантская, белая птица несет в когтях девушку. Девушка в обмороке. Птица летит, стоя, как человек, обняв девушку крыльями и держа ее клювом за ворот рубашки. Роман Жуковского «Томас Мур». Странно. Не читал. Стою с этим романом в руках в полном недоумении. Невский, мглисто. «Изысканная французская посуда и подарки». Обнаженный женский торс с тарелкой вместо головы. Ремизов: о сновидениях в русской литературе. Продавщицу где-то встречал. Взглянула многозначительно. Вдова с букетиком. Поздравляли юбиляра. Сбежал. Второй этаж, Дом Книги. В зеркале, мельком: мышиная кепочка, зонтик. Есть новинки. Аметистовый том. О, на килограмм тянет! Хлеб наш насущный… Раскрыл на середине, вижу: «Оцелованы жемчугом синим узды…» Канал в огнях. Делаю гимнастику с гантелями перед открытым окном. Замок на горе. Говорят: Кировская больница. Октябрь. Драконы-тучи. Желтые фонари на шоссе. Строительные краны, как нашествие марсиан. Рваные халаты, чалмы, бегут в поле, хватают коробки с неба. Гуманитарная манна. Грязные бороды, дикие, птичьи глаза. Бухта Мурманска, снежная буря, катер борется. Нахохленный лейтенантик, сын командира «Курска». Вспоротое брюхо погибшей подводной лодки. Перешиблен позвоночник. То ли чех, то ли серб. Черные стрелы летят в пепле. Вода и куски льда, гремя, низвергаются в корыто, которое стоит посреди комнаты. Плач ребенка за стеной. «Чадо ты мое!» — говорит чей-то молодой женский голос. «Вот он!» — указывает на меня железный палец. И все бросаются с визгом и воем. «Не бойся! — говорит кто-то. — Это обыкновенные люди». Гулял. Белый мотылек во мраке порхнул у глаз, чиркнул о ресницы. А там, над соснами — око ночное. На шоссе огни бегут. Петергоф. У автобусной остановки едим яблоко. Из пруда лезут утки и селезни. Обступили, переваливаясь на розовых лапах, попрошайки. Промозгло. У нее ноги замерзли в тонких ботиночках. Говорит: «Я стою на краю бездны, а ты ничего не видишь, кроме своих книг».
У Казанского купили фильтр для питьевой воды. Тут дешевле. Она бледна, черный берет надвинут на брови. В Апрашку. Ищем игрушку для Ванечки. Колеса красные, кузов зеленый. В железных воротах споткнулся, она уже далеко, ее пальто в толпе, как лист сухой. Сзади толкают. Речь нерусская. Черный аспид-булыжник. Малахитовые глаза на пояснице. Для ценителей холода. Был такой Го Сян. Заманчивая философия. Возвращаемся домой. Ветер ураганный. «Возьми зонт обеими руками!» — говорит она сердито. Луч электрички светит ей в глаз, слепя. «Она мне в глаз светит!» — воскликнула изумленно и горестно. Спал чутко. Стук крупы в окно. В среду к ней пришел сапожник. Обсуждали починку обуви. Заря, бульдозер. Не оживит вас лиры глас. Вскакивают, кричат: «Бумага — друг писателя! Бумага — друг мысли!». Речь председателя: «Зажжем огни, нальем бокалы». Терминар. Ночь мутна. Сам я на грани таянья. Старик удивлен: что это я стою на дороге, задрав голову. «Белочка там прыгает, да?» В Эрмитаже «Золотые олени Евразии». Купил елку. В квартире оттаяла, запахла. Чудная елочка.
Седой рассвет. Январь. Она в ночной рубашке, села на постель. Смотрим в окно. Селена. «Ты говорил, нельзя смотреть, когда на ущербе». Снег сырой. Дети бегают. Красные кони по шею в снегу. Воробушки тоже живут. Снилось необычайное и необъятное, как небо… Эта муть, огни, машины. Мир ловил меня, но не поймал. Аббат, тулузец, задира, острослов, убийца. 38 лет, немало. Трамвай 55, Орбели. Купил лимон на площади Мужества, а метро затоплено. Гипоталамус — центр психической энергии и полового влечения. Находится в мозгу, на заросших тропинках. Вот и твое второе февраля. Метель, как обещала. Слышно: хлопья стучат по шапке с опущенными ушами. Не разумети языку их. У нее приступ мигрени. Капелла, солнце звенит. Приснилось: будто бы мы с ней ночуем в каком-то доме. Она разделась и легла. Вдруг вспомнила, что забыла что-то взять. За этим надо идти с парадного входа. Там уже закрылись на ночь. Стучу. Наконец впустили. Ищу это, зачем она меня послала, и вот, вижу в окне: большой дом начинает двигаться к нам через площадь. Мрачная громада, с башенками. Ближе, ближе. С ужасающим грохотом. И встал вплотную к нашему дому, окно в окно. И вот, вижу, в том окне: тускло золотится прислоненная к стеклу иконка. И вот этот страшный дом начинает отодвигаться обратно. У нас крик, выбегают. Я — тоже. Какая-то беда. В том крыле, где она… Там огонь взвился. Вой пожарной машины. Прорываюсь сквозь толпу, смотрю: белые халаты выносят на носилках кого-то, завернутого в простыню, и уносят бегом. «Кто это? — кричу вдогонку. — Кого вы несете?» Не отвечают. Какая-то старуха, санитарка: «Вы М. спрашиваете? Да, это М. понесли. Сильно обожжена». Комната полна людей, молодая женщина-врач с засученными рукавами. Спрашиваю у нее, жалкий, плачущий: «Как вы считаете, все обойдется?» Она не отвечает. Холодно отвернулась и продолжает что-то делать… Утро. Она стоит в переулке, подставив лицо солнцу. Ее черное пальто, меховая шапка. Колесо повернулось к теплу и свету. Пошли гулять. Она собачку несет в сумочке. Все восхищаются нашей собачкой. Останавливаются, спрашивают: откуда такое чудо? «Из Китая, — отвечаем. — Собачка китайского императора!»
Пары гуляют, сцепясь пальцами. Так апрель! К вечеру у меня жар под сорок. Валяюсь вторую неделю. Я — плод случайности холодной, я — всей вселенной властелин. Эдвард Лицхауэн — создатель кораллового замка во Флориде. Маленький латыш. Родился в 1888 году. Несчастная юношеская любовь. Раскрыл тайну постройки египетских пирамид. В одиночку построил громадный дом-замок из коралловых глыб, которые он вырубал на берегу. Унес тайну в могилу. Моне. Насмотрелись досыта. Дворик Капеллы в апрельском солнце. Сидим на скамейке, греясь в лучах. Музыка из окон. Еду. Цветущая яблонька в депо, как невеста. Летучая мышь бесшумно кружила между домов, возвращаясь в ту же точку. Круг за кругом, черный платок. Борт лодки многокрасочный, как ковер, и по нему бегут, играя, золотые змейки. Век бы смотрел. Бесконечная радость. В Стрельну, а там строительство. Ограждено, изрыто, бульдозеры-бронтозавры. Потрясенный, не знаю, что и делать. Нашел лазейку. Бегу вдоль канала, какие-то агрегаты, ржавые жерди, черные змеи на земле. Кабель тянут, вой, скрежет, рвы, глина, цемент. Посреди этого кошмара чудом уцелел куст сирени, чахоточные лиловые грозди. Сварщик спит на лежаке из досок, в робе и шлеме с опущенным на лицо забралом. Потревоженный шумом моих шагов, приподнял голову и опять опустил на свое жесткое ложе… Петергоф, туман, заросли роз. Поссорились. Это я считаю, что не из-за чего. Она уже давно так не считает. Мы исчерпали себя. Пора расстаться. Пора, пора… Вот заладила. Чуть ни каждый день твердит. Выпили пива за столиком, помирились. Петровское, янтарно-пенное, в хрустальных кружках. В голову ударило. «Так еще поживем вместе?» — говорит она полувопросительно. Гуляли пьяные под раскидистыми липами у прудов. Она восхищалась уткой с выводком утят. «Смотри, смотри: плывет, гордая! Мамаша! И эти малявки за ней следом не отстают! Как привязанные — куда мать, туда и они. Десять утеночков». В Эрмитаж Тициана привезли из-за океана. «Венера перед зеркалом». Ты мне, зеркальце, скажи… Вернулась-то вернулась, да временно. У них культурный обмен. Выходим. Седая сивилла сидит на стульчике, продает театральные билеты. «Фигаро» в Мариинке. Ну что такое в наше время двести рублей! Космы седее соли, а лицо молодое, одухотворенное, певучее, ни одной морщины. Глаза дикой птицы. На дворе Капеллы концерт. Балалайки из Иркутска. «Вот у них куража много! — замечает она. — У артиста должен быть кураж, а у тебя его нет». Все стулья заняты. Рябь брусчатки. Не у стены же стоять, где толкают, кому не лень. Нам еще счет за телефон хоть застрелись заплатить. Не помнит: в этом как будто. Нет, в том! Точно! Дома-близнецы, так чего я удивляюсь. Торопимся, а то закроется, нырнув под ветви, под цветущими липами. Ах, медоносные, как пахнут!.. Ну вот, успели, заплатили в окошко. Одна гора с плеч. Зато другая, черная — в небе! Нависла. Затмила весь свет. «Бежим скорей, а то ударит!» — кричу и показываю на тучу. Ей хочется апельсина, сочного, и вина какого-нибудь хорошего… Утро встречает прохладой. В небе гривастый шлем. Отгремело. Свежесть. Дорога в голубых глазах. Иду. Четыре девочки, смеясь, взявшись за руки, перегородили, не пускают. Река веселая, у нее радость: купальный сезон открыт. Смотри-ка: до чего хороша! Серебряные обручи в ушах. Осторожно вошла в воду, плывет, разводя беду руками. Одежда лежит на широком пне. Украду, спрячусь в кустах, и поглядим: что она будет делать? Накупалась. Выходит. Тело блестит в капельках. Одежда ее там же, на пне. Никто не покусился. Розовая блузка через голову надеваться не хочет, сопротивляется, липнет… Мы с ней идем по песчаной дороге. Этот поход у нас давно задуман, и вот — осуществляется, как мы видим. Жалобно воет собака с подбитой лапой. Старая церковь из потемнелых бревен, купол блестит медью. Баба высоко на колокольне дергает веревку, раскачивая два маленьких колокола. Праздничный трезвон. Первое сентября, день нашей свадьбы. Гулял один ночью. Фонари в тумане. Магический круг этого сиянья. Попал в него — пропал. Пропал навеки! Будешь, околдованный, зачарованный, кружиться вокруг лампы, как этот безумный рой. Кого тут только нет! Хвостатые, змеистые, червеподобные — извиваются, кувыркаются, вертятся колесом, пляшут, как скоморохи. Нет, страшно стоять у столба ночью и смотреть вверх на это дьявольское наваждение, на это неистовство загипнотизированных насекомых! Вдруг и меня туда затянет!.. Вот и ведьма! Я говорил! Старуха в платке сторожит у канавы извержение вулкана. Жерло костра мечет искры, и вслед за ними, рассыпая огненные перья и озаряя этот мрак, вылетает Жар-птица!.. Ничего, ничего. Улетит, и у нас ночь сомкнется. Останется ночь. Едва видная серебряная паутинка. Ось вселенной. Ей снилось: будто бы она на болоте, босиком, и на нее какая-то баба с топором бросается, и рубит ей пальцы на ногах. А ей весело и ничуть не больно. Глядит: вместо пальцев у нее на ногах длинные когти, как у птицы. Октябрь. Мглисто. Серебряная труба на канале. Ямщик, не гони лошадей… Азербайджанский, пять звездочек. Бутылка плоская, непривычная, эксперт вышла, бровь подняла, раз хвалит, надо взять. Захмелели. Она плясала и пела. Давно уж я не видел ее такой самозабвенно веселой. Вчера прочитал: «У абхазских воинов «песня ранения» заглушала боль, как наркоз». Декабрь, третье. На Лиговский: телефонный аппарат сдать в починку. Мастерская у метро. Выйдем — вывеска в глаза бросится. Ищем, озираемся. Нет, что-то не то. Она тут сто лет не была, вот мастерская и сбежала. Идем, проспект шумит, огни, мрак, машины. Решетка чернеет, сад в снегу. Старинный дом с балконами. «Интересно, кто в этом красивом особняке жил?» — спрашивает она.
СЕРЕБРЯНАЯ ПЫЛЬ
Жарко. В раскрытое окно моего третьего этажа заглядывают зеленые кленовые носики. Стучу с утра на машинке. Дятел, долблю буковки. Тополиный пух летит, летит, июньский путешественник, гуляет по квартире из комнаты в комнату. Ах, уж этот неотвязный, вездесущий тополиный пух.
Первый час! Где туфли? На охоту идти — собак кормить.
У метро старухи продают ландыши. Последние ландышики.
В саду тенисто. Свежая травка. У фонтана толпа. Серебряная пыль, ключ отрадный. Лжедмитрий, Мнишек.
На дорожке остро блестят кристаллики кварца. Идет, задумчивая, увидев, вздрагивает. Она, видите ли, забыла начисто, в котором часу мы договорились встретиться. Вылетело у нее из прекрасной медноволосой ее головы, вылетело, как воробышек. Ах, ландыши! Я их уморил, изверг, они же едва дышат! Такая уж их участь, говорю. Она не согласна, надеется бедные цветочки оживить, несет к фонтану. Перегнулась через барьер, окунает букет в мутную, бурную, замусоренную бумажками, в пене и пузырьках кружащую, вихрастую воду. Этот ее жаркий, пыпный, медно-блещущий конский хвост на спине, это марево, этот мираж, ум мутится, голова кругом…
Свободная скамья в конце аллеи. Рупор орет, приглашая на освежительную автобусную прогулку к Петергофским фонтанам. Мраморная нимфа разомлела на своем пьедестале. Голуби-бродяги, клюя, крутятся у наших ног.
— Как дела? — спрашивает.
— Плачевны, — отвечаю. — Пишущая машинка на ладан дышит.
— Который час? — спохватывается она. О! Ей пора! Она же предупреждала: у нее только одна минута. За ней слежка, за каждым ее шагом. Бинокли с балкона. С Купчино как на ладони, все видят. Нет-нет, провожать не надо.
Зимний, площадь-пустыня. Столп нерукотворный. Понурые лошадки, запряженные в прогулочные кареты с поблекшими золотыми орлами, страдая от жары, поджидают чудаков-пассажиров. Удаляется, легкая, гордая. «Куда! — кричу. — Стой! Проглотит арка Главного штаба!» Не слышит. Машины. Пот льется с меня ручьями. Какой жаркий день!
КЛУБНИКА
Знойное утро. Лиловый пепел. Столбик ртути у нас за окном ясно говорит о тридцати градусах по Цельсию. И это только начало, до каких вершин жары он еще поднимется, он не берется предвещать. Не исключено, что мы спечемся по дороге, как картошка в золе костра. На ней пляжная соломенная шляпа с широкими полями; по выражению её лица не скажешь, что она горюет.
Лужская электричка без нас не поедет. Мы — последняя капля, переполнившая вагон. Стоим, стиснутые, в проходе. Она обмахивается шляпой, смахивая столб за столбом, станцию за станцией, до Сиверской. Тут народ вышел. А мы дальше едем, сидя у дующего окна.
Не доезжая Луги вышли и мы. Тут мшисто, болота, чахлые березки, черно, гарь пожарища. Мы с ней бредем по расплавленному шоссе, ее хоть спасает соломенная шляпа, и она надеется, что ей все-таки хватит сил доплестись до тенистого, прохладного места; что касается меня, то, по всей вероятности, меня с минуты на минуту свалит солнечный удар.
Домики, огороды. Вот он! В шиферной шапке, труба блестит. Две сороки, белобокая парочка, растрещались, как на базаре, хвостами машут. В доме прохлада, дивно было бы отдохнуть, посидеть, а то и полежать на диванчике. Да вот беда: торопиться надо. Не отдыхать мы сюда приехали, а клубнику собрать с грядок. Успеть до грозы. Смотри: стоит на краю неба, темная, как Сатана, ведрами погромыхивает. Грядки огнем горят, полымем полыхают, жар, как из раскаленной печи; клубника переспела, осыпается; нагибаясь над грядкой, мы голову словно в огонь окунаем; а корзины наши бездонны, видно, их век не наполнишь; в глазах кровавые чертики скачут…
Собрали, внесли в дом. О, боже! Какое блаженство! Лежим в чем мать родила, я на диване, она — на тахте, отдуваемся в прохладе, как рыбы в пруду, на дне, в тине. Вдруг она подняла голову: «Гремит!» Точно: гром. Брызнула змейка. Раздался другой удар, резче, будто рядом. Осинки у канавы низко согнулись. «Успеем. На шоссе автобус ходит».
Вышли на шоссе. Корзины тащим. У меня две больших, у нее — две поменьше. Стемнело, как ночь. Кто-то с громким треском разодрал на груди рубаху от края до края. Ударили капли. Ну вот… Пропала клубника!.. Прошумели шины. Старичок из дверцы: «До станции?» Только влезли — и ахнуло! Грохот о крышу… Смотрим: на краю дороги — фигура. Пытается накрыться прозрачно-синим плащом из пленки.
ЭДДА
Июль. Знойно. Уезжает в город, оставляя меня наедине с грядками. Тыквы поливать. На дороге спохватилась: «Шляпку забыла!» Жасмин осыпается. «Приеду в четверг», — говорит мне. Дошла до поворота, обернулась, кричит: «Береги огород!» «А ты себя береги! Себя!», — кричу в ответ. Она как-то грустно улыбнулась.
Живу привольно, радуюсь одиночеству. Погода не меняется. Люблю жару. Зной этот, ни ветерка, купаюсь в реке, пишу. Пишется хорошо, не остановиться, время летит. Сижу в тени под яблоней на скамейке, марая лист за листом. И не замечу, как уж пятый час. Живот есть просит. Вечером поливаю огород: помидоры, огурцы, кабачки, тыквы. И цветы в палисаднике. Потом иду гулять по дороге, километров шесть, до разлива. Мое любимое место, на крутом берегу, над обрывом. Сосна моя. Каждый вечер я прихожу сюда, стою, прислонясь спиной к теплому, шершавому стволу сосны, смотрю на закат. Смотрю, не мигая, провожаю солнце — оно уходит, золотое, за рекой, за лесом. Оно поет, уходя, и играет на златострунной арфе. И каждый раз я слышу эту музыку и жду с тоской: вот замрет последний звук, и в мире сделается темно. В реке купаются, плеск, крики. Под обрывом идут женщины с детьми. Дети удивляются: почему я так долго стою и смотрю на солнце? А женщины объясняют: дядя глаза лечит, есть такая методика — смотреть на закатное солнце, лучи тогда мягкие, нежгучие, и надо смотреть, часточасто моргая. Вернувшись домой, качаю воду из колонки, наполняю бочки и корыта для завтрашнего полива, чтобы вода успела нагреться за день. Потом читаю до полуночи, потом — в постель. И сплю до восьми утра, и вижу сны, и не помню их, проснувшись, так, мелькнут какие-то хвостики. Распахнув дверь, выхожу на крыльцо.
А там новый день, новое голубое небо, новое солнце, уже высоко, горячее, поет петухом. Блестят маслом листья малины. Стрижи и ласточки чертят небо.
Ни дождинки. Парит. Снял первый огурец. Четверг. Приедет вечером, как обещала, обрадуется урожаю.
Полночь. Не приехала. Видно, дела задержали. Завтра утром приедет.
Утром прислушиваюсь. Она приедет до жары, иначе в электричке спечешься. Вагоны бегут, рябя, за соседним садом. Через десять минут она будет здесь.
Выпив чая в саду под яблоней, беру ручку и начинаю писать; увлеченный, строчу лист за листом, не отрываясь, забывшись, давно так не работалось. Затылок печет, безотчетно передвигаюсь в тень. Очнувшись, замечаю, что солнце прошло полукруг и уже склоняется к западу. Шестой час. Приедет ли она сегодня? Мне так хорошо пишется.
Вот уже десятый день, как она не едет. Погода переменилась, задул ветер, ураганные порывы. Он не холодный, он — теплый. Огурцы прут, снимаю по двадцать в день. Куда мне такую прорву? Кабачки вымахали. Невиданной величины. Уложил в доме на полу, в ряд, как фугасы. Гляжу: и тыквы выкатились — желтые шары под широкими зелеными лапами.
Вечером, как всегда, к разливу. Стою, прислонясь к сосне; ураганный ветер, налетая, размахивает хвойными лапами у меня над лицом. Солнце ушло в тучу, и в мире потемнело раньше, чем вчера. Не знаю, что же это за дела такие, что так долго задерживают ее в городе. Можно бы позвонить с почты. А то — сесть на поезд и поехать. Да нет. Наверное, она хочет дать мне побыть одному.
Погода испортилась. Грозы, ливни. Теперь поливать огород не надо. Тучи работают. Вечером, после грозы, иду гулять, как всегда. Две девушки голышом купают коня в реке. Конь вороной, белая звездочка на лбу. Выехала верхом на берег, амазонка, без седла, подгоняя пятками и хлеща рукой по мокрому лоснистому крупу. Другая бежит следом, кричит, груди бьются. Стою у моей сосны над обрывом, смотрю сверху. Солнце, уходя, золотит травинки за дорогой и зонтики дудочника.
Снилось: будто бы я играю с каким-то диковинным существом — полукошка-полудевочка. Эту девочку-кошку я обнимаю, лежа, глажу ее по животу и груди, а она говорит, что не любит ласк с тех пор, как у нее умерли родители. Ее зовут: Эдда.
Купаюсь перед грозой, вода в реке теплая, черная; трава подняла удивленно высокие дуги бровей. Плыву и кричу ей: «Эдда!» Мигнуло. Капли клюют воду. Высоко на берегу, над обрывом, под елями стоят две голые молодые женщины. Я вылезаю из воды и смотрю на них снизу. Одна — юная, белокожая, красивая, с тонкой талией и крутыми бедрами, широко расставив ноги и закинув руки за затылок, густые черные волосы тучей падают на плечи — поет, беззаботно поет какую-то веселую песню. Ей хорошо, светло, она счастлива, это — Эдда. Гроза начинается… Ласточка слетела с ольхи, как серебряный лист. Мы с ветром читаем книгу в саду на скамейке. Ветер так быстро листает страницы, то к концу, то к началу, читая в обе стороны, что я за ним не поспеваю, и все у меня в голове перепуталось: трава, листва, тучи, ласточки.
Снилось: будто бы я в какой-то компании сижу за столом и пью вино. Подходит Эдда и садится рядом со мной. Статная, красивая. Солнечный день, ветер продувает комнату, залитую ярким светом. «Когда же мы будем одни?» — спрашиваю ее. «Позже, — отвечает. — Позже».
Вернулся с гулянья. Отворяя калитку, вижу, что занавеска на окне веранды так же полуотдернута, как я ее оставил. В саду мелькнуло платье, и знакомый голос позвал меня по имени. Нет, показалось. Пусто. Бочки и корыта с водой.
Гуляю. Мглистый вечер, накрапывает, дорога в лужах. Обогнали четыре девочки, идут, взявшись за руки, озорничают, толкая друг друга в лужу, смеются.
Не едет уже третью неделю. Июль кончается. Лодка в тумане. На плотике отец и сын, голые, гребут руками. Отец брюхатый, сынишка, как лягушонок. Костерок, музыка. Девушка лежит навзничь, руки под затылком. Юноша сидит на корточках, подкладывает в костер ветки. Пламя пляшет, веселое, золотое, языки разговаривают, торопясь, захлебываясь, перебивая друг друга. И эта мелодия. Ах, тоска, тоска! Болтаюсь вот один по берегу. Темнеет. Мокрый мох на березе. Стою тут, прижавшись к этому мху щекой.
Тревожно шелестит сад, трава пригибается, лопухи выворачиваются серебряной изнанкой, как раковины. В этом саду поселился дух тревоги.
Снилось: будто бы кто-то дал мне ружье и повелел стрелять в петуха на дворе. Поднял ружье, целюсь. А петух черный. В черного стрелять нельзя.
Цыгане идут в лес за черникой. Ведрами машут. Сидят на берегу под елью, когда я иду купаться. Тарабарят на своем языке, громко смеются. Смола горит янтарем. Ель статная, липкие губы. Эдда, Эдда… Цыгане собираются ее спилить. Я случайно подслушал их разговор. Они вполголоса обсуждали это злодейство, поглядывая на ель, один цыган держал в руке топор, другой — пилу. Днем они не решаются. Придут ночью.
Почему бы не позвонить с почты? Тут два шага. Через пять минут все узнаю. Или — ехать в город. Два часа — я там. Тревога растет. Неизвестность. Не выдержать мне этой страшной тревоги.
Заперев дом, иду к реке. На том берегу — крутой, краснопесчаный обрыв, где мы приставали на лодке. Там, на обрыве, сосна высокая, к суку привязан трос с перекладиной: раскачавшись, прыгать в воду. Тот берег похож на этот, близнецы. Раздевшись, связываю одежду в узел. Вхожу в воду. Молоко. Держа узел, гребу одной рукой. Узел тяжелый. Тяжелей свинца. Захлебываюсь, но узел выпустить не хочу. Сжимаю еще крепче. Ни за что не выпущу. Утону, но не выпущу.
РЕБЕНОК
Второй месяц беременности. «Буду понемногу собирать для младенца — что полагается, — говорит она мне. Она подсчитала: событие должно произойти в конце октября. Тридцать три года — возраст опасный для первых родов.
Февраль кончается. Метель отбесилась. Свет забрезжил в этом туннеле. Все висит на волоске… Прибор такой есть: утробу просвечивает. Беременность протекает без отклонений, плод развивается нормально. Гора с плеч. Веселая, распевает. Уже купила комплект для новорожденного и по вечерам шьет распашонки.
Март. Ребеночек уже оформился. Душа есть, вселилась, слетела с безымянной звезды. В газете: астролог, составляет гороскопы за доступную плату. Петроградская сторона, Большая Пушкарская. Нашей почте требуется почтальон. Мутно. Небо пустое.
Август, сентябрь, октябрь. Ребенок уже стукал ножкой, пробуя прочность материнского чрева. А вчера и головкой повернулся к выходу, готов на старт. Последняя консультация в поликлинике. Все в порядке. Предвещают — как по маслу. Она извелась, у нее тревожные предчувствия, сны: акушер руки моет, а тут — собаки, мясо со стола стащили, пучеглазые, как жабы. Каштан золотой у нас в переулке.
Родила, ночью, 29 октября, сын. Поехал к ней в родильный дом. Хризантемы. «Почему я не чувствую никакой радости? — спрашивает она меня. — Должна бы радоваться, а радости почему-то нет». Сегодня она спала без снов, как мертвая.
Я смотрю на свои ладони — пусто, нет судьбы. Будущего у меня нет.
КАРИАТИДА
Муж у нее в командировке. Мы могли бы вместе выпить. И вот я вообразил себе… Про нее говорили…
В винном очередь. Она предпочитает водку. Мы с ней пара: она — высокая, статная, пышная, голова гордо закинута, улыбочка эта двусмысленная на алых губах блуждает, я — воробей, до плеча ей не достаю. Мы должны пройти в дом незаметно, она не хочет, чтобы соседи видели. Доложат мужу. Сначала она, я подожду под липами минут десять, потом поднимусь к ней на шестой, а она будет следить в щелку приоткрытой двери: нет ли кого на лестнице.
Вот я у нее в квартире. Ни одна душа не видела, как я вошел в дом, как она меня впустила в дверь. Пьем водку по четверть стакана. Она показывает свой свадебный альбом фотографий. Вдруг выпал снимок: она стоит голая в какой-то комнате, и улыбочка эта. Ее ничуть не смутило явление такого снимка, она спокойно позволила мне себя рассматривать. Потом она легла на кровать, потому что у нее голова кружилась. Я лег рядом с ней, но она попросила ее не трогать. Уже поздно. Час ночи. Мне пора уходить. Просто ей скучно одной, смертельная скука, она не выносит одиночества, ей делается жутко, когда она остается наедине сама с собой, подруг у нее нет, родителей нет, никого нет, муж в отлучке второй месяц, ни поговорить, ни выпить — не с кем. А я такой человек, меня нечего бояться, она сразу раскусила, я — воск, лепи, что хочешь… Ее клонит в сон от выпитого, размягшая, язык заплетается, но она непреклонна, подталкивает меня к двери.
Нечего делать, раздосадованный, я ухожу. Иду по шпалам всю ночь. Теплая июльская ночь, заря разливается на бледном востоке.
Проходит неделя. Она пригласила меня искупаться вместе в озере. Такая жара, а она еще ни разу не купалась за лето. Одной скучно, к тому же она плохо плавает. Воскресенье. Встречаю ее на платформе. Улыбаясь, выходит из электрички, на голову выше всех. Кариатида.
Искупавшись в озере, она замерзла. Солнце спряталось, небо затянуто тучами, ветер налетел, раскачивает клены у платформы, пахнет грозой. Сидим на скамье, она дрожит, не согреться. Обнимаю ее крепко-крепко, прижав к себе, она дрожит все сильней, губы посинели от холода, сидит неподвижно, не шевелясь, не слушая моих утешительных слов, по ее щекам катятся слезы, катятся и катятся, как капли дождя по вагонному стеклу.
ГРЕЗЯЩИЙ ЧАСОВОЙ
Невский. Троллейбус несется на всех парусах. Матросы, всплеск за бортом, светлей лазури. «Северная Пальмира» — обрывок разговора. Морозные пальмы растут на льдистом стекле. Растут в середине мая. Северная Пальмира, северная Пальмира, утёс горючий…
Удар грома. Илья-пророк. Лиловый, забрызганный. Пассажиры, пузыри с бульвара, лопаются. Дождь долго не протянет. Рога, повернув, стряхнули молнию. Чижик-пыжик, где ты был?.. Мокрые липы. Лужи дрожат. Круги тревоги и смуты. Шаги, шины. Кваренги, глаза, облако, жеребец, афиша.
Не мелькнет ли тот плащ? Нью-Йорк, Нагасаки. Проспекты, стертые солнцем. На каждом углу ждут приключения. За спиной звенит мое имя. Как упавшая на тротуар монета. Смотрю: никого. Нотный магазин. С нашим атаманом не приходится тужить…
Часами стою, задрав голову на какое-нибудь дерево, здание. Тополь в мокрой листве, дворец. Целый день не расстаюсь с книгой. Забываю обо всем.
Рыбак, землекоп. Черный, как туркмен. У Казанского. Шлем майского шума, клинопись теней. Встряхнуться. Юные, яснолобые. Что у них на уме? Эти истории — у всех, со всеми. Болен, влюблён. Вечер и ночь. Сон под утро, растаявший, как лепесток вишни. Мойка, Фонарный мост, переулок Пирогова. Дама червей, заигранная, затасканная, из той колоды. Морозный узор, Пальмира, Иштар, Зенобия. Бродить, бормотать, пересыпая из ладони в ладонь, из ковшика в ковшик (что они все таращатся на меня, как на утопленника!) пригоршню жемчужных женских имен.
Эта лестница вызубрена наизусть. Круглый год. Плюя на погоду. Дождь, снег, мчусь сюда. Мы, кажется, знакомы?.. Метель, сумасшедшая, в мае, машет мокрыми рукавами. Тут фотоателье, надо подняться на третий этаж. Метель гиблая, падает, бьется головой о тротуар, о стены, разметались седые космы. Брат, муж, никто. Зачем я сюда забрался?.. Просят улыбнуться, чтоб снимок получился веселый. А я разучился улыбаться. Хоть режь. Корчить рожу, как желтый ботинок с развязанным шнурком, кислей лимона.
Книги кричат с витрины. Новинки. Песчаная буря, охра пустынь. «Как он обрадуется!» Автор смерчей и вихрей. Сирокко, самум. «Ты что, с луны свалился? Горячка? Глаза залепило? Той песчаной книги нет. Рассыпалась. Приснилась…» Пожимают плечами. Бывает. Зрительный обман. Глядишь на что-нибудь, а черт тут как тут: подменяет эту вещь на другую так ловко, что и не заметишь фокуса. Злые шутки. Как с этим жить? Мне к Московскому вокзалу. Там встреча. Невстреча. Чует сердце: зря. Попаду в впросак. Беда со мной.
Захлестнут. Мост. Душит шею вожжой. Что-то такое в воздухе. Дышу, не надышусь, как смертник. Приговор во всем: в шуме листьев, в звуках, запахах, красках. Опоздал. Прости. В глазах темно. Часы встали.
УДАР ДРАКОНА
Смывая, спеша. Горный хрусталь. Осенью поздней, порою ночной. «Эй, на задней площадке!» Свернет на Суворовский. Черти занесли… Заячий переулок. Кафе. «Грета».
Из-под арок. Монашки прячутся. Брызжет, шерстинки бурнуса, трехглавый Эльбрус. Каменные. Не любят гордых. Надменный, намокший, шумел камыш. Пивная, раки. Мужчина и женщина, квадрат и круг, небо и земля.
Бесповоротно. Лелеемые бумаги. Исход. Ячейка с номером. Белел краешек. «Спасибо, не надо».
Падало, пело, переливалось через край. Радость! Захлопал в ладони. Далеко ехать, туда… Водопад, буря пены: голубь чистит перья.
Возносятся, в ожерельях золотистых пузырьков, спеша к двенадцатому удару, к подножию стены далекого Китая…
В ресницы, в ноздри. Куда ветер дует. Триста лет, при Петре. Перины на тротуарах. Что тут мыли? Качается, катер, береговой ее гранит. Бутузы с гроздью пыльного винограда. На третьем. Раскрыто!..
Сказала: в десять. А все наоборот. Сдаст ключ на вахте. Рушатся миры. Мокрый рентгеновский снимок. Эти вот косточки?.. Стоит передо мной, как лист перед травой. Куда нам плыть? Нет, это изумительно! Майский ветер у тебя в голове! Растеряла все свои наполеоновские планы. Вот доживем до возраста ее тетушки, тогда будут у нас «Былое и думы». Вперед, вперед, рабочий народ! Тучи над городом стали, в воздухе пахнет грозой. На красный, под колеса…
Она так и знала: первый же наш совместный шаг кончится катастрофой. Свеженаложенная тушь, как сова, среди бела дня глазами хлопать.
Пора поднять, забыл… Это уже третий, с таким грохотом, в город. Стерлось, хвостик. Мутно, туман, накурили, стучат по клавишам. Осколки, не склеить. «Оставь их в покое!» Машинистка, рыбья чешуя, пруд.
Рассыпал соль. Ножницы серебристой рыбкой: рот косым крестиком, на хвосте два колечка. Мрачно, сыро, Днепр, Дунай, ревела буря, гром гремел. Черные, остроконечные. Воду возят в железных бочках. Басы на лестнице, вносят, ставят на попа. Зеркальный карп. Отречемся от старого мира! Начнем новую жизнь. Начнем, начнем!..
Метался, бред, смятая постель. Светло. Свернуться калачиком… На песке долины… Завесить, зеркало, двойники, масоны, айсберги, титаны, удар бортом, сине море. Адам, закат, для чего вышел я из утробы? Не дочитал. Стерто, смыто.
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
На Мойке. Швейная. Июнь, тополиный пух. Болтали. Пошел, оглянулся: машет ручкой. Сирень, жара. Приезжала. Голубая блузка, рыжие кудри. Взволнованность. Сентябрь. С юга. Абхазия, Новый Афон. Октябрь, споры, доказывал свое. Вышел, ночь, окно, звонкий смех. Ноябрь, седьмое, мокрые хлопья. Камышевого цвета плащ с капюшоном, на меховой подкладке. Стол, локоть. «Идите-ка прогуляться!» Вино, яблоко. Ночь, снег тает, парк, по глоточку, поцелуй, ель, пальто… Вокзал, голуби. Зачем я заглядываю ей в глаза? Поезд, позвоню, через денька три. Распевал песни. Набрал номер. В трубке тревожный голос: «Где? Когда?» Михайловский сад, скамья, замерзли, как кочерыжки. Натоплено. Скатерть белая. Хризантемы. Тихого голоса звуки любимые. Виноград, на свечку дуло. Молния зимой. Стрела Амура. Брачная ночь, голод не тетка. Утром стучит в окошко, в ватничке, картошечка, закутанная в кастрюльке. Ах, вкуснятина! Туманное, седое. Талый снежок. Не уезжай ты, мой голубчик. Я ехала домой, душа была полна… Пора, пора! Дома у нее с ума сходят.
Простудилась, голос пропал, потеряла голову, слезы разлуки. Мосты сожжены. Рабочая электричка. Мчится, предупредив своих, что не будет ночевать дома, током трясет, шлея под хвост, спит и видит мою походку враскачку. Вот кто-то с горочки спустился. Моряк красивый сам собою. Стук в окно. Пугливая птичка. Палец к губам, просит шепотом: «Тише! Тише! Всех разбудишь!» Снимала черные венгерские сапоги на высоком каблуке и, держа их, шла в чулках, на цыпочках, крадучись, в мою спальню, как будто она совершает преступление. В ноябре, в декабре…
Хмельные головушки, морозная ночь, озеро. Легли на лед, лицом к звездам. Тишина. Кружатся. Серебряные чешуйки рыб.
В НАШЕМ ДОМЕ НЕТ ТИШИНЫ
В нашем доме нет тишины. Голоса, голоса — весь день, всю ночь. Стук дверей, скрип пола. Кто посмотрит в круглое, глубокое, как омут, зеркало у нас на стене, тот непременно умрет. Пойдет по тонкому льду, провалится и утонет. Возраст смерти отца. Веселый гуляка был мой отец. Струна, туго натянутая, вот-вот лопнет с жалобным звоном. Надел чистую смертную рубаху. Льняная, навыпуск, как у крестьянина. Отцова рубаха. Сижу, белый петух, шея длинная, жертвенная, жду-жду. Нож придет в гости — полоснет по горлу. Спасибо скажу, низко поклонюсь в ножки.
ГОЛУБАЯ ЦАПЛЯ
Выпив чая, сидел у окна. В сад опустилась птица в серебристоголубом оперении, с золотым хохолком, похожа на цаплю, большая, человеческого роста. Ходит на длинных ногах, грациозно покачивая туловищем, среди цветущих яблонь, как сияние, и зовет меня, произнося незнакомое имя, странно звучащее, составленное из гортанных звуков, на каком-то неизвестном языке. Может быть, это древний язык гор, которых уже давно нет в мире. Тогда меня звали так.
Я вышел в сад. Цапля ждет. Смотрит в лицо. Не как птицы, а по-человечьи, двумя глазами, не мигая. Взгляд спокойный, царский, черный, как пруд ночью.
ПАУТИНКА
Прилетает из Цюриха. Просит встретить. Почему-то восьмое ноября, а только что было седьмое. Это не холмы. А что? Смятая постель горюет о снеге. Безутешная вдовушка. Мертвый летчик в траурной раме сада. Ночью упал с неба. Лежит, бездыханный, башкир, голова разбита, зубы оскалены, как у волка.
Тучи строят крепость. Бастионы, башни. Чует беду. Колеса ревут, замирая. Во сне видел Швейцарию. Будто бы мы живем у Женевского озера. Там, у озера, проложены рельсы, везде рельсы, вот и гуляй, спотыкайся. И о чем только думают эти швейцарцы? Шлиман, Елена. Они с севера. Монах на берегу Балтийского моря. Альбом. Пустынные волны несут свинец. Поезд, свистнув, ушел. Она в плаще, на перроне, как десять лет назад, глаза.
Запотело. У дверей вечности. Ветер расчистил дорогу в небе. Альпы, Анды. Паутинка бьется. Буре не сорвать, дождю не смыть. В осень глухую, порою ночной. Петушиное число семь: это оно скосило неделю. Календарь брызнул праздником. Площадь-ура, Кремль-пряник. Рой мокрых хлопьев. Друг пропащий, дно стакана. Лежит: бездыханный глиняный пласт. Нагорный парк разбит по приказу императрицы Александры Федоровны. Излюбленное место прогулок для петербуржцев. Полюбоваться увядшей природой, грустными красками. Под горой лежат матросы. И крепок их могильный сон.
Сырые кружочки на снегу. Враждебные вихри. Первый брак распался, как комок глины. Улица Тухачевского, затянутая ремнем на последнюю дырку. Весь мир тюрьма. Мельпомена. Плащ камышовый, намокший, озером пахнет, колышется на крючке вешалки. Черная вода, мостки, тонкий ледок. Жаркий шепот, зеница ока. Волосок хмурый, упал с головы, без ведома. Медная паутинка не выспалась на моей подушке.
ГОРА
Черная стая. Летят, каркая, на Лысую гору. Спит. Еловые веки, пещеры ноздрей. Бульдозер, расчищая дорогу, сломал свою железную челюсть. Намело, не пробьешься. Без крыльев — никак, локоть кусать. На столбах звенят стеклянные сливы. Прожектор! Шарит на вершине. Что он там ищет? Бутылку с шабаша? Молоденьких ведьм, прилетевших на метле?.. Гора крута, уши под шапкой. Кровавогрудый снегирь ехал вверх, держась за трос. Кандидат в чемпионы. Приятного катанья!.. Крик отскочил от горы и ударил в грудь. В груди что-то лопнуло. Трос? Струна?.. Разлилось горячее. Пещера, сидит человек со свечой. Бульдозер под горой ожил, дернулся. Начал расчищать снег на дороге. Огонек свечи качнулся.
СМУТНЫЙ ГОД
Тополиная метель. Набивается в желобки и ямки в растресканном асфальте. Пух взвевается и опадает. Мойка. Мутная борозда тянется за катером. Казанский. Барклай де Толли. Обещали грозу во второй половине. Алфа и омега, первый и последний. Толпа. Яблоку негде упасть.
В саду сыро. Лист отделился от массы сестер и братьев и плясал одиноко, как пьяный. Черная, мохнатая гусеница. Первый час. Охотничьи товары. Летит в ресницы рой стальных спин. На тротуаре масло разлито. Фрукты. Желтоэтажно. Пыль, грузчики. Дверь с тугой пружиной. На лестнице темно.
Театр теней: тонкие, высокие, выпячивают губы — дуть на воду. Пальцы — козьи рожки на белой как мел стене. Лебединые шеи труб за облаками. Лесенка-пунктир. Взбираться — безумцам… Овчинка стара. Круглый гул. В скобках. Тревожно. Зарежут. Те тополя, они и ночью… Не-ветер. Скамейка с двумя оторванными планками. Песчаная дорожка, скрип новой осенней обуви. Чемоданы. Мертвый час. Двери с двух сторон распахнуты настежь, подушки-чайки, сонно-синие одеяла спящих.
Оса-почтальон. Жирный типографский запах. Склонились черные, мохнатые знамена. Нескончаемый некролог. Час ранний, чулок свисает со стула. Где-то с шумом льется вода. Стон в переулке с паузой в три секунды. Темно, дует. Скамья-цыпленок и что-то железное. Куда-то едем, молчим. Мандарины, грецкий орех. Сидит, подогнув ноги. Горькие чурбаки. Колонна усталых солдат на дороге, бегал под ногами луч бойкого фонарика. Память-смола, комья на сапогах. Небо-стакан, полный звездочек.
Бессонница, Борис Годунов, смутный год, песчаная шинель с рукавами в камышах. Боты месят грязь, рыданье, улицы-плакальщицы в шалях. Горечь сломанной черемуховой ветки. Целует глаза, прощаясь. «Мария! Постели скатерть с петухами! Гулять будем! Эх, гульнем!» Створки в сад. На белых рамах, на подоконнике — май. Щурится в панамке. Два холма веют прохладой, гроза брызжет свежим веником молний, выметает сор, гнет молодую травку. Снилась суровая местность, там текли могучие, бурные реки. Ревели реки, бесновались. Мы, вся семья, перебирались по шатким жердочкам. А тот берег — далеко-далеко, едва видим, смутный, в тумане.
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
Холодный май. Ледяная крупа. Оделись, как зимой. Проводил до метро. Каштаны цветут назло всем смертям. Она задыхается, у нее шалит сердце. Прощаемся. «В семь?» — спрашиваю. «Думаю, не раньше», — отвечает. Ее зеленое пальто с черным меховым воротником, понурая спина. Спускается по ступеням. Не обернулась.
Ну, настоящая метель! Когда-то меня и непогода радовала. Что непогода? Каждый день для меня был праздник. А теперь не то, не то… Бреду вот обратно домой один.
В квартире мрачно. Собачка, золотистая, как солнце, лежит в коробке, с ней щенята, два черных слепых комочка, сосут ее, пиявки, оттопырив хвостики. Собачка меньше кошки, шерсть, как золотые волосы, длинные, до пола. Сейчас они заплетены в косички по всему телу, чтоб не мешали щенятам сосать. А щенята такие махонькие, что оба на ладони у меня помещаются. Все семейство укрыто шалью. Собачка наша ощенилась девятого мая, в День Победы. Победительница. Насосались. Отвалились, сытые. Животики как барабанчики. Спят. Ничего, ничего. Через неделю глаза откроются, начнут из коробки вылезать, на простор, на волю.
ПО МОРЯМ
Дай якорь!.. Архангельск, Таллин, Владивосток, Одесса. Ледокол «Юрий Лисянский». Идет в Канаду. Заход в Гавр. Капитан — Владислав Августович. Шкура белого медведя. Иллюминатор поднял веко. Насос забортной воды. Авось. Кривая вывезет. Июнь. Балтика тихая, трется у борта. Берега бегут, друг Горацио. Пролив Скагеррак защемил руку. Посинела. Огни Стокгольма. Перекличка гудков. Струйка гари. Медный поручень. В машинном отделении поет одессит Горькуша, в наушниках. Собачья вахта. Бесшумное падение. Моторист Юхновец свалился с трапа. Лежит на стальных плитах, подбородок разбит. Блаженны спящие на своей койке. Под подушкой штормит Ла Манш. Гавр! Кудрявое пробуждение. Аврал над головой. Стадо слонов пробежало. Иллюминатор-лимон, сочится к чаю. Готовь швартовы!.. Гульнем, гаврики!.. Посейдон морщится. Проснись! Каюта в носу, под якорным ящиком. Качка. Грохочут цепи клубком змей. Тормошит Липовка, третий механик. Уплетать макароны по-флотски. Лбом к переборке. Тонкий дюймовый листик стали, отделяет от бессонных плесканий. Море-нянька десятый день качает в штормовой люльке. «Берег!» Бац о стальной бимс! Выполз на палубу, кровь глаза заливает, не видно желанного берега, не видно ничего. Отвели в лазарет. Перекись водорода, марля — земной шар три раза обинтовать. Царапина. Заживет, как на панцире морской черепахи. Горло «Святого Лаврентия». Стая китов пускает фонтаны. Катерок лоцманский летит, маша кленовым листом. Монреаль. Кок Шульце. Эстонец. Боцман Зобнин. Линда с подносом. Кокосы катаются. С Зеленого мыса. Дакар, Гана, Берег слоновой кости. Африка в жгутиках косичек. Вентилятор-шмель крутит на столе гудящую голову, дуя зноем. На баке, на шканцах — как мертвые… Штиль. Акула-молот, у борта, приклеенная. Ниже, ниже, к Нигерии. Рвать ленточку экватора. Рогатый черт в анархистской тельняшке. Пуэнт-нуар. Черная бухта. Кожура банана плавает. Акулий плавник. Грузить красное дерево. Ночь с Южным крестом. Простыня на носовой надстройке. Кинозал под созвездьями. «Белый рояль». Смотрят с матрасов, покуривая. Во фрахте. Тащить док за шнурок вокруг Европы. Бискай бушует. Оторвался. Ловили трое суток за хвост, Триест. Куба. Гавана курит сигару. Запахи зерна и зноя. Маис, какао. В глазах черно. Короткий рукав тропической рубашки. Мотор рулевого устройства сгорел. Угольные щетки, бензин. Купаться в Карибском море с мулатками. Ром, Родриго. Аквалангист. Снабжает осьминогами гаванский аквариум. Принесет одного, для чучела. Амиго? Одеколон «Кармен»? Стакан аккумуляторной кислоты вместо водки. Спутал сослепу. Севастьянов. Однокашник. Встреча в Риге. Друг детства. Засиделись с бутылочкой. Через ночную Ригу, в порт, к своей скорлупке, пошатываясь, легкая бортовая качка. Трап из-под ног прыгает. Наутро отчалили. Гамбург. Бомбей. Люди ходят все наги.
ДОМ
Станция «Медвежий угол». Замер гул. Две стальных змеи ползут. Рюкзак, сапоги. Через лес часа два, дорога ровная, доберусь и не замечу. Иду, пою. Лунный свет льется на ели, реет серебряной пыльцой. Тяжелый рюкзак кажется невесомым, как на луне. Он воистину невесом. Это чудо! Что-то с гравитацией. Сила притяжения не та. Неземной танец. Оттолкнусь и — лечу! Чуть ли не до вершин. Вот, кажется, протяну руку и сорву шишку, которая висит в колючем ухе красавицы-ели, как серьга. Один мой шаг — стометровый прыжок, полет, легче пушинки. Опускаюсь, опускаюсь… Опять толчок… Лес светится, он весь в бегающих огоньках, он играет. Гирлянды, бусы, свисают, раскачиваются, смеются. Кто-то за кем-то гонится под ветвями, под лапами, кто-то кого-то ловит. Шалят, куролесят, жмурки, пятнашки. Веселый лес! У него какое-то торжество? Я попал на праздник? То хлопнут по плечу, то толкнут в спину. Обернусь: никого. Только хвоя шевелится, и удаляется чей-то звонкий, задорный хохот. Леший? Кикимора? Сколько их тут, лесных чертей? Кругом глаза — озорные огоньки, бесенята, вьются, прыгают, скачут. Дотронусь до ветки — палец вспыхивает с треском и рассыпает рогатенькие искры, а они летят мне в волосы, и уж, кажется, волосы загорелись, и одежда, и весь я горю, не сгорая, белым огнем…
Лес отступил. Вот мост из бревен. Вода поет, заплетая косу. Струится коса, звенит песня. На том берегу, на бугре — дом, старый, некрашеный. Петушок на крыше. Петушок-флюгер. Глядит на восток. Там зарозовело. Пить хочется. Умираю от жажды. Колодец, ведро на цепи. Поднял, полное, прильнул губами, а вода в заре, зарумянилась. Утро разгорается. Цепь порвалась, колодец крякнул, открылась, визгнув, дверь в доме.
ЯРОЕ ОКО
В сентябре — на два дня в Новгород. Ярое Око. Ночевали у знакомой. Квартира новая, обои, мебель. За стеклом полное собрание каких-то петушьих томов. Для растущей дочери. Дочь спит. Так мы ее и не увидели. Нам тут постелено, на одной кровати. Она уж уплыла в сон, ровно дышит в стену, а я на краю лежу, боясь шевельнуться. Не спится. Часы тикают. Лепетанье, беготня. Ромашку обрывает: день-ночь, сушь-дождь. Подмочит нашу прогулку к Георгиевскому монастырю.
В отличие от меня она «сказочно» выспалась. Лучи янтарно горят на паркетных плитках. Один я смотрю тучей, омрачая день.
Клены в багрянце, золотая шапка Софии, мост, через который мы идем, идем, идем и оглядываемся. «Как пройти на Ильину улицу?» — спрашиваем у мальчика на велосипеде. Он рукой махнул, и его уже нигде нет. Ничего мы не поняли, куда он махнул. Как же мы найдем эту улицу, там Феофан Грек, мы на него посмотреть приехали, а иначе стоило бы трястись в автобусе.
Стоим у какого-то сарайчика на берегу, прячась от свирепости ветра. Она замерзла, жмется ко мне, ухо горит — розовеющая раковина. Серебрится чешуей Ильмень-озеро. Лодочник в резиновых сапогах несет весла. Бряцая цепью, отмыкает на лодке замок. Златоперые рыбы плывут у нас сквозь пальцы.
ЛОДКА
Бубенчик. В Батуми я не бывал. Она только что оттуда. Бронзовая. Южный загар не держится. Прут-струна в каплях. Бутылка, столбы, двоятся, троятся. Парк, ты, мы, сырая ночь, ель наша. Пальто на снегу. Направо пойдешь — женатым быть.
Стук в окно. В темноте лицо улыбается, бледное, взволнованное. Башня-свеча тает… С чемоданом к ней, в город. Квартира полна голосов. В тесноте, не в обиде. Май — маяться. Купим лодку и повесим у себя в спальне на стене. В рамке. Лодка пустая, без весел, на взморье под грозовыми облаками.
Ломоносов, бурный поток. На горе рынок, булки. Белый ажурный стул. На свежем воздухе посидеть. Солнце с поцелуями лезет. Ее черная велюровая шляпа с алым бантом, ее зеленые русалочьи глаза в смеющихся искорках. Ледяное шампанское.
Будка стрелочника. Поет петух. Шавка лает, рвется с цепи. Две струны — в Лугу. Пригревает на откосе. В бору нашли цветы. Не знаем, как называются.
Июль. Тополя пожухли. В кинотеатре «Комсомольский» неделя бразильских фильмов. «Донна Флора и ее два мужа». Очередь — год стоять. В сандалиях. Третий звонок. Ночи безумные. Одна возлюбленная пара…
Купили лодку. Катаемся по нашему Оредежу. Выкопаем в лесу калину да рябину, посадим перед домом. Латвия, Карпаты, снятся. Молоко с земляникой. Солдаты из траншеи на нее смотрят, лопаты свои забыли. Она в новом голубом платье с кушачком.
Огонек сигареты светился в темно-ореховом. Лежащий курильщик. Да он табак в рот не брал. Что-то мы с тобой перепу-тали.
Бессонница. Мать, беременная мной, ела зайчатину. Или давала соседям вечером жар из своей печи? Или, может быть, гость, пришедший к ней в дом, не присел хоть бы на мгновение? Положу я под подушку нож, топор, иглу, ключ, замок, веретено, гребень, зуб мертвеца. Поставлю за дверь, перевернутую вверх прутьями метлу, перекрещу окна кочергой. Осыплю постель маком, порог — дремой. Окурю укропом и тмином кровать. Ночная ночница, забери от меня бессонницу, отнеси ее в дальние места, в пустые горы, где петух не поет, где собака не лает. Курочки-рябочки, возьмите хлеб-соль, а мне дайте сон…
Сплю и вижу: женщина в темном плаще из речных камышей с откинутым на спину капюшоном неслышно проникает в наш дом, дотрагивается до меня спящего, и я лишаюсь сна навсегда. И сна и покоя. Это судьба, от судьбы не уйдешь.
Отцовская шинель с оборванным хлястиком…
Пойдем в лес, срежем барвинок на свадебный наш венок. На лодке поедем на тот берег. А весел нет, весла-то мы с тобой и забыли.
ЛЕТНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Июнь, занавески. Крым, Кавказ. Реки сохнут, горы крошатся. Бессонные глаза, ржаные поля. Зерна ночных огней, букет семафоров на скором столике. Туя, самшит. Зыбко, узор волны на полу. По полтинничку. А то так и умрем. Финский нож под боком. Челн убогого чухонца. Тапочки, мочалка. Ничего не забыли? С севера на юг — ногтем. На холмах Грузии, Арагва предо мною… Амурно-лирово. Адлер, арбуз прибоя. Тельняшка шпал. Лель с дудочкой. Дело к вечеру, солнце переломилось. Воробей-акробат под ярко-зеленым куполом березы. Пыльно-солнечно, вокзально. Прибытия-отбытия. Подали! Одиннадцатый, украинский акцент, отбирает билеты. Дрогнуло, поплыло. Вилами на воде. Серебряный подстаканник. Впусти воздух с поля. Кубань, купе, мухи, семечки, блестящие головки водяных змей. Лимонад теплый, выдохся. Белье дают сырое, за рубль. Раскочегарила кипяточек. Толчок под ребро. Туманная рябь взятых с собой букв. Не прочитать без фонаря на верхней полке. Прилегла, ноги поджала, голову прикрыла от солнца вафельным полотенцем. Свет и тень поровну делят власть над ее спящим телом. Ей снится Юсуповский сад, небо в парашютах, сердце колотится по-апрельски. Дом без полов, сирень-гроза, последний сеанс, волна экрана. Ах, кино! Кто тебя не любил в те незабвенные годы! Школа, липы, май, без чулок, тепло ногам. Сумрачно, Мойка, народный артист, клей и прохлада. Вещие сны, гуси у речки, молоко с земляникой, у бабушки, с луга. Пробужденье. Брови-колосья, ворона-станция. Локти гуляют по проходу. Курица в фольге, огурцы, помидоры. Лязг тормозов. Голоса на перроне, беготня, топот, ночные лучи. Что за черт! Стоять сорок минут! Безбилетные лезут в голову поезда. Проводница, золотые зубы, воркует с курилками. Убирает подножку. Душная клеть, потный лоб, щека отекла. Трясло, раскачивало, лес черной пилой летит в глаза, болтовня колес. Раки ползли, трава шевелилась. Тульские пряники. Родился там, где блеют бараны. Оставь, оставь в покое спящих. Жизнь полная. Ком в горле. Мокрая подушка. С бугров, косогоров, бессонно, бесшумно. Шторка-луна, набережная южного рая. Убаюкает в колыбели, бульканье, вздохи, затонувшие города. Спит, царица Савская. Стрелы огненные. За бесповоротной спиной. Орел? Белгород? Паспорт показать. Блеск, тень. Ехать и ехать, слушать и слушать.
МОЯ ЕЛЬ
6 марта
Вот я и вернулся под крышу родного дома. Теперь уж, надеюсь, я никуда отсюда не уеду и дотяну тут до своего конца. Последний раз я был тут десять лет назад. Теперь я тут один. Все мои в земле. Елочка, которую мои родители посадили в саду в год моего рождения — ее не узнать! Это ель! Не обхватить! Красавица! Стройная, разлапистая, шишки развесила. Радость ты моя! Ладно, поживем еще. Я книг с собой привез, кучу книг, целый кузов. Грузовик чуть не сломался, таща мою библиотеку сюда из города. Ничего-ничего, скучать не будем. Правильно я говорю? Чтения на мой век хватит, а это для меня главное.
7 марта
Эту ночь я плохо спал. Дом промерз. Пришлось встать посреди ночи и опять затопить печь, хотя с вечера я жарко натопил, не жалея дров. Толстое ватное одеяло, лыжный костюм, шерстяная шапка на макушке, только лыж и палок не хватало, вот как я спал и проснулся в восьмом часу с головной болью. Еще темно, сад в снегу, моя ель и над ней месяц — яркий гребешок. Не знаю, что меня потянуло, я надел пальто и пошел к ели. Она в углу сада, снегу много, я перелезал через сугробы, проваливался, наконец добрался. Стоял, гладил ее по потресканной коже, прижался щекой. Мне было так хорошо, как никогда еще не бывало в моей жизни, несмотря на холод в мире, тело ели было теплое и пахло смолой.
14 марта
Яркие, голубые дни. Колесо повернулось к теплу, и сегодня утром, я слышал, синичка пиликала у меня в палисаднике. Я не бил баклуши. За эту неделю я совершил много полезных, практических дел. Надо хорошо меня знать, чтобы оценить по достоинству проявленную мной предприимчивость и незаурядный энтузиазм. Не каждому дано так решительно преодолеть свою природную лень, победить вялость духа и из апатичного слюнтяя превратиться вдруг в человека с энергичным, кипучим характером. Не мешало б взглянуть в зеркало: не раздались ли у меня скулы и не стал ли подбородок квадратно-волевым, как у героя кино? Что ж скромничать, я горжусь своими подвигами. Во-первых, я сходил в поселковый совет и уладил там свои отношения с государством. С одного маху не удалось, я ходил в это учреждение четыре дня: там так много кабинетов, что в глазах рябит, и у каждой двери уже с раннего утра посетители толпятся, а очередь — черепаха быстрее ползет. Но я не роптал, а набрался терпения и справился с великим делом. Теперь у меня на руках документы с печатями и подписями юридических лиц. Любой может удостовериться, что я имею полное законное право владеть моим домом, в котором родился шестьдесят лет назад. Кроме того, я хозяин целого поместья: в моем владении двенадцать соток земельного участка! Во-вторых, я побывал в местном отделении милиции и получил новую прописку в паспорте. В-третьих, я нашел лесобазу и договорился, что мне привезут машину дров. Зима еще не махнула ручкой, а в сарае у меня три щепки. Это не все. Я насадил новый черенок на лопату (старый сломался в сучке при первом же моем напористом нажатии) и расчистил от снега дорожку к моей ели. Теперь я могу навещать ее, когда захочу, беспрепятственно.
20 марта
Мне привезли самосвал дров, пять кубометров. Свалено на дороге перед моим домом. Береза, осина, толстые, тяжелые бревна. Теперь их перетаскать на двор, распилить и расколоть. Сам справлюсь. У меня есть топор и двуручная пила. Я очень хорошо приспособился пилить один двуручной пилой, кладу бревно на козлы, прижму и — вжик-вжик. Словно я с невидимкой на пару пилю. Зачем мне чья-то чужая помощь? Кого-то просить… Просить для меня — хуже смерти. А нанимать — я не так богат; обдерут как липку. К тому же все они балаболы, у меня с некоторых пор появилось отвращение к новым знакомствам, я решил ни с кем тут не знакомиться и пока, к счастью, не видел ни одного соседа, ни справа, ни слева.
Весь день до позднего вечера я таскал бревна. Я вот что придумал: взял канат, связал петлю, затянул на конце бревна, с другого конца каната тоже петлю завязал, надел на себя через голову, на грудь, взялся, уперся, сдвинул рывком, и волоку, как бурлак, по снегу все равно что по маслу идет. Таким способом всё и переправил к себе на двор. Устал, работа, все-таки, тяжелая. Но зато никто теперь не будет меня упрекать, что я загородил дорогу и создал препятствие их ногам и колесам. Я человек аккуратный, люблю порядок, я даже весь сор убрал, ни щепки после себя не оставил, чисто подмел улицу, как будто тут ничего и не было. Совсем уж в темноте, когда заря погасла и первая звезда прорезалась, я пошел навестить мою ель. Стоял, обхватив руками и прижавшись щекой, без мыслей, в каком-то беспамятстве.
29 марта
Работа закончена. Я один без посторонней помощи распилил бревна, расколол чурбаки на ровные полешки и сложил в поленницу. Сарай заполнен доверху, и теперь я спокоен, дровами я обеспечен на новую зиму и в доме у меня будет тепло. А эта зима, похоже, растаяла в одну ночь и ее студеная душа улетела к своему суровому отцу — Северному полюсу. Она, как и я, вернулась в свой родной дом. Еще вчера снег пластом лежал в саду, а сегодня — ни клочка. Как слизано, ручьи бегут. В канаве — бурный поток. Так тепло, что я снял ватник и шапку, повесил их на колышки забора, стою тут у калитки и смотрю на быструю воду. Я люблю смотреть на бегущую воду, и на огонь тоже люблю смотреть, как он полыхает, яростный, и на черную, взрытую землю, и на ветер. Все четыре стихии мне любы. Есть и пятая…
— Что, утопленника нашел? — раздался голос с дороги. — Тут каждую весну утопленники всплывают. Оттают и всплывают в канавах. В прудах — как плоты, распухшие, мужик или баба, не разберешь. Тащи к себе в сад! Чего на него любоваться! Удобрение — высший сорт!
Смотрю: седобородый, в ватнике, как у меня, шапка набекрень, дед Мазай. Я машинально провел пальцами по подбородку — зарос, щетина. Так был занят заготовкой дров, что забыл бриться. Вот, думаю, стоит передо мной незнакомый человек, а как будто мой брат, у него есть тень, я тоже — отбрасываю свою, мы с ним родня, братья тени. Голова у него круглая — как небо, ступни квадратные — как земля…
Ель моя посветлела, каких-то птах приютила у себя в лапах, маленькие птички с желтой грудкой, а звону от них — заливаются колокольчиками — дин-дин-дин. В городе есть такие магазины, у ни входная дверь с колокольчиком, входишь-выходишь — звенит, тонко, мелодически, серебряной трелью. Я там бывал и не раз, с кем-то, кто был дорог моему сердцу, в старые, забытые годы, но что там, в этих магазинах продают — убей, не помню.
Я пошел к вокзалу купить бутылку вина. Никто тут мне не удивляется, ватник, сапоги, небрит — свой в доску. Туда шел по шоссе, солнце слепит, самосвалы с песком проносятся, ревя колесами, расплескивая лужи. Обратно — через лес, по корням, они, как жилы, змеятся. Железная кровать, чемодан, ржавый газовый баллон, черные волнистые диски с дырочкой в центре, сосновая иголочка по ним в вальсе кружится. А на этой что? Сличенко?..
Устроил пирушку: поставил табуретку под моей елью, сел, бутылочку откупорил, налил красного вина в стакан. «За что пить будем?» — спрашиваю. «Твой тост!» «Последний луч пурпурного заката, — поет она. — Я ехала домой, я думала о вас». Захмелел, не встать. Крепкие градусы. Крутится, меридианы. Звезд! Числа им нет! Вселенная!..
4 апреля
У меня столько хлопот по хозяйству, что некогда посидеть с книгой. Прежде всего, я решил выбросить весь хлам, накопленный поколениями. Чего только я не нашел в доме, в подполе на чердаке, по всему участку. Обувь без пары, ведра без доньев, морской китель без пуговиц, тазы, чайники, банки, склянки, кости, гвозди, ржавье, тряпье, склад бутылок, поршни, шланги, провода, пружины, части неизвестных механизмов, что-то, похожее на швейную машинку, как бы точильный мотор с наждачным кругом, как бы половина слесарных тисков, корпус от чего-то, сгнившие шкуры. Горы барахла, казалось, век не перетаскаю. Я нагружал тележку доверху и вез к лесу. Там у местных жителей устроена гигантская свалка, которая простирается на версту вдоль дороги. Я возил пять дней, с утра до ночи. Последнюю тележку, самую тяжелую, с железом, отвез сегодня. Едва дотащил, долго не мог отдышаться, сидя на пне в лесу. Зато теперь у меня и в доме и на участке аскетическая чистота. Оставлены только нужные для жизни вещи. Освободясь от дряни, я почувствовал большое облегчение, словно родился заново, теперь я другой человек и все у меня будет по-новому. На этой волне, и часа не отдохнув, горя нетерпением, я взялся за тряпку и швабру и сделал большую приборку в доме: вымыл полы, обтер пыль, смел паутину с углов и мертвых мух с подоконников. В доме четыре комнаты, чердак и подпол. Я сплю в уютной комнатке с окном в сад. Это восточная сторона, отсюда я вижу мою ель, она как на ладони. Тут же у меня рабочий стол и часть книг, им не хватило шкафов и книжных полок, и они сложены вдоль стен, как кирпичи. Нужен стеллаж, доски есть, рубанком я когда-то умел работать. Но это не к спеху. Удивительно: с тех пор, как стал тут жить, не прочитал ни страницы, не написал ни строчки и ничуть не тянет. Да, это ведь та самая комната, где я спал в свои ранние годы, когда дом еще был полон голосов, скрипели половицы и пели двери. Та же кровать, задняя ножка также выпадает из паза. Матрас, постельное белье, подушка. Старые друзья. Только теперь мне одной подушки мало, я кладу себе под голову две; не так давно, лет десять-двенадцать назад, я полюбил высокое изголовье. Раньше я спал на боку, я хорошо помню, на правом боку, как положено, а теперь я сплю исключительно на спине, вытянув руки вдоль туловища, словно солдат по стойке «смирно» перед генералом. На боку спать я совершенно разучился, и мне уже не свернуться калачиком, как бывало прежде, тело не желает, оно категорически против, и я не хочу с ним спорить по таким пустякам и пытаться сломить эту привычку.
10 апреля
Обрезал яблони. Они старые, много сухих суков, стволы расщеплены, поросли мхом и лишайником. Почистил, замазал садовым варом, побелил. Сучья собрал в кучу и разжег костер. Пламя плясало, огненные космы, шаман, бубенцы, изгонять злых духов из моего сада…
— Хозяин! — услышал я крик с улицы. Оставив костер гореть без присмотра, я пошел узнать, в чем дело.
Женщина с велосипедом. Агент страхования. Не только от пожара, от наводнений — тоже, от землетрясений, от ураганов, тайфунов, от извержения вулкана. От всех стихийных бедствий, вместе взятых. От любого рода несчастий; даже если метеорит вздумает упасть именно на мой дом, презрев соседей, то и тогда я получу в возмещение ущерба кругленькую сумму, которой буду несказанно рад, имея все-таки хоть что-то, а не пустые руки. Симпатичная, словоохотливая, и этот беретик… Да, у нее собачье чутье, этим она отличается, на другом конце поселка повела ноздрями — дымом пахнет. Вот и прикатила на дымок.
Проявил любезность, пригласил в дом.
— Какая чистота! — удивилась она. Сняла сапоги и, оставив их за порогом, вошла в комнату. Чулки тонкие.
Она писала за столом свои страховые квитанции, а я тем временем достал деньги из кошелька и, сжимая их в кулаке, ждал, когда она закончит.
— А книг-то! — заметила она, озираясь. — Как у профессора!
Проводив ее до дороги, я снял шапку. Жарко. Ее велосипед расплескивал лужи, она ехала, виляя, крепко держась за рога, которые, казалось, перестали ей подчиняться и вырывались у нее из рук.
Потемнело. Повалил снег с дождем. Я уже не мог работать в саду. Не смыло бы мою побелку с яблонь. А ель моя! Пошел к ней и опять, обняв ствол и прижавшись, стоял, слушал шум непогоды. Долго я находился в этом чудесном забытьи; с шорохом скатывались капли по иглам, хвоя вздрагивала.
15 апреля
У меня горячие дни. Тружусь как пчелка. Работы в саду невпроворот. Даже весело: такую кипучую деятельность я тут развел. Руки соскучились по лопате. Я же прирожденный землекоп, так и родился с лопатой в руках. У меня грандиозные планы: устрою у себя райский сад, посажу яблони с райскими яблоками, у них алые бока и черви их не смеют трогать — бог запретил. Начал копать участок за сараем — там картошке самое место. Земля, как пух, сама копается, припеваючи. Полдень. Цыгане орут с дороги, лица у них, как желуди, козырьки блестят, старый цыган и молодой, продают конский навоз. Я купил телегу навоза, перевозил в тачке на огород. На грядках будет тучная почва. Семена я привез из города, всякие овощи. Пошел с мешком на рынок. Старик продает картошку с синими глазками для посадки. Сорт «Чародейка». Не пожалею. Дома посмотрел по лунному календарю: какой благоприятный день для посадки картофеля. В полнолуние, оказывается, нельзя, не советуют. Ну, пусть. Нашел четыре железных бочки, почистил от ржавчины и покрасил суриком. Как пожарные. Поставил, когда высохли, с четырех углов дома, под водосток, мои часовые на страже с четырех сторон света, откуда бы туча не пришла, предупредят и примут удар. Мне бы еще водоем в саду. Думаю вырыть пруд, саду нужна вода. На дождь надейся, а сам не плошай. Да и мало будет четырех бочек при таком размахе моего садоводства. Решено — сделано. Сразу стал рыть котлован недалеко от того места, где моя ель растет. Она протянет корни в пруд и напьется вволю. Летняя жара не страшна, когда есть свой пруд. Я взялся за работу с большим воодушевлением, к вечеру сделал порядочно, углубился по пояс. За слоем глины пошел песок, копать легче. У забора нашел большой камень, перекатил его к ели. Он оброс мхом, как зеленый бархат, сидеть мягко, и что-то вроде спинки есть. Отличное кресло.
25 апреля