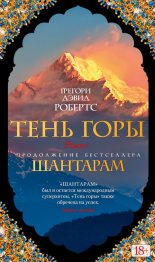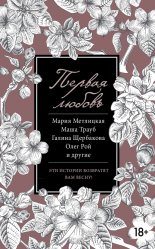Наш китайский бизнес (сборник) Рубина Дина

— Как это? Не понимаю. Его в могилу, извините, закопали?
Тут уже на нее все зашикали, что она оскорбляет память великого человека. На это она собиралась ответить, что великий человек — пусть земля ему будет пухом — сам по себе, а идиоты из его паствы, которые тревожат его тень, — сами по себе, — но не успела.
За Ангел-Раей зашел муж Фима, который беспокоился — ужинала ли она. Меня накормили, Васенька, успокаивала она его. Так, в обнимку, они и ушли домой. Жена Рабиновича Роксана давно поднялась наверх, в спальню. Ей завтра надо было рано вставать на работу.
Перед тем как уйти, писательница N. оглянулась. Сашка Рабинович и Доктор, со стаканами в руках, стояли у края обрыва и горячо о чем-то спорили. Речи их были темны и почти бессвязны. Огненный месяц-ятаган был занесен над их нетрезвыми головами. Фальшивые театральные звезды, безвкусно густо нашитые бутафором на черную ткань неба, пересверкивались с низкой топазов-фонарей на шоссе, далеко внизу. Богатейшая, перезрелая ночь раскинула влажные телеса и гулко дышала страстью на холмах Иудейской пустыни.
Впрочем, это слова какого-то романса. Неважно. Все это предстояло описать. И это было чертовски трудно. Но писательница N. уже знала, как следует повернуть диалог, на котором ее, едва наметившийся, роман буксовал последние три недели…
22
Витя сидел на лавочке у дверей барака в ожидании репетиции. Их лагерный оркестр был в полном сборе, ждали только контрабасиста Хитлера. Он должен был прийти, должен был, хотя и на посторонний взгляд было ясно, что в последние дни бедняга Хитлер совсем доходит.
Время шло, их лагерный оркестр был в полном сборе, а Хитлер все не показывался. Витя не хотел думать о страшном. Склонив голову набок, он тихонько подкручивал колки, настраивая скрипку.
Вдруг вдали показалась пролетка, на полном ходу летящая прямо на них. Через мгновение Витя различил, что правит ею мар Штыкерголд, в кучерском армяке, очень залихватский, а в самой пролетке сидит женщина, смутно напоминающая Фани Каплан. Штыкерголд осадил рысака, Фани Каплан соскочила с пролетки, ткнула наганом в Витину грудь и сказала:
— Вам предстоит перевести с иврита роман Князя Серебряного!
— И распространить его! — добавил с козел раздухарившийся Штыкерголд. — И никакого мне «Экклезиаста»! Только попробуй! Ви у менья увидите такого «Экклезиаста», что льюбо-дорого! У вас будет время собирать камни!
— Где Хитлер? — угрюмо глядя на этих двоих, спросил Витя. — Куда вы дели контрабасиста Хитлера? Что за оркестр без партии контрабаса!
— Хитлер повьесился ночью в уборной, — слегка замешкавшись, сказал Штыкерголд.
— Ай, ну повесился! Что, мы не видали «мусульман»? Играй так, и никакого «Экклезиаста», смотри мне!
Витя сказал, наливаясь праведным гневом:
— Я всегда ненавидел советскую власть!
Фани Каплан расхохоталась, а отсмеявшись, опять ткнула его наганом и заметила:
— Для таких, как вы, есть хорошая статья — 58-я.
— Девять граммов, по-моему, гуманнее… — ответил на это Витя, поднял скрипку и стал вызывающе наигрывать «Марсельезу», звуки которой через минуту слились с долгим лагерным гудком. И Витя силился вспомнить, что бы он значил, этот гудок: сигнал к обеду? Конец перекура?
Юля кричала: «Иду, иду, хватит трезвонить, кто там, я вас по-русски спрашиваю?»
Витя проснулся и понял, что в дверь звонят, а от тетки, как обычно, пользы, как с козла молока. Он поднялся, вышел в прихожую, молча отодвинул от двери Юлю, которая, поднимаясь на цыпочки, пыталась увидеть что-то в глазке, и открыл.
Это был Шалом, их сосед, болгарский еврей. Вот уже пять лет Шалом добровольно выполнял обязанности домкома, а это было непросто — выколачивать из старых евреев плату за уборку их обшарпанного подъезда.
Шалом был пожилым, церемонно воспитанным человеком, в прошлом — главным бухгалтером крупной текстильной фирмы. Обращаясь к собеседнику, он старался произвести на того самое приятное впечатление и, вероятно, во имя этого впечатления выучил за свою жизнь множество разрозненных слов на чужих языках. Он был уверен, что спрямит путь к сердцу любого человека, ввернув в разговор словцо на родном его языке.
Для общения с русскими Шалом тоже выучил одно слово, хотя и не до конца понимал его значение. Он только догадывался, что это свойское приветливое слово приятно будет услышать лишний раз каждому русскому.
— Впиздью! — Он стоял в дверях, улыбаясь дружелюбно.
— Привет, привет… — буркнул Витя. — Проходи, Шалом.
— Извини, что беспокою, но от этих, нижних, совсем не стало житья. Ты не поверишь, сегодня я наблюдал, как он мочится в парадном!
— Скажи спасибо, что только мочится. Шалом разволновался.
— Ты так пессимистично смотришь на это дело?
Витя пожал плечами. Что ему сказать, этому благовоспитанному старому бухгалтеру из Пловдива? Он уверен, что стоит только Вите поговорить с соотечественником, урезонить того, объяснить — какие достопочтенные люди живут в нашем доме и как нехорошо и не принято мочиться в парадном… О Господи, ну почему тошнит и от тех, и от этих, почему хочется вытолкать Шалома, этого милого старика, запереть за ним дверь, задушить Юлю и больше никогда, никогда не вылезать из-под одеяла?!
— Ну хорошо… — вздохнув, сказал Витя, — если ты настаиваешь, я с ним побеседую…
Он умылся, прыснул за шиворот дезодорантом, надел куртку и вдвоем с Шаломом они спустились к квартире номер один.
Дверь открыл сам алкаш, и Витя, мгновенно определив (все-таки он был старым опытным оркестрантом) степень опьянения этой свинцовой рожи, сказал:
— Привет. Ну-ка, выдь, друг…
— А чё? — засомневался тот. — Я ж вытер. Я это… болен был.
Стараясь, чтобы Шалом даже по интонациям его голоса не учуял страшную ненависть, горящую в его горле ровным кварцевым светом, Витя мягко проговорил:
— Слушай меня… — он длинно и подробно выговорил абсолютно непечатную фразу. — Если ты… если еще раз!.. если хоть раз еще… — Он стиснул зубы и вдруг почувствовал, что может задохнуться, захлебнуться подступившей к самому горлу тошнотворной волной. Он глубоко вздохнул и закончил вкрадчиво: —…То беседовать ты будешь не со мной и этим славным стариканом, а с чиновником министерства внутренних дел, который не без интереса проверит твои новенькие жидовские документы. Я тебе организую тут небольшой погром, ты по своему Саратову затоскуешь.
Забавно, что в этот момент перед ним вдруг вихрем протащили его детство в огромном дворе на Бесарабке, свору мелких дворовых хулиганов, вечно допекающих его воплями «жидяра», «жидомор»… как еще они его называли? По всякому…
И опять он почувствовал тошноту, тоскливое удушье и ненависть — к себе…
— В общем, ты понял, — сказал он.
— Сосед! — бодро, по-военному брехнул алкаш. — Нэхай будэ бэсэдэр! Поял, сосед! Только это… мы не из Саратова, сосед… Мы из Ельска, знаешь? Восемьсят кэмэ от Чернобыля… Чернобыль знаешь? У меня это… дочка болела, болела…
— Так работай, сука! — тихо посоветовал Витя. — Живи тихо, лечи дочку, будь евреем, блядь!
Он повернулся и стал подниматься по лестнице. Шалом за ним.
— Как ты с ним хорошо говорил! — радовался Шалом. — Как культурно, достойно ты с ним поговорил и — увидишь — это на него подействует. Я уверяю тебя — добром, только добром! Человека нужно убеждать, ласково и терпеливо.
Они остановились на третьем этаже, перед дверью в квартиру Шалома.
— Я думаю, он не будет больше мочиться в парадном, — сказал довольный старик.
Будет, милый ты мой, обязательно будет… Шалом открыл дверь своей квартиры.
— Зайди, выпей чаю, — сказал он. — Злата сделала гренки с сыром.
— Спасибо, Шалом, не могу… Мне сегодня еще газету верстать…
Старик протянул ему сухую морщинистую руку и проговорил умильно:
— Впиздью!
23
— Прошлый раз мы рисовали поездку на Кинерет. Сегодня рисуем свой дом, — сказал учитель Гидеон.
— Как это — дом? — спросил Джинджик. — Каждый рисует свой дом?
— Нет, — пояснил Гидеон. — Рисуем Неве-Эфраим, который и есть наш дом.
Шел урок рисования в четвертом классе начальной школы поселения Неве-Эфраим. На этих уроках обычно было тише, чем на других. Во-первых, урок был последним, к концу дня выдыхались даже хулиганы. Во-вторых, рисовали, старательно раскрашивая. Гидеон не помогал. Только изредка взглянет на лист и ногтем большого пальца проведет линию: вот так и так. У него правая рука была сильной и красивой, с длинными крупными пальцами, а левую оторвало гранатой в войну Судного Дня. Но он отлично обходился. Джинджик поднял палец и спросил:
— Весь-весь Неве-Эфраим?
— Ну да, — сказал Гидеон. — Тебе что-то неясно?
— И ясли, и школу, и лавку Арье? И водонапорную башню? И «караваны»?
— Вот-вот… — подтвердил Гидеон. — Создай большое полотно.
— Это невозможно, — сказал Джинджик. — Все сразу можно увидеть только с вертолета.
Гидеон подумал и сказал: «Пожалуй, ты прав…» А все вокруг уже рисовали во все лопатки. Рувен набросал много домиков, как коробков, на переднем плане — коротышка пальма, а рядом его, Рувена, собака Чача. Тамар нарисовала праздник Хануки, горящие свечи и сидящих за столом людей, и трех парней в солдатской форме — на праздники семьи разбирали солдат по домам. Джинджик вытянул шею, пытаясь заглянуть в лист, который разрисовывал Иоханан, но ничего не увидел.
— Нет, — сказал он себе твердо, — все сразу можно увидеть только с вертолета.
Учитель Гидеон отошел к окну и, насмешливо прищурившись, подбрасывая на единственной ладони мелок, издали посматривал на Джинджика. Дотошность этого рыжего ему давно нравилась.
Нехама Гросс, женщина неукротимой энергии, всегда затевала одновременно несколько дел. Сейчас она стирала белье и кормила грудью самого младшего, трехмесячного Ицхака-Даниэля. Машина сотрясалась в конвульсиях последнего отжима, малыш сонно дотягивал последние капли молока…
Зазвонил телефон.
— Семейство Гросс? — осведомился в трубке подобранный, военный (как она точно бессознательно определила) голос. — Приготовьтесь. За вами с военного аэродрома «Веред» направлена машина.
— С чего это вдруг? — удивилась Нехама, которая вообще-то редко удивлялась.
В трубке замешкались на мгновение, затем голос, слегка распустив военную интонацию, как расслабляют ремень на поясе, сказал:
— Прокатим тебя с детьми на вертолете.
— Ты что, сбрендил? — поинтересовалась Нехама. Сначала она подумала, что это очередная шуточка ее рыжего супруга, «торговца воздухом», как она его называла.
— Чего я там не видала? — спросила она торгующимся тоном.
— Проветришься, — ответили ей.
…И минут через двадцать к дому действительно подкатил военный «джип», и все выяснилось: да, директор школы, он же завуч, он же учитель рисования, он же лейтенант запаса Гидеон Крамер звонил… заказал. Да, вертолет, минут на тридцать. Да, ученик класса «далет» Моше Гросс и его мама, которая, как предупредил Крамер, одного его не отпустит. На сборы пять минут, пожалуйста.
— Ие-е-еш![11] — заорал Джинджик. И они быстро собрались: обалдевший, багровый от счастья, ученик класса «далет», его мама Нехама, а также — не оставлять же детей одних дома! — трехлетняя Эстерка и спящий после кормежки крепким сном толстяк Ицхак-Даниэль.
Минут тридцать кружил вертолет над одним из высоких холмов Самарии, чтобы Джинджик Гросс покрепче запомнил и смог нарисовать — как выглядит его Неве-Эфраим с высоты птичьего полета. Прижавшись лбом к стеклу, Джинджик смотрел на две черепичным кренделем изогнутые улицы, на круглую коробочку водонапорной башни, на белый купол недостроенной синагоги и на одинаковые ряды спичечных коробков-вагончиков, спускающихся к оливковой долине.
— Как на ладони! — крикнула Нехама пилоту. — Господи, поверить не могу. Знаешь, что здесь было четырнадцать лет назад? Голое пусто. Два «каравана», военный пост. Мы ставили флаг, а они его снимали, мы ставили опять, они опять снимали… Здесь в войну Иом Кипура мой брат погиб, Эфраим, ишув в его честь назвали… Мы спали в палатке. А стирать белье и готовить еду ездили домой, в свои квартиры. Газа не было, света не было… Все мои дети здесь родились. Смотри, сколько мы деревьев насадили!
Пилот молчал, может, он не слышал…
— Слушай! — крикнула женщина. — Ты человек военный, может, знаешь — неужели собственное правительство выгонит нас из наших домов? Или бросит здесь, на глумление арабам!
Пилот не ответил, даже головы не повернул. Он был и вправду человек военный.
И когда вертолет пошел на последний круг, Джинджик увидел, как из крайнего вагончика выкатилась черно-белая пушинка и покатилась, побежала вслед уходящему вертолету.
— Смотри, смотри, Джинджи! — окликнула сына Нехама. — Вон бежит собака наших русских! Как ее зовут?
— Не помню, — сказал мальчик. — Какое-то трудное русское имя…
24
Она всегда погружалась в этот город медленно, как входила обычно в море, преодолевая лодыжками, коленями, грудью напирающую, обнимающую толщу этого воздуха. И, задержав дыхание, — ныряла с головой, пытаясь проникнуть в его воды еще, еще глубже…
В этом городе, погруженном в глубокие воды вечности, отраженном тысячекратно в слоях плывущего неба над ним, вобравшем в себя все жизни когда-то живущих здесь людей и многажды их вернувшем, — в этом городе, свободном и ускользающем от посягательств всех завоевателей в мире, — в этом грозном и веселом городе невозможно было умереть навсегда. Так только — прикорнуть на минутку в вечность, и сразу же очнуться, и увидеть, как изо всех сил пляшет перед Господом Машиах — красивый человек из дома Давида.
Сначала она брела по улице Яффо — тесной, неудобной в той части, где она, извиваясь, подползает к рынку Маханэ-Иегуда. Пробиралась мимо старых, вросших порогом в тротуар лавок и мастерских, притираясь к стене, чтоб разминуться с идущим навстречу стариком-ортодоксом.
Она любила шататься по рыночным тесным лавчонкам, там всегда можно было наткнуться на неожиданность, то есть на то, что более всего она ценила в жизни.
Сегодня она отыскала в посудо-хозяйственной лавке, которую на задах улицы Агриппас держал весьма сурового вида ультраортодокс с длинными седыми пейсами, накрученными на дужки очков, — белую фаянсовую кружку с грустной надписью по-английски: «Оральный секс — темное, одинокое и неблагодарное дело, но кто-то ведь должен им заниматься…»
Стараясь ничем не обнаружить перед хозяином лавки своего ликования, она уплатила за чашку с лукавой надписью пять шекелей и напоследок, не удержавшись, спросила, ласково глядя на старика:
— А ты читаешь по-английски?
Он не ответил. Очевидно, старик был из района Меа-Шеарим, где не говорят в быту на иврите, считая это осквернением святого языка. Тогда Зяма задала тот же вопрос на идиш. Старик ничуть не удивился.
— Пусть гои читают на своих языках, — с достоинством коэна ответил он…
И который раз к растроганному ее сердцу — а ее способны были растрогать и внезапная ласка, и доверчивая глупость, и простодушное хамство, и коварство, и идиотская шутка (она вообще по натуре своей была сочувственным наблюдателем) — к растроганному ее сердцу подкатила нежность к этому старому иерусалимскому еврею, уроженцу религиозного квартала Меа-Шеарим, добывающему свою тяжелую парнасу на сбыте неприличных чашек.
Так, спустя несколько дней после приезда, она испытала мгновенный, как ожог, удар настоящего счастья.
В автобусе номер тридцать шесть она увидела мальчика.
Он был очень мал ростом, щупл и не просто некрасив — он был восхитительно, кинематографически, карикатурно уродлив. Судя по одежде, ему уже исполнилось тринадцать (возраст совершеннолетия): черный сюртучок, черные брюки и, главное, широкополая черная шляпа — отрок был учащимся одной из ультрарелигиозных иешив.
Так вот, он был фантастически уродлив.
Перед отъездом из Москвы все троллейбусные остановки в районе, где жила Зямина семья, были обклеены листовками какого-то патриотического общества. На одной из таких листовок был изображен Сатана в виде еврейского отрока в специфической одежде времен черты оседлости (там, на остановке московского троллейбуса, этот костюм казался ей аксессуаром старины глубокой; сегодня не было ничего более привычного ее иерусалимскому глазу). Одна нога отрока в черном ботинке была выставлена вперед, вторую он как бы воровато завел назад, и — о ужас! — это было волосатое копыто дьявола. Основной же заряд горючей своей, искренней страсти-ненависти художник вложил в изображение типично еврейской физиономии, какой он таковую понимал: длинный крючковатый нос, скошенный лоб, срезанный подбородок, маленькие косящие глазки… словом, персонаж анекдота.
Так вот. Мальчик в именно таком костюме, именно с таким лицом — урод из антисемитского анекдота — сидел перед Зямой в иерусалимском автобусе номер тридцать шесть, следующем по маршруту Рамот — центр. Она даже под сиденье заглянула — нет ли копыта. Копыта она не обнаружила, а вот ногу в приютском черном, несоразмерно большом, растоптанном, как лапоть, ботинке он закинул на другую ногу и весьма вальяжно ею покачивал. На колене у него лежал раскрытый карманный молитвенник, и мальчик бормотал молитву, покачивая шляпой в такт движению автобуса.
И таким спокойствием было исполнено это уродливое, рыжее, щуплое создание, таким безмятежным достоинством дышали все его жесты — движения человека, не знающего унижений, — что вот в тот момент Зяма и испытала сильное, как удар, сжатие сердечной мышцы: счастье. Настоящее счастье при мысли, что этот мальчик родился и живет здесь.
— …Ты прав, — сказала она старику-ортодоксу.
— Пусть гои читают на своих языках. Заверни-ка мне эту замечательную чашку.
25
Витя лежал в постели между господином Штыкерголдом и его преосвященством кардиналом Франции Жаном-Мари Люстижье.
Штыкерголд вел себя безобразно. Он изрыгал проклятия, брызжа слюной на Витю, через два слова на третье повторял: «Финита газэта!» — и отчаянно перебрехивался с кардиналом. Его преосвященство вяло огрызался.
Он лежал на спине, не открывая глаз, торжественно сложив на груди ладони лодочкой. На нем была кардинальская мантия, круглая шапочка, похожая на обычную ермолку, а на ногах — Витины пляжные сандалики.
Чувствовалось, что кардиналу стыдно. Все-таки воспитание сказывалось — он лежал спокойно, корректно лежал, не пихаясь локтями, не брызжа слюной, так, вставлял иногда пару слов на идиш — европейское образование, как ни крути… Да, с кардиналом можно было лежать и дальше, сколько душе угодно можно было лежать.
— Из-за тебья с твоей варьоватой Зьямой я обьязан вальяться в одной постели с этим гоем! — крикнул Штыкерголд.
— Je ne c’est goy! — обиженно воскликнул кардинал, не открывая глаз. — Их бин аид.
— Нет, ты гой!! — заорал на кардинала мар Штыкерголд через Витину голову. — Финита газэта! Если б не эти… я б в жизни с тобой рядом не лег! Я б с тобой рядом и на кладбище не лег!
— Их бин юде, — грустно проговорил его преосвященство. — Майн либе маме сгорела в печи Освенцима.
Витя поморщился.
— Послушайте, — мягко проговорил он, повернув голову к кардиналу. — Вот этим вы могли бы не спекулировать.
— Поц! — заорал грубиян Штыкерголд. — Почему ты не читал кадиш по маме? В сорок пьятом ты был уже велький хлопчик, поц!
— В католическом молитвеннике нет такой молитвы, — виновато отвечал кардинал, оправляя на груди складки красного «цуккетто».
Его преосвященство определенно нравился Вите. Он хотел бы остаться с ним наедине и хорошенько порасспросить того о Париже, который Витя до дрожи любил и знал как свои пять пальцев, хотя и не бывал там ни разу. Он бы приготовил кардиналу курицу под винным соусом, потом бы они вышли погулять по ночному Яффо, и архиепископ Жан-Мари Люстижье порассказал бы ему о соборе Нотр-Дам де Пари, настоятелем которого являлся вот уже много лет…
— Монсеньор, — проговорил Витя, обнаруживая с некоторым приятным изумлением, что легко вспомнил французский, — я хотел извиниться перед вами за хамскую статью нашего идиота, Рона Каца. Это он убедил Зяму, что хорошая клизма вам не повредит. Ей-богу, мы не предполагали, какой скандал из этого раздует общественность. И уж конечно мы не могли себе представить, что господина Штыкерголда вызовут в канцелярию премьер-министра.
— Финита газэта! — завопил Штыкерголд и лягнул Витю ногой под одеялом.
— Мар Штыкерголд, — с вежливой тоской сказал Витя, — перестаньте вопить мне в ухо и уберите подальше вашу волосатую ногу. Тоже мне, одалиска…
— Ты у менья получишь пицуим! Ты у менья получишь отпускные! — продолжал утомительно скандалить Штыкерголд. — Я тебья упеку у тюрэмну камэру вместье с твоей варьоватой Зьямой! Финита газэта! Иди к нему тепер нанимайся! Он тебья пристроит в свой Нотр-Дам, этот гой обрэзанный!
Зазвонил телефон. Перегнувшись через кардинала и виновато приговаривая «пардон, пардон…», Витя снял трубку. В ней что-то ласково журчало, перекатывались жемчужные струи струнного аллегро реминорного квартета Шуберта «Девушка и смерть».
— Прекратите еврейский базар! — попросил Витя Штыкерголда. — Я ничего не слышу. Алло?
Это был контрабасист Хитлер. Его интересовало несколько специальных вопросов по оркестровым партиям.
— Простите, — сказал Витя. — Я безумно занят. Мне еще сегодня газету делать.
— Финита газэта! — крикнул попугай Штыкерголд.
— Но я ведь увижу вас на репетиции? — утвердительно спросил ласковый Хитлер.
Витя почувствовал тяжесть в мочевом пузыре и подумал, что сейчас придется перелезать через кардинала, который лежал с краю, а это так, черт возьми, неловко, и как это по-французски элегантней выразиться… Не писаться же в постель…
Как на грех, его преосвященство архиепископ Франции успел водрузить на голову папскую тиару. Он достал ее откуда-то из-под Витиной кровати, отряхивая от пыли и качая головой, и это тоже было чертовски неловко — да, под кроватью не подметали с прошлого Песаха…
Витя с извинениями приподнялся, закинул ногу на кардинала и принялся грузно перелезать через него, одновременно пытаясь отвлечь его преосвященство (да нет, его святейшество!) от этого малопривлекательного зрелища.
— А ведь там у вас, в Латинском квартале, в одном симпатичном кабачке на улице Лятран превосходно готовят свинину под белым соусом! Мы могли бы с вами недурно пообедать, — как еврей с евреем, — ваше святейшество! Представляю, хо-хо! — что сказала бы на это Зяма…
Вдруг он обнаружил, что продолжает держать в руке телефонную трубку.
— Витя! Ау! — послышался оттуда голос Зямы. — Ты спишь или спятил?
— Да! — воскликнул он заполошно, просыпаясь. Он сидел на кровати, в полном одиночестве, если не считать старушки Лузы, свернувшейся там, где только что лежал в пыльной папской тиаре кардинал Франции, настоятель Собора Парижской Богоматери, его преосвященство монсеньор Жан-Мари Люстижье.
— Зяма? Который час? — испуганно спросил он. — Что? Ты откуда?
— Я из офиса. Восемь. Ты заболел?
— Я проспал… — простонал он. — Ты… ты не представляешь, что вчера было… Как плевался и визжал старый мудак… Из-за этой статьи, «Кардинал Арончик»… Как я понял, его вызывали в разные малоприятные инстанции и имели как хотели… Соберись с мужеством, Зяма… По-видимому, мы уволены…
— Ничего, рассосется, — сказала она спокойно, хотя уж Витя-то знал цену этому ее спокойствию. — Встань, умойся, надень штаны и приезжай.
Витя повесил трубку, еще мгновение посидел, с тоской и подавленным ужасом вспоминая картины вчерашней истерики господина Штыкерголда…
Потом поднялся и побрел в туалет.
26
— Добрый день, дорогие радиослушатели. Радиостанция «Русский голос» продолжает свои передачи. С обзором последних новостей вас познакомит Вергилий Бар-Иона.
— «На холмах Грузии стаит начная мгла», — как точна заметил великий классик Пушкин, — бодро вступил Вергилий. — А у нас на холмах Иудеи и Самарии стаят паселенцы. Ачередная драма разыгралась сегодня на халме, где жители близлежащего населения Неве-Эфраим устроили деманстрацию пратеста против требавания арабских жителей Рамаллы, также предъявляющих права на вышеназванный холм… В результате патасовки палиция вынуждена была прибегнуть к усмиряющим мерам. Как справедлива заметила еще одна классик поэзии: «Вижу опраметь копий! Слышу: рокот кравей! То Саул за Давидом: Смуглой смертью сваей!»
Сема Бампер ждал, когда освободится студия. Через пять минут он должен был начинать литературную передачу «Отзовитесь, ветераны!». Сема курил и молча слушал словесную иноходь Вергилия.
— Семнадцатый круг Дантова «Ада», — пробормотал он.
— А? — спросил Нимцович, дежурный звукооператор.
— Знаешь, старик, кем я был в прошлой жизни? — задумчиво улыбаясь, спросил его Бампер.
— Ну?
— Угадай! — тихо ликуя, предложил Сема.
— Короче.
— Леонардо да Винчи!
Нимцович поднял глаза от пульта, вздохнул и сказал устало:
— В прошлой жизни ты был эрдельтерьером в небогатой семье.
Фима, инспектор транспортной полиции, дремал в кресле перед телевизором. Время от времени он спохватывался от сна и поднимал с ковра сползавшую с его колен газету «Полдень». Надо было почистить зубы, принять душ, раздеться и лечь — ряд действий, цепочка мышечных усилий, — и немалых усилий! — после тяжелого дня.
А день был таков: они спихивали поселенцев с занятого теми пустынного холма. Что значит — занятого?
Те разбили две палатки, воткнули в землю израильский флаг и расселись вокруг. Пришли как на пикник — женщины, дети, коляски… Ну-с, и полиция, конная наша полиция. Мама, смотри, лошадка!..
Их раввин, молодой рыжебородый парень, размахивал какими-то бумагами — вроде по планам земельного Управления этот холм относится к их поселению. Чудак, при чем тут бумаги…
Вначале, когда полиция только прибыла на место, когда страсти еще не накалились, этот парень — по виду не скажешь, что раввин, обыкновенный поселенец в вязаной, сине-белой кипе, отошел с Фимой покурить. Как думаешь, спросил он, что будет? Фима пожал плечами. Я понимаю, сказал тот, при чем тут вы, вы на службе…
Потом он стал рассказывать про этот холм, за который они, как сумасшедшие, цеплялись. Оказывается, именно здесь в древности был город Ай. И уже лет шесть какие-то археологи-американцы свой кровный отпуск тратят на раскопки. Живут в «караване», и поселенцы их кормят, лишь бы копали. Каждый год ждут, как возлюбленных, — приедут, не приедут? Кроме фундамента нескольких домов и древнейшей синагоги, они раскопали микву с мозаичным полом, маслодавильню с каменным резервуаром и стоком для оливкового масла и огромным тяжелым жерновом.
Вот, смотри, говорил рыжий раввин, арабы ночью пробрались сюда и раскололи жернов. Наверное, это было трудно сделать, но они не пожалели сил. Унести не смогли. Но если отдать им этот холм, они превратят в крошево все памятники нашей истории, которые мешают им доказывать, что нас здесь никогда не было… Послушай, говорил он, вот ты разумный человек, скажи — как можно назвать людей, плюющих на свою великую историю? Ведь все это — он повел рукой в сторону холма — наше национальное достояние…
Так они стояли и курили, и Фима тоскливо думал, что этим ребятам ничего не поможет.
Фима симпатизировал поселенцам и не считал нужным это скрывать, даже в беседах с начальством. А чего там скрывать — он тоже, как ни крути, поселенец. В конце концов, их сахарный городок на двадцать тысяч жителей, град Китеж Иудейской пустыни, сон, мираж из бело-розовой пастилы, пальмово-сосновый сон, — всего лишь тринадцать лет назад был таким же лысым холмом, с такими же двумя палатками, в которых ночевали по очереди несколько вот таких безумцев.
Но… времена другие…
Фиму вязала дремота, склеивала веки, путала связи, странные картинки демонстрировала по телевизору.
Там шла еженедельная передача «Политическая дискуссия». Никакой дискуссии, разумеется, между евреями быть не могло. Участники передачи не слушали оппонента, дудели каждый в свою дуду и, поскольку языки у всех были подвешены неплохо, — довольно обидно и разнообразно задевали политического противника. Левые называли правых фашистами и экстремистами, правые кричали: ты, ты сам — фашист и экстремист по отношению к собственному народу.
Фима опять задремал, а когда открыл глаза — на экране беседовали двое: один из молодых лидеров партии «Мир — немедленно» и раввин одного из поселений, Фима прослушал — какого. Раввин тоже был молодой, рыжебородый, с мягким, округлым выговором. Эти, по крайней мере, делали вид, что слушают друг друга.
— Да, мы предлагаем заплатить за мир самой дорогой ценой — землей. Но разве мир этого не стоит?
— Не стоит, — отвечал раввин, — если тебе нечего будет пахать, не на чем строить дом для твоих детей и негде хоронить твоих родителей — зачем тебе мир?
— Но разве жизнь человеческая не дороже клочка земли? — возражал другой. — Разве мы не устали воевать? Я, например, устал дважды в год по месяцу пропадать из дома на эту проклятую резервистскую службу. Все летит — работа, планы, поездки… Да ты сам знаешь!
— Да, я знаю, — соглашался рыжебородый, — я сам минер, и неплохой минер…
— Вы же не предлагаете альтернативы! — восклицал левый. — Какова ваша альтернатива — воевать и опять — воевать? Вы сеете ненависть. Но мир изменился, мир уже не тот.
— Мир всегда один и тот же, — отвечал молодой раввин. — И арабы хотят того же, что хотели всегда — чтобы тебя здесь вовсе не было. И ты знаешь, чего они хотят — Иерусалима. Его все хотят, и ласковые христианские миссионеры с их миллионными фондами — тоже. Ты выучил красивое слово «альтернатива» и поешь его под американскую свирель.
— Мы вашу демагогию уже слышали, — перебивал его нетерпеливо другой, — мы предлагаем новое мышление, развитие экономики всего региона, мы добились ощутимых результатов в сфере экологии!
— На что мне ваша экология, — возражал другой, — когда вы отдаете сирийцам плато Голан и выход к Киннерету? Одной канистры с чумными бактериями, вылитой в озеро, достаточно, чтобы все мы тут больше ни на что не претендовали…
— Софистика! — вскрикивал левый. — Спекуляция! Вы — психопаты, терроризируете общество мифическими ужасами.
На что раввин с горькой усмешкой заметил: «Да, очевидно, я психопат, и шесть войн с арабами за пятьдесят лет существования этого государства мне просто почудились. И десятки тысяч могил на военных кладбищах — это, конечно, камуфляж, спекуляция…»
— Ты передергиваешь! — уже не сдерживаясь, кричал левый. — Ты выворачиваешь мои слова наизнанку, ты казуист, все вы, религиозники — натренированы в своих ешивах делать фокусы из простых и понятных доводов оппонента. И ничего нового вы, правые, не можете народу предложить. Только мешаете.
— А ты, очевидно, плохо учился в школе. Ты забыл текст «Коэлет»,[12] — насмешливо и нервно ответил молодой раввин, — а там сказано: «Но то, что было, то будет снова, и что свершается, то и свершится, нет ничего нового под солнцем». А ты захотел новой любви, братской любви от сына Агари?
— В каком веке ты живешь?! — в ярости воскликнул левый. — Сегодня — уже не время Иешуа Бин-Нуна![13]
— Время никуда не движется, — ответил молодой раввин, — время — кольцо…
Фима не дослушал их спора, с каждой минутой набиравшего обороты, скоро он станет неуправляемым, да он прекрасно знал все, что скажут эти двое и другие, похожие на них…
Конная полиция цепочкой медленно теснила с горы людей.
Невзрачный каменистый холм неподалеку от поселения Неве-Эфраим. Крутые ребята жили в этом поселении, смельчаки, упорно не огораживающие свой поселок забором. Говорили — мы не в гетто живем, хватит, уже пожили…
И этот их молодой рыжий раввин… Ба, да вот он же и выступал сейчас в передаче!
Фима открыл глаза, но на экране уже крутились в бешеном темпе кадры телерекламы: с огромным энтузиазмом, сладострастно вытаращивая глаза и отдуваясь, двое молодых людей совали за щеку и надкусывали какой-то новый сорт орешков в шоколаде.
Безумие. Безумие этого инфантильного общества… Безмозглость этого инфантильного мира.
…Поселенцы, потрясая какими-то своими бумагами, требовали прибытия на место конфликта властей. Власти не торопились. Когда цепочка конной полиции смела по склону вниз разрозненные группки людей, какая-то женщина бросилась опять вверх, к палаткам. За ней бежала черно-белая, лохматая собачонка. Двое полицейских бросились женщине наперерез, схватили за руки, поволокли по земле. Собака бросалась на полицейских, рвала зубами штанины, разрываясь от хрипа.
Рыжий раввин кричал:
— Люди! Что вы делаете, люди?!
…О Господи, надо принять снотворное.
Зазвонил телефон.
Фима вновь спохватился, засопел, поднял с пола раскрытую на статье Халила Фахрутдинова газету «Полдень» и грузно потянулся к трубке.
— Васенька-а! — пропел любимый голос. — Мне нужен телефон этой мымры из фонда «Наружного». А я забыла дома свою записную книжку. Сбегай, мась, в спальню, она на тумбочке, в черной сумке, глянь, а… на букву «Н».
Фима поднялся и пошел в спальню — искать записную книжку жены.
На кровати, той, что ближе к окну, уютно укрытая, лежала и просматривала журнал мод Ангел-Рая. Минут сорок назад Фима, собственноручно выкупав ее (он всегда боялся, что в ванной она поскользнется и упадет, ударится, разобьется — одна из версий разветвленного вечного ужаса, сопровождавшего его после ее воскресения), уложил в постель, укрыл и вышел на минутку — послушать программу новостей. Да так и застрял в кресле с газетой на коленях. А, да — очень интересная статья Фахрутдинова о Катастрофе — будто бы не немцы спалили в печах шесть миллионов евреев, а — наоборот. То есть не буквально наоборот, а… Где же эта черная сумочка?..
— Ты чего ищешь, мась? — подняв каштановую головку от глянцевой страницы, спросила Ангел-Рая.
— Да черную сумочку, — ответил растерянно Фима. — Там книжка, мне нужен «Наружный» на букву «Н».
— Господи, да я его наизусть помню: двести пятьдесят четыре шестьсот семь.
Повторяя номер, Фима подошел к снятой и лежащей, тоже уютно — на бочку — телефонной трубке. Несколько мгновений он смотрел на эту трубку, потом осторожно поднял ее. В ней слышны были совершенно естественные, на разных звуковых планах голоса. На ближнем плане переливался и звенел умоляющим колокольчиком (она к кому-то обращалась), небесный голос жены.
— Але, — сказал он, — двести пятьдесят четыре шестьсот семь.
— Ты мой золотой, — нежно проговорила она. — Все, записала. Чмок!
— А ты…
Он хотел сказать — зачем тебе книжка-то была, ты ж этот номер наизусть помнишь… но сдержался…
— Я в Духовном Центре, не волнуйся, меня Агриппа довезет. А ты ложись, Васенька, тебе ведь завтра рано…
Когда, опустив трубку на рычаг, Фима зашел в спальню, Ангел-Рая уже спала, неслышно и кротко.