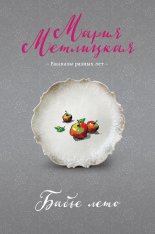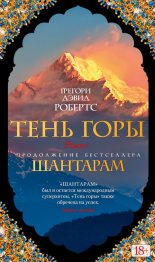TERRA TARTARARA. Это касается лично меня Прилепин Захар

Сейчас зима, темнеет рано, — продолжает Андрей работу со мной, «клиентом». — Косметичка с таким сюрпризом будет незаменимым подарком вашей подруге или матери. Но и это! Еще! Не все! Вы, конечно же, видели рекламу степлера по второму каналу ТВ. Его закупочная цена — 12 долларов. Не мне вам говорить о его назначении. («А какое у него назначение?» — подумал я.)…Склеивать пакеты! Продукты в пакетах, склеенные степлером, купленным у нас, могут храниться сколько угодно! У нас, ввиду праздника, он стоит всего четыре червончика. Если вы купите все эти товары, общая стоимость которых составляет всего 150 рублей, вас ожидает сюрприз.
Тупо смотрю на своего наставника.
— Обычно спрашивают, что за сюрприз, — недовольно подсказывает он.
— Что за сюрприз (без вопросительного знака).
— Детский конструктор! (Извлекается пластмассовая машина, набитая детдомовскими, разного размера кубиками.) Данный конструктор включает в себя 124 детали. В любом магазине он стоит не менее 200 рублей. Купившему у нас весь набор конструктор достается. бесплатно! Итак, покупаете? — Андрей вошел в роль.
— Да, — говорю, — заверни.
— Подожди, — останавливает наставник. — Последний шаг — re hech, то есть двойной оборот.
— Что это?
— Продолжаем разговор с клиентом, — Андрей вновь преображается. — Стоит ли напоминать, что на носу столько праздников! Данный набор будет лучшим подарком вашим друзьям… И если покупают еще один набор, — на мгновение он выходит из роли, — то я говорю: «А ваш директор только что купил восемь наборов! Слабо еще пару? Неужели у вас так мало друзей?», — Андрей придвигается ко мне в упор.
— Я все покупаю, вместе с пакетом.
На мою иронию наставник не реагирует и сразу, без перехода, рассказывает мне про восемь ступеней, а потом еще про готовность ко всему и веру в свое дело.
Третьим в нашей компании был паренек лет восемнадцати, все руки в наколках. На улице спрашиваю его тихо:
— Недавно вернулся?
— Ага, четыре месяца.
— Как попал на эту работу?
— Три месяца искал. Нигде после тюрьмы не берут. А здесь — всех подряд. На что-то еще надеясь, спрашиваю у Андрея:
— А как же экспедиторы?
— А их вакансии уже заняты, — отвечает он мне.
Опечаленный, но еще не разочаровавшийся, вернулся я в свой дом и вновь улегся животом на газеты, подтаскивая за шнур телефонный аппарат, который цеплялся за ковер, что твой котяра.
Зачем-то снова набрал телефон той фирмы, где был.
— Алло, это по поводу работы, — сказал я.
— Давайте знакомиться, меня зовут Катя.
— Потом познакомимся. Катя, меня интересует, какие вакансии вы предлагаете.
— У нас открыты вакансии экспедиторов, торговых представителей…
— Я сегодня с утра был у вас, — перебиваю ее. — Мне предложили поносить пакет с барахлом. Вы скажите, у вас есть вакансии экспедиторов?
— Уже нет, — ни капли не смутившись, ответили мне.
Порывшись в газете, обнаружил я другое объявление: «Все на музыкальный склад — требуются продавцы-консультанты». Немедленно позвонил, помогая нетерпеливым пальцем телефонному диску возвращаться на место.
— Девушка, — начал первым, — я хотел бы участвовать в конкурсе на должность продавца-консультанта. У вас есть такая вакансия?
— Конечно, молодой человек. Обязательно отличное знание музыки. Дело в том, что в нашем городе открывается сеть музыкальных магазинов и.
— Все понял, — оборвал ее я. — Давайте знакомиться.
На следующий день я уже произносил свою фамилию в домофон на железной двери. Вошел в коридорчик, где из подсобной комнаты доносились речовки и смех. Отчего-то не ушел сразу.
Директриса, коротко стриженная блондинка, в красивых тонких очках, лет тридцати, свободно расположилась в кресле.
— Присаживайтесь, — предложила и мне.
Я присел, облокотившись для удобства на внушительный и широкий стол. Не поднимая на меня глаз, что-то записывая, директриса сделала мне замечание:
— Это. Мой. Стол.
Пожав плечами, оставив при себе: «А это мои локти», извинился и убрал руки. Табуретка, которую мне предложили, была маленькой и неудобной, вынуждая сидеть либо по-кадетски прямо, либо по-стариковски ссутулившись. А ведь в прихожей, вспомнил я, располагалось с десяток отличных кресел.
«Методы… как в уголовном розыске… — подумал я, брезгливо ежась. — Им надо сразу… унизить…»
— Давайте знакомиться. Меня зовут. — холодно улыбаясь, заговорила директриса. — Наша организация называется «Творческая студия Дома офицеров», то есть работа творческая, дисциплина — армейская. («При чем здесь продавец-консультант?» — думаю. Еще думаю: «Вот сидит наглая птица в чулках и рассказывает мне про армейскую дисциплину».) Итак, чем вы занимались до сегодняшнего дня?
Честно рассказываю.
— Надо же, какой разброс… — говорит она.
— Я думаю, что это плюс, — отвечаю.
— Ну хорошо. Я хотела бы сразу вас предупредить: коллектив у нас боевой, веселый. Для ребят выйти на главную городскую улицу и спеть песню не проблема.
— Веселый коллектив — это замечательно, но я, собственно, слышал, что вы предлагаете вакансии продавцов-консультантов.
— Почему я вам что-то должна предлагать? Я вас первый раз в жизни вижу! Определенно, эта дама получала удовольствие от своей работы.
— Я готов участвовать в любом конкурсе и для этого сюда пришел, — ответил я, мягко улыбаясь.
— Чем вы увлекаетесь? — перевела она разговор.
— Музыкой. («Ну не макраме же, если я здесь!») Некоторое время играл в рок-группе.
— Вы вообще общительный человек?
— Очень общительный. У меня две тысячи друзей.
— В конкурсах, КВНах участвовали?
— Несколько десятков раз. И в половине случаев получал призы.
— Ну что же. Вы мне. нравитесь. Вы можете посвятить нам целый день?
— Конечно, могу.
— Завтра, в восемь утра…
— Я обязательно приду, — перебиваю я, — но мне очень интересно, чем я буду заниматься.
— Вы будете работать.
— Что именно я буду делать?
— Я дам вам наставника, и вы увидите.
— Вы не могли бы мне сразу сказать?
— Заниматься деятельностью, напрямую связанной с музыкой. Не получается у нас разговаривать.
— Вы мне скажите, пожалуйста, — насколько могу убедительнее прошу я, — мой наставник будет рекламным агентом?
— У нас есть постоянные клиенты («Видимо, те, кому хоть раз что-то сбагрили»), есть новые.
Крепкая девушка. Военную тайну не выдаст. Иду на «ты».
— Я вот вчера зашел в одну фирму, так они дали мне пакет с помойным барахлом и попросили убедить как можно больше прохожих, что выгоднее купить содержимое пакета всего за 150 червончиков, чем, умаявшись в очередях, выложить несколько сот долларов за тот же товар в магазине. Запевки, кстати, в той фирме такие же, как у вас. Самое главное, я все это умею, даже лучше, чем эти ваши дети, — пять шагов, восемь ступеней, — но я не буду этим заниматься.
Директриса смотрит на меня… честное слово, это так — смотрит ледяными глазами.
— Чтобы чего-то добиться в жизни, нужно столько говна разгрести, — говорит она, едва шевеля тонкими губами.
(Помните гору мусора вместо центральной ярмарки? Знаменательное совпадение.)
— Так вы напишите тогда в объявлении, что набираете артель ассенизаторов, — советую я.
— Покиньте мой кабинет, пожалуйста, — попросила меня директриса, при этом что-то нервное делая ногой под столом. Тут же из подсобной комнаты вышел рослый мужчина, столь старательно игравший желваками и челюстями, что походил на сумасшедшего с нервным тиком.
Я засмеялся, глядя на него. Встал, уперся руками в «ее» стол и, не нашедшись, как сострить, сказал директрисе в очки:
— С удовольствием! С удовольствием покину ваш кабинет!
Вышел в приемную, там меня встретила неизменно улыбающаяся секретарша.
— Я там вашего босса обидел, — сказал ей.
— Замечательно! — по привычке ответила она, вся сияя.
Вышел на улицу, подставил лоб легкому снегу, перешел дорогу, направил стопы к магазину, купить пива на последнюю мелочь.
На дверях магазина висела надпись: «Вход рекламным агентам, всевозможным торговым представителям строжайше запрещен. Штраф 50 рублей».
«Надо же, — подумал я, — с собаками можно, можно детям с мороженым, можно в нетрезвом виде, верхом на лошади — и то, наверное, можно. Но не дай бог, чтоб с пакетом в руках и с речью: „Сегодня у нашей фирмы юбилей…"»
В последующие недели меня вновь занесло еще в несколько подобных фирм, предпоследний раз меня выводили с охраной, в последний раз — просто не пустили, когда я назвал свою фамилию в домофон.
Теперь я даже жалею, что не остался работать там, в одной из этих контор. Уверен, что скоро я бы возглавил отдел. Я очень серьезно это говорю. Какой бы любопытный случился со мной опыт, с какой первозданной глупостью пришлось бы мне столкнуться, с какой беспримерной подлостью…
Но я был недостаточно наивен.
Впрочем, я, кажется, догадываюсь, чем сегодня занимаются эти люди, встретившиеся мне тогда директрисы и директора своих многолюдных фирм. Тогда им было 30, сейчас — 40, они еще молоды. Их опыт актуален, речовки снова в моде, они еще научат разгребать всевозможный мусор, глазастое и жадное до бонусов юношество.
МОЛОДЕЖЬ К ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ ГОТОВА
Говорят, что старики заедают молодежь, уродуя ее будущее. Скажем, старики старательно голосуют и почти единолично выбирают постылую, прокисшую власть, по законам которой мы живем до следующих выборов; а потом ответственные пенсионеры снова расставляют свои галочки в бюллетенях, обрекая юношество еще на четыре года унылой тоски.
Так говорят. Но все давно иначе.
У нас юношество стремительно впало в старость, а иные из представителей младого поколения еще хуже, чем в старость, — в старческий маразм.
Всякий студент по определению должен быть «леваком», тем более в современной России. Однако у нас все наоборот. Консерваторы размножаются уже в школах и университетах, они едва разучились вытирать сопли кулаком и носить колготки под шортами — и сразу же стали тотальными реакционерами.
Они не видели ни советского времени, ни бурных времен либеральных реформ, но презирают и то, и другое. Они уверены, что в России были черная дыра, хаос и голожопый позор. К счастью, теперь олигархи побеждены, а коммунистам не удастся вернуть бараки и ГУЛАГи.
«Мы победим». Кого победим, а? Зачем?
Молодежь в России, наверное, самая реакционная часть общества. Юношество еще ничего не получило, но уже боится все потерять. Еще ничего не знает, но уже хочет всех научить. Все время говорит, что выбирает свое будущее и никому не даст изменить свой выбор, — но кто бы знал это будущее в лицо, кто бы рассказал о нем доступно.
В свое время (год назад) писатель Александр Кабаков выдал нашумевшую статью о том, что настроения молодежи и в Европе, и у нас являются самой очевидной опасностью для общества. Левые, националистические, а также беспочвенно агрессивные взгляды юношества создают ситуацию, угрожающую нормальному будущему остальных людей.
«Боюсь», — признался Кабаков, к которому, как ни странно, я отношусь хорошо.
Одно различие: у нас с Кабаковым разная молодежь. С «его» молодежью я знаком; хотел бы, чтоб она стала подавляющим большинством, — но в природе нет и смешного подобия этого большинства. «Его» молодежь — разрозненные единицы; в своем городе я могу пересчитать их по пальцам, в других городах таковых еще меньше: к примеру, в многочисленных провинциях идейно буйной молодежи нет совсем, ей неоткуда произрасти. Там почти все спят, не в силах разлепить глаза.
Кабаков старательно передергивает, в попытках придать молодежному экстремизму массовость объединяя редких «молодых идеологов» и мифических «штурмовиков» с… «уголовниками». Но среди людей зрелого возраста уголовников еще больше: давайте людей среднего возраста купно объявим угрозой обществу и останемся спокойно жить средь детей и стариков.
Российская молодежь, в отличие от помянутой европейской (в первую очередь немецкой и французской), разучилась переживать состояние аффекта. Иррациональные девяностые породили в России крайне рационалистичное молодое поколение. Другой вопрос, что рационализм их пошл и зачастую подл, что он имеет не человеческие, а почти растительные предпосылки; и тем не менее это все-таки рационализм, в самом неприятном, то есть совсем не творческом, изводе.
Любое творчество изначально порождается состоянием аффекта. Или, как написали бы в словаре, душевным волнением, выражающимся в кратковременной, но бурно протекающей психической реакции, во время которой способность контролировать свои действия значительно принижается.
Огромное количество современной молодежи не способно к бурным психическим реакциям, к бесконтрольным празднествам, к запредельной искренности и в конечном счете к массовому творчеству. Разовый футбольный дебош вовсе не отменяет сказанного выше, он скорее случайность — мало того, случайность, специально спровоцированная очень взрослыми людьми накануне принятия первого закона об экстремизме.
Основная часть молодежи уже сейчас готова отправиться на пенсию: то есть либо выключить себя из реальных политических и культурных процессов, либо встроиться в них на изначально определенные, скучные роли.
Мое поколение — последний советский призыв, чьи школьные годы пришлись на пионерию и комсомолию, а университетские — на разлад и распад советской империи. Как показало время, в основной своей массе мои сверстники оказались безвольными: в политике, бизнесе или культуре мы явное меньшинство, так уж получилось. Ко всенародному разделу мы не успели, а быть падлотой толком не научились: в итоге жизнь протекла до середины, а мы все в тех же ландшафтах, что и прежде. Что будет с нами дальше, ни черта не ясно.
Поколение, рожденное за время неуемного реформаторства (ну, скажем, начиная с восемьдесят пятого, а то и раньше — по начало девяностых), являет собой во многих наглядных образцах удивительный гибрид старческого безволия и детской, почти не обидной подлости. Эти странные молодые люди ничего не желают менять. Мысль о том, что изменения возможны, вызывает у них либо активную, искреннюю агрессию, либо вялое, почти старческое презрение. Слишком много и часто говорят они о своей свободе: но даже я, бывший пионер и комсомолец, не помню, чтобы мы с такой радостью и страстью ходили строем.
Несмотря на все свои улыбки и пляски, современное юношество лишено глубинного, оптимистического романтизма начисто: они твердо уверены, что мир не изменить и даже не стоит пытаться. Тот, кто пытается, — дурак, подлец или пасынок олигархов. Если не по нраву столь радикальная формулировка, то можно сформулировать чуть мягче: менять ничего нельзя, потому что иначе может быть хуже.
«Может быть хуже» — это вообще основа, суть и единственный постулат философии современного юношества; они и гомерических глупостей не свершают, и детей не рожают, и ни в п…ду, ни в Красную армию не идут, потому что и там может быть хуже, и сям, и посему давайте «не будем париться».
Ну не будем, да. Еще не надо выходить из себя. Мы пришли сюда быть в себе, блюсти себя в себе, собой в себе любоваться, себя из себя не выпускать.
«Держись!» — часто говорят друг другу современные молодые люди, как будто завтра каждый второй из них уйдет на фронт или может не проснуться, разбитый очередным инсультом. Держаться они пришли, посмотрите на них, держаться и не отпускаться — одной рукой за один поручень, другой — за второй; никто не хочет разжать пальцы, чтоб веселой волной снесло с ног, повозило по полу, перевернуло через голову и жарко ударило о каждый угол.
…Не парятся, не выходят из себя, держатся…
Речь их и многие повадки их — слишком взрослые, мысли — старческие, поступки — стариковские, немудрые, с дрожью жадных пальцев и неприязненным взглядом исподлобья.
Говорят, что современная индустрия выдавила пожилого человека из информационного пространства: отныне все работает на жадное до зрелищ юношество, а старым людям не на чем взгляд успокоить.
Как бы не так.
Информационное пространство заточено именно под два этих класса. Только старые и юные готовы тратить по несколько часов в день на просмотр российского телевидения. И что замечательно: и молодежь, и пожилые люди смотрят одно и то же — всю эту малаховщину, кулинарные программы, риалити-шоу, прочее, прочее, прочее, равно любопытное всем людям, почти обездвиженным душевно, малоразвитым, преждевременно уставшим.
В современной России так сложились обстоятельства, что у нас, быть может, впервые за многие годы нет разрыва поколений, когда интересы юных непонятны и неприятны самым зрелым. Даже в замороженном, ханжеском, постыдном Советском Союзе такого не было.
Много кто заметил, что разговоры на тему «Что за молодежь пошла!» и «Богатыри теперь не те!» звучат все реже? В усталые семидесятые, в переломные восьмидесятые, в дикие девяностые вскриками на эту тему пестрили страницы прессы, их можно было часто слышать в общественном транспорте. А сегодня этого раздражения нет. И стар стал как млад, и млад остарел; и всякий рад произошедшему.
Они едины, они почти неделимы, они соединяются в одно. Смотрите, смотрите: они сливаются в единое тело.
Это противоречит природе. Смотреть противно.
ДОСТАТОЧНО ОДНОГО
Главное качество русского интеллигента — нравственная и безропотная последовательность в своих заблуждениях. Только в таком случае интеллигента можно использовать как градусник: замерять им температуру и состояние общества. И это единственный случай в медицине, когда градусник может лечить.
Интеллигент Лихачев прав, называя первым в ряду русской интеллигенции Радищева.
В Радищеве изначально были заложены все черты грядущего русского интеллигента.
Он был образованный человек, но интеллектуалом не был: известно, что ему наняли учителя-француза, а тот впоследствии оказался беглым солдатом. Потом, конечно, Радищев выучился и праву, и филологии, но беглый солдат в качестве первого учителя — это концептуально.
Он был в известном смысле смелый человек, но напугать его все-таки оказалось несложно. На допросах арестованный за свое неразумное «Путешествие…» Радищев сразу же раскаялся, и думаю, искренне. Правда, давая показания, в забывчивости, он вновь повторял все ту же ересь, что уже написал в «Путешествии…».
Сильный интеллигент, которого согнуть нельзя, зато можно сломать и убить, — уже не интеллигент, а революционер. Посему Рылеева, да и вообще всех декабристов, к интеллигенции не отнесешь.
Радищева вернули из ссылки, пригласили в государственную комиссию по составлению законов, и он, дрожа слабыми руками и покрываясь испариной от ужаса, все-таки написал «Проект либерального уложения», в котором опять заговорил о равенстве всех перед законом, свободе печати и прочих светлых призраках русского интеллигента.
Председатель законотворческой комиссии, получив сей труд, поднял брови, в каждой из которых могла поселиться небольшая птичка, и громко произнес несколько слов, в том числе одно из области географии. Это было слово «Сибирь».
Терзаемый душевной лихорадкой, Радищев вернулся домой, выпил яду и умер в диких мучениях.
С тех пор интеллигенции ничего более не оставалось, как ступать след в след по грустному пути Радищева, бесконечно путешествуя из Петербурга в Москву, в то время как чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лая гонится за тобой, обдает тяжелым запахом мундира и сапог, поднимает брови, откуда в ужасе взлетают птицы, и произносит «Сибирь» так, что явственно слышится «заморю».
Интеллигент тонко вскрикивает и смотрит пронзительными глазами.
Впрочем, и закричать огромным голосом, и взглянуть с пепельным, непоправимым презрением русский интеллигент тоже умеет; и даже ударить человека сможет — правда, один раз в жизни. И потом долго смотреть на свою ладонь, видя в ней мнимые отражения своей низости, злобы и бесчеловечности.
Русский интеллигент красив, но странной, нравственной красотой. Он верующий, но не воцерковленный. Он способен выжить на каторге, хотя самая мысль о ней способна остановить его сердце. Он видит культуру как огромную мозаику, в которой каждому узору есть место. Поэтому он способен любить в литературе или в музыке то, чего образованцы не принимают по скудоумию, которое они выдают за снобизм, а интеллектуалы — из снобизма, который в их случае является разновидностью скудоумия.
Русский интеллигент по-настоящему добр, как никто другой. Добрее мужика, солдата и поэта.
После Радищева Россия получила еще одного образцового интеллигента по фамилии Чехов. Первый свое «Путешествие…» издал в 1790 году, Чехов совершил свое ровно сто лет спустя — в 1890-м он зачем-то отправился на Сахалин, где убил свое здоровье, составляя никому вроде бы не нужную перепись сахалинского люда. («…Какая наша грамота? Народ мы темный, одно слово — мужики…»)
Так Чехов задал тон. Чеховские бородки пошли в революцию, чтоб куда более рационально применить свои силы, но вскоре перестали быть интеллигенцией, а некоторые даже сошли с ума.
В течение всего века интеллигентов во власти не было, но ведь их там не наблюдалось и до революции.
Тем не менее чеховский тип поведения в двадцатом столетии был столь же определяющим, как радищевский тип — в девятнадцатом.
Михаил Булгаков был почти что Чехов, Трифонов очень Чехов, Синявский совсем Чехов, Маканин несколько Чехов, и даже Валентин Распутин чуть-чуть Чехов.
Сегодня мы ожидаем нового интеллигента, потому что век уже начался, а его все нет.
Стало забываться само слово «интеллигент» и тем более черты, определяющие его.
Спешим напомнить, что интеллигенция — товар штучный, к тому же он не продается. Если ее все-таки купить, а потом, изнывая от нетерпения, развернуть, то обнаружится, что покупатель был жестоко обманут: брал, хоть и недорого, интеллигенцию, а в итоге черт знает что получилось, эльдар рязанов какой-то.
Выйти из интеллигенции очень легко, вернуться обратно почти невозможно.
В интеллигенцию долгое время норовили попасть с двух сторон: с одной — образо-ванцы, с другой — интеллектуалы.
Первые туда не попадали по недостатку ума, вторые — по недостатку нравственности.
Академик Сахаров очень хотел быть интеллигентом, но созданная им водородная бомба тянула его в ад и раскалывала надвое гениальную, покрытую цыплячьим пушком голову.
Заявку на интеллигентность подавали целые колонны демократического движения. В 91-м году, 19 августа, я зачем-то шел в такой колонне по Арбату и особенно помню шедших рядом: эти белые, в неровную клеточку рубашки-безрукавки, эти несильные руки, покрытые редким черным волосом, и непременные часы с ремешком на левом запястье, эти очочки в плохой оправе, эти черные опрятные усы над нервной губой. Рабочая интеллигенция, обра-зованцы. В интеллигенцию их не приняли, да они и сами быстро остыли.
Самая хорошая интеллигенция та, что не осознает себя таковой. Самый настоящий интеллигент не строит свою героическую судьбу.
Интеллигент добр, я говорю. Интеллигент последователен. Интеллигент смотрит пронзительными глазами, сам того не замечая.
Если те, кто в начале прошлого века могли стать настоящими интеллигентами, уходили в революцию, то сегодня интеллигенция, даже не сформировавшись, уходит в дворню.
Пусть идет себе, нам и не нужно много интеллигенции. Надо всего одного интеллигента на целую стомиллионную державу. Всегда хватало всех по одному.
Один поэт был во все времена. Один полководец. Один интеллектуал. Один художник. Один герой. Один интеллигент.
Но ныне распадается хрупкая наша гармония. Поэта вроде бы видел, интеллектуала, кажется, знаю, полководца, если захотим, найдем, герой, очевидно, есть — а интеллигента нет.
Совсем нет, нигде.
К ЧЕРТУ, К ЧЕРТУ!
Российская читательская публика не желает иметь в наличии великого русского писателя. Знание, что у нас есть великий русский писатель, — это, надо сказать, ответственность; а отвечать сегодня никто ни за что не желает.
«Вот умрет Лев Толстой, и все пойдет к черту!» — говорил Чехов Бунину.
Сейчас такого не скажут.
Был бы жив Толстой, многие тайно думали б: «Скорей бы он умер и все пошло к черту! И Чехов еще, и Бунин! И к черту, к черту!»
Великие множества людей сегодня подсознательно, спинным мозгом желают, чтоб все провалилось в тартарары, — причем желают этого куда более страстно, чем раньше хотели «в Москву, в Москву».
И все делают для достижения цели своей. Для начала, говорю, дискредитировали статус великого русского писателя.
Выяснилось, что великий русский писатель живым не должен быть, он должен быть мертвым. Если он живой, то надо сделать так, чтоб он замолчал и не лез со своим мнением. Если он еще говорит, надо убавить ему громкость.
Я помню, как яростно кричали и рычали на Солженицына за его возвращение в Россию в «пломбированном вагоне». Причем порицали писателя как раз те, кто нынче летает в собственных пломбированных самолетах и санузлы посещает тоже исключительно пломбированные.
Да что там: я и сам иногда подлаивал на большую бороду. И что теперь? Полегчало?
Понятно, что в той России, которая была сто лет назад, действительно жизнь пошла к черту после смерти Толстого, а сегодня, напротив, все разъехалось по швам, как тулупчик на пугачевской спине, еще при жизни классиков, а то и благодаря им.
Но разве это отменяет ценность собственно литературы?
Она была десакрализована к девяносто третьему, кажется, году, когда стало ясно, что литература упрямо не дает ответов на вопросы: как жить, что делать, кто виноват и чем питаться. А если дает, то все это какие-то неправильные ответы, завиральные. Так всем нам, по крайней мере, казалось.
Нынче ситуация немного успокоилась. Действительно великие и ныне живущие (дай им, Господи, здоровья!) писатели твердо разместились на форзацах учебных пособий, их читают и тактично преподают.
Но вместе с тем любое мнение великих писателей фактически выведено за скобки политического дискурса, да и вообще из пространства современной русской мысли.
Кто знает, что думает Валентин Распутин по тому или иному поводу? Кто жаждет его слова? Часто ли интересуются мнением Андрея Битова? Очень ли нам любопытно, что такого скажет Фазиль Искандер? К Василию Белову давно приходили на поклон мужи, ищущие мудрости?
Могут вывести в круг света Эдуарда Лимонова с кольцом в носу, но именно как старого волка в шутовском наряде; и пришептывать при этом: «Акела промахнулся! Акела промахнулся! И вообще это не Акела, а дворняга старая и злая…»
По сути, нет никакого общественного договора о присутствии и наличии великих писателей, без которых нам было бы жить страшно, так как мы ничего не понимаем.
А мы ничего и не хотим понимать! Нам понимать еще страшнее, чем жить в неведении.
Последним, кого спрашивали хоть о чем-то, оказался покойный Виктор Астафьев, но там слишком подл и пакостен был расчет: вытягивать из старого, злого, раздражительного человека бесконечные, несусветные проклятия советской власти — и тем быть сытым и вполне довольным: ничего иного от Астафьева и не требовалось.
Виктор Петрович доиграл эту роль до конца и ушел с брезгливостью и ненавистью в душе, о чем прямо сообщил в предсмертной записке.
А все потому, что писателя как такового стали воспринимать неадекватно и использовать не по назначению. Началось это, судя по всему, с товарища Сталина, который тем не менее формулировал роль литератора предельно точно: как инженера человеческих душ.
Именно душу и врачует литератор, оперируя метафизическими понятиями. Рассудок ему лучше не доверять, он со своим-то не знает что делать.
Бабушка моя, вовсе неграмотная крестьянка, спросила меня однажды о моем покойном отце, ее сыне, умершем очень рано:
— Как же он так сердце свое надорвал? — говорила она удивленно и горько. — Зачем так пил много? Он же столько книг прочел! Разве там не учат, как надо жить? Что пить не надо, разве там не написано?
Наше разочарование в литературе именно таким отношением и порождено — хотелось же, чтоб нас научили долго и сладко жить, а оказалось, что нашептали нам обратное — как быстро и мучительно умереть.
Так нам кажется до сих пор, и даже если перекрестишься, ощущение это не пропадает.
Посему великого писателя видеть нет желания. Он как дурная примета, он как воронье крыло. И голос у него высокий и неприятный.
К тому же — в идеологическом быту это существо крайне неудобное и малоприятное. При ближайшем рассмотрении великий русский писатель обязательно будет выглядеть неказисто, говорить наперекосяк и косноязычно, причем не по существу и о своем.
Сложно представить себе Льва Толстого или Михаила Шолохова в нынешней жизни, в блеске софитов, окруженных стремительными журналистами, жаждущими получить исключительно тот ответ, что уже имеется в формулировке вопроса. Но не менее сложно и Валентина Распутина поместить в те же условия: а ведь Распутин здесь, совсем рядом, неподалеку от нас, день пути — и можно рукой его коснуться.
Но никому не надо его касаться. Не надо нам мучительной и косноязычной неоднозначности. Однозначность нам подавай!
В ходу велеречивые симулякры — если хотите: веллероречивые. Люди, не осененные божественным крылом русского языка, но при этом очень похожие на великих писателей.
Они дают точные формулировки, грамотные советы и пишут вполне себе пошлости хорошим, без божества, без вдохновенья языком.
Однако, сколько ни заглядывай в эту прозрачную воду, никогда не увидишь там отражения своего лица, неожиданно схожего в ночи, как писал великий поэт Юрий Кузнецов, с отражением звезды.
Отличие симулякра от великого русского писателя простое. Симулякр пугает, а нам не страшно. Потому что цена его слову определена и обозначена на подкладке пиджака. Симулякр нам расскажет все о жизни, и мы с интересом ознакомимся, ровно потому, что к настоящей жизни написанное не имеет никакого отношения. Симулякр нарисует закат, а мы полюбуемся — потому что знаем, что красота ненастоящая и закат картонный.
Потому что нам не надо, не надо, не надо настоящего.
Потому что за настоящее нужно отвечать жизнью. К черту это все, к черту!
Жизнь надо прожить так, чтобы никто не сказал, что наши цветные стеклышки, пестрые ленточки и радужные камешки являются чепухой. Не говорите нам этого, а то будет мучительно больно, как при ампутации.
Жизнь надо прожить так, чтобы никто не объяснил всем существом своим, что есть и страсть, и почва, и судьба, и сквозь все это спазматически, в бесконечных поисках пути, рвется кричащая кровь, иногда вырываясь наружу.
К черту, да? Я тоже так думаю.
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАРИЕНГОФ
В 1997 году столетие со дня рождения Анатолия Мариенгофа забыли. А недавний 110-летний юбилей тем более не заметили и, конечно же, ничего не переиздали из, как говорится, обширного наследия Мариенгофа.
Следующий юбилейный год, связанный с именем Мариенгофа, невесть когда будет. Поэтому я взял на себя смелость отметить две не совсем округлые, но вполне себе симпатичные даты.
Первая книжка Мариенгофа — «Витрина сердца» — вышла в 1918 году — вот вам 90 лет со дня выхода дебютного сборника его стихов. А в 1928 году увидел свет самый, наверное, известный (и самый лучший) роман Мариенгофа «Циники» — значит, нынче на дворе 80 лет с года его первой публикации. Чем не повод поговорить о хорошем человеке.
К тому же и 111 лет со дня рождения — дата более чем оригинальная. Как раз в стиле Мариенгофа.
Забвение Мариенгофа — это ничем не заполненная пустота в русской литературе.
О Мариенгофе хочется сказать — великолепный. Тогда его имя — Великолепный Мариенгоф — будет звучать как название цветка.
Мариенгоф похож на восклицательный знак, удивителен самим фактом своего присутствия в чугунные времена с изысканной женой, укутанной в меха. Вижу, как лакированные ботинки вечного денди отражают листву, трость брезгливо касается мостовой.
Снисходительная полуулыбка, изящная ирония, ленивый сарказм, даже аллюзия к Пушкину на грани издевательства: «Не дай мне бог сойти с ума» превращается в нытье нищего с протянутой рукой (под лохмотьями которого скрыт юродствующий эстет) — «Выклянчиваю: сохрани мне копеечки здравого смысла, бог!»
Жуткая реальность и воспаленный мозг создают, соприкасаясь, рифму, образ, фразу, парадокс.
Оригинальность — во всем. Мариенгоф даже умер в день своего рождения.
В божественном балагане русской литературы Анатолий Мариенгоф — сам по себе.
Нет никаких сомнений — он друг Есенина. Более того, Мариенгоф — самая важная личность в жизни Есенина. Тем не менее «друг Есенина» — не определение Мариенгофа. Скорее примечание к их биографиям. Вражда поэтов была и, пожалуй, осталась общим местом есенианы определенного, почвеннического толка. Но есть куда больше оснований к тому, чтобы дружба поэтов стала предметом восхищения.