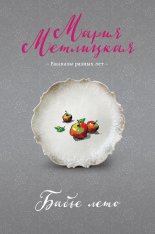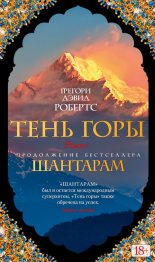TERRA TARTARARA. Это касается лично меня Прилепин Захар

По крайней мере, когда я вспоминаю свою жизнь — хоть детство, хоть юность, хоть, так сказать, зрелость, — я помню в основном летние дни.
Детство было сплошным летом, только несколько иных эпизодов помнятся: вот, к примеру, бреду по деревенской грязи в постылую школу; а вот ищу с мамой потерянную калошу в сугробах, по которым катался на санках.
Боже мой, мы ведь еще ходили в калошах — которые одевали на валенки, и это было в моей жизни. Какой я старый уже. Хорошо еще, что я лапти не помню.
В общем, калошу мы тогда нашли, а все остальные воспоминания мои без калош и без снега — там только солнце, горячий воздух и много воды.
Вся осенняя, зимняя, весенняя жизнь пролетела серой, сырой, соленой чередой, и только лето, медленное и тягучее, как мед, тянется и тянется, иногда даже превращаясь в стоп-кадр, который никак не сдвинется с места.
Помнится, к примеру, как однажды мы с любимой провели на горячих песках возле реки Керженец дней, наверное, пять. Мы лежали недвижимо, как ящерицы, иногда, впрочем, отползая к воде. Окунувшись, я извлекал из песка возле берега бутылку вина или пару пива и отползал на лежанку из старого покрывала. К вечеру я выпивал 6–7 литров разнообразного алкоголя, ни на минуту не пьянея. Жара стояла в сорок градусов, и счастье мое было нестерпимо.
Это было огромное время! Оно никак не могло кончиться! За те дни я передумал всю свою жизнь, потом еще очень долго не думал вообще ни о чем, потом неустанно смотрел на воду, потом еще дольше вглядывался в лес на том берегу — каждое дело отнимало у меня в реальном времени не менее ста еле истекающих часов. И все это, говорю, вместилось в пять дней. Определенно, каждый день пошел за месяц.
Все врут, когда говорят, что счастье мимолетно, а жизнь состоит из череды нудных дней. Я хочу думать, что все, черт возьми, наоборот. Счастье никак не может кончиться, оно неотступно и навязчиво. А будни — пролетают, даже не задевая быстрыми крыльями; порой даже обидно, что не нельзя схватить эти будни за их стремительный хвост.
Как бы так научиться, чтобы лето было всегда, даже если вокруг снега, и в них потеряны наши калоши, и ноги мерзнут, и мама недовольна.
К финалу зимы, что греха таить, действительно устаешь: наша природа подъедает редкие русские витамины, леденит кровоток, ослабляет мозг бессоницей, леностью и вялостью.
К марту очень хочется спать, и ты никак не можешь распуститься с первой весенней почкой.
Бывая за границей, я очень понимаю, отчего люди там не едят. нет, даже не так — на наворачивают тяжелой ложкой суп, щи, борщ! не потребляют по сорок пельменей сразу! не режут сало огромными кусками! не пьют водку стаканами! и даже хлеб не едят — в тех количествах, в каких едим его мы. Потому что нам, блин, холодно — а им, блин, нет. О, и блины еще там не потребляют — с рыбой, с вареньем, с мясом, с творогом. И творог тоже не едят — такой, какой едим мы: настоящий, белый, калорийный, крепкий настолько, что его можно использовать в качестве замазки для постройки крепостных стен.
Нам холодно и неуютно, мы предпочли бы спать зимой, как наши медведи, но всю зиму мы, напротив, ходим на работу, бродим по холодным цехам, коридорам, офисам, месим снег, кутаемся в тяжелые одежды и крепимся, крепимся.
Даже сегодня, когда воочию настало глобальное потепление и русская зима объективно потеряла свой авторитет, — даже сейчас у нас холодно, осклизло и гадко, и изморозь всегда ползет по спине, въедаясь в позвоночник.
Мы гребем всеми конечностями навстречу маю и даже апрелю — потому что наше лето, вовсе не жаркое, но такое сладкое, славное, сердечное, начинается именно тогда. И длится, скажу я вам, минимум до октября.
Мы будем испытывать очевидные неудобства, но искупаемся все равно именно в мае, желательно первого числа. Но если не выйдет, то 9-го, в День Победы, — наверняка.
Потом нас будет покрывать легким ледяным туманом, но мы пролежим на пляже до октября.
И благодаря этому мы все-таки наберемся сил, мужества и смелости для того, чтобы стремительно преодолеть эту краткую, нестерпимо краткую, невыносимо краткую, почти незаметную — скорей бы она уже кончилась — зиму!
Зима будет хватать нас за ноги, срывать эти самые треклятые калоши, сжимать наши уши в ледяных своих варежках, задувать в глаза хлесткой пылью, но мы проберемся сквозь нее к своему берегу, где все тот же стоит тихий лес, и река течет неслышно, и в реке вот уже не первую сотню лет стоят мои бутылки с вином, пивом, портвейном, ромом и прочими чудесами.
О, какая у них выдержка, у этих напитков! Как упрямо они ждали и ждут меня!
И какая выдержка у нас: потому что мы доживем до этой минуты. Чего бы это нам не стоило. Даже не заметим, как доживем. Скоро лето, любимая, скоро лето! Я почти уже себя убедил в этом. Еще совсем немного, и мы опустим эту мерзкую температуру. Опустим ее, как последнего дворового негодяя, она того заслуживает — ведь именно она своровала наше тепло, нашу нежность, наше летнее горячее сердцебиение. Нет терпения уже терпеть все это, нету его.
Скоро лето, моя дорогая, скоро счастье. Вот оно уже, у самой кромки зимы.
…Черт, отчего же я так мерзну до сих пор.
ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Месяц цезарей
Ничего плохого про август сказать нельзя.
Когда я стану диктатором, я отменю 1 сентября и еще несколько дней в году: не хочу сейчас справляться, в какие дни Россия пытается отмечать новые демократические праздники — но именно их я отменю вместе с календарными днями, чтоб неповадно было. Будем с третьего на пятое легко переходить и с седьмого на десятое. Нам не привыкать.
Напротив, август мы удвоим или утроим, и всякий день в августе будет длиться соответственно два дня или три. Надеюсь, что в любимом месяце моем хотя бы нет демократических праздников. Потому что и так зла не хватает: оболгали самую медовую, самую сладостную, самую волшебную пору в году, сочинили, будто август — это времена жутких катастроф. Полноте вам.
Август, говорю, волшебный, потому что он один обладает удивительным свойством быть самым коротким и вместе с тем самым длинным месяцем в году. То есть он стремительно пролетает, всего лишь один раз взмахнув над потной головой горячими крыльями, — и вместе с тем только август и помнишь из всей своей жизни: он тянется и течет, как янтарь по сосне. Тронул пальцами — он и прилип, хер отскоблишь.
Кроме того, август — это император. Август с большой буквы. Словари сообщают, что Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э., основатель Римской империи) был привлекателен и хорошо сложен, величественно держал себя на публике, а в частной жизни вообще казался теплым ангелом. Вот такой он, август, узнаете?
Я смотрю августу в глаза и благодарен ему за мою частную жизнь, она так горяча в его руках. А его поведение на публике? Это самый надежный летний месяц, он редко подводит, это не взбалмошный июнь вам, серый и мокрый, а зачастую еще и холодный; это не сентябрь опять же, в его лживых воздушных шарах и с обидно холодной водою, щиколотки леденящей.
Ангел мой милый, горячечный мой, неси меня, я легкий. Подбери когти-то, я не добыча.
Август почти идеален: не сжигает жаром и не морит холодом. Дышит в темя, обнимает за шею — так, как обнимают дети и самые любящие женщины. Иногда свешивает язык, ему жарко. Язык горит, как пламя зажигалки, — так, кажется, сказал поэт Вознесенский или поэт Евтушенко, если это разные люди. Как пламя зажигалки, да. Спасибо, поэт. Конечно, это только нам, горожанам, август кажется сладострастьем и пиршеством, с легкой желтизной по окоему; ну, в крайнем случае, с кондиционером и вентилятором, измотавшим лопасти на фиг.
В деревне же, откуда мы все сбежали в прошлом веке, летний месяц этот сложен и тяжел: последнюю травку надо накосить, чтоб скотину кормить всю зиму, а на исходе императорского месяца нужно колорадскую пакость собирать неустанно и давить, давить, давить ее; и еще сорняк растет злобно и жадно за последним солнцем вослед; и вот-вот уже придет пора картошечку копать, точите лопаты, примеряйте белые перчатки.
«В августе серпы греют, вода холодит», — народ говорит. «Овсы да льны в августе смотри, ранее они ненадежны», — еще говорят. «Мужику в августе три заботы: и косить, и пахать, и сеять». «Август крушит, да после тешит». «Август — каторга, да после будет мятовка».
Но и в сельской местности, признаюсь я, последний писатель деревни, август кажется огромным, ведь летний день кормит зимний месяц — как день такой не запомнить, когда ему ползимы в ноги кланяешься.
Я жил в деревнях черноземных и в ледяные зимы, и в горячие месяцы — но стариков своих помню только в сиянии августовского солнца: как красивы они были! И, Боже мой, молоды — как на военных своих, со Второй мировой, фотографиях! И еще как они счастливы были — что мы, дети и внуки их, путаемся среди них — тонконогие и загорелые, расцветшие и пережаренные с корочкой на жаре.
Осени меня взмахом крыла, август, я люблю тебя. Не тай на руках, затаи сердце, сбереги сердцебиение.
Недаром у Даля август определяется как «густарь» — в нем всего много и густо едят, и самая жизнь внутри его тела нестерпимо обильна, рвется настежь, норовит хлынуть горлом.
В августе можно умереть только от счастья. Во славу августейшего императора.
Что мне в августе не нравится — так это дети, рожденные в нем, надменные и лобастые Львы, черт их за ногу и за гриву, — не важно, мужчины они или женщины.
Но император имеет право на недостатки, тем более что август особенно и не виноват в том, что до него из декабрьских сумерек донесли этих младенцев.
Зато в августе зачинают майских детей, рожденных под созвездием Тельца, солнечных, полных сил диктаторов, плотоядных и осиянных.
О, август знает свое дело. Август знает свою пышную, неутомимую силу, шекспировскую, чайковскую, набоковскую. Любитесь и ласкайтесь в августе, обретая друг друга по-звериному, в ароматах боренья и страсти. Ваша земля и ваши народы будут вам благодарны спустя девять месяцев.
И чуть позже, и много позже, и во всякий август августейший.
МИЛЫЙ МОЙ ЩЕЛКУНЧИК, ДОРОГОЙ МОЙ ЩЕЛКОПЕР
Экспромт, написанный по просьбе журнала «Glamour»
Щелкунчик, щелкопер, имя твое шелестит, как волосы твои, которые я пропускала меж пальцев. Дуралей ты мой, дуралей, совсем ты дурачок. Следователь по особо важным делам. и влажным телам тоже, прости мне мою пошлость, но мне до сих пор душно, когда я думаю о тебе, если тебя нет рядом. Щелкунчик, щелкопер, чудак в пенсне. Напомни мне, когда ты мне приснился, откуда взялся, чтобы застить мне свет.
Ну, конечно же, конечно, это мой дядя, мой лукавый крестный Дроссельмейер стал причиной нашего знакомства. Он часовщик, познавший странную истину: что время не течет — оно лежит, свернувшись в клубке, и сколько бы котенок ни играл с ним, клубок един, мохнат, кругл. Его всегда можно убрать в карман и гладить там ладонью.
У дядюшки Дроссельмейера были длинные, тонкие пальцы, и я часто думала, что, если он возьмет меня за запястье, пальцы его обернутся вокруг моей руки дважды. У меня тонкие запястья, Щелкунчик, ты же знаешь. Помнишь, как ты дышал на них, удивляясь, где же там удерживается жизнь, если мои прозрачные вены тоньше прожилок на осином крыле. Ты всегда хотел быть железным и черным, как канделябр, стойким и строгим. А ты был нелеп, нелеп. Нелепый ты был… «Посмотри, с кем ты связалась», — говорил мне брат мой, которого все называли Фриц. Он был брит наголо, читал серые книги в черных обложках, слушал странную музыку, под которую, казалось, нужно маршировать, но мне под нее хотелось лишь дурачиться и стоять на голове. «Видишь, с кем ты связалась!» — повторял Фриц, поднимая гантель и косясь на свой бицепс; а я смеялась над ним, потому что был никакой он не Фриц, а мой смешной братик — я еще помню, как он описался на Новый год всего каких-нибудь семь лет назад.
А началось все не так весело: дядюшка мой Дроссельмейер попал в опалу. Он слишком надеялся на свои связи при дворе — ведь все мы знали, что иные министры и даже сам премьер-министр ходят в его часах, слушают бой его часов на своих многоэтажных (половина этажей под землей, половина — над) дачах и жены самых важных мужчин государства носят маленькие часики Дроссельмейера. Все знали, что это он, мой дядя, стал законодателем новой моды на часы: когда смотреть время, извлекая из брюк или из сумочки мобильный, стало признаком дурного тона.
Но где-то прогадал милый Дроссельмейер, и Фриц, вернувшийся однажды посреди дня (обычно он приходил ночью, веселый и пахнущий потом), громко влепивший о косяк дверью, сообщил, что у дяди проблемы. «Где он?» — спросила я в ужасе. Фриц ответил. Почти в беспамятстве я развернулась за чашкой воды и ударила локтем в стекло серванта. Стекло с хрустом раскололось, я почувствовала резкую боль. Хлынула кровь. Я потеряла сознание. Фриц повел себя молодцом. Не испугался, наложил мне повязку и, как позже рассказывал сам, хотел самолично зашить мне располосованную кожу. Но не нашел такую иголку, чтобы не проткнула мне всю руку разом, и все-таки вызвал врача. В большой семье Дроссельмей-еров были не только часовщики, но и врачи.
И вот когда я, кажется, во второй раз навещала в большом и каменном доме моего дядюшку, моего крестного Дроссельмейера, похудевшего еще больше, с недвижимым лицом, с остановившимися глазами (только длинные, почти бессчетные пальцы неустанно перебирали невесть откуда взявшееся гусиное перо), — вот тогда ты, Щелкунчик, случайно увидел меня. Ты вел дело моего дяди.
«Клик-клак-хрррр…» — так закрывались двери в том здании. Когда ты спустя семь минут нагонял меня на улице, я затылком почувствовала, что ты то надеваешь, то снимаешь свое пенсне, Щелкунчик. Ты тогда уже был Щелкунчик — так, немножко издеваясь, прозвали тебя на твоей работе. Ведь ты был такой смешной, весь не в такт, весь не в тон, иногда странно жадный, иногда непомерно щедрый, весь словно сшитый из разномастных лоскутов. С большими зубами, с большими глазами, лобастый, тонкий — ну натуральный Щелкунчик. К тому же ты щелкал дела, как орехи, — такие не могли разгрызть старые волки и раздробить матерые зубры в том большом и каменном здании, где многие и многие несчастные и виновные ждали суда. И поэтому в твоем сказочном прозвище было еще и уважение. Пожалуй, ты был способен на подлость. Пожалуй, ты был самолюбив и склонен к хвастовству. Но разве это те вещи, из-за которых женщина может не полюбить, когда ей хочется полюбить, или сумеет разлюбить, когда ей не хочется разлюбить? Тогда ты наконец нагнал меня и заглянул в лицо.
Свое пенсне ты снял. Первым делом я увидела рыжие глаза и яркий подвижный кадык — я ведь смотрела снизу, ты был выше меня. Кадык был такой объемный, словно ты проглотил рака и он выбирается у тебя по горлу обратно. Я посмотрела в твои глаза и сразу решила, что ты заколдован, а я тебя расколдую. В тот же вечер я обнимала тебя одной, левой, рукой за шею.
Правая моя рука еще носила швы, и мне было больно ее сгибать или разгибать. Спустя три дня ты сказал, что сделаешь все, что я захочу. «Мари, — сказал ты, — я сделаю все, что ты захочешь». И прикоснулся губами к ниточкам еще не снятых швов. Я лежала на животе, не поворачивая головы к тебе. Я тогда уже знала, что ты всегда обещаешь больше, чем можешь дать. Но что это за мужчина, который обещает меньше, чем может дать? Еще я подумала, что ты уже расколдован. Что ж, это было несложно. Главное теперь — не убить тебя, ведь расколдованные становятся смертными. Отчего-то об этом никогда не говорят в сказках. «Отпусти Дроссельмейера», — сказала я. Ты замолчал. Покурил в открытое окно. Оделся. Вышел. Навстречу тебе попался возвращавшийся под утро Фриц. «Зачем тебе нужно это тело?» — спросил Фриц, войдя ко мне. Я ответила. Спустя десять минут ты вернулся, спокойный и собранный. «Ты же ушел», — сказала я. «Я ходил за сигаретами, — ответил ты просто. — По дороге все придумал». — «Что именно?» — «Тебе важно это знать? Что ж. Я знаю, кто стоит за этим делом. Я знаю, кто заказал вашего дядю. Я посажу заказчика». — «Это невозможно». — «Это более чем просто. Почти все материалы у меня на руках. Еще три дня мне нужно на сбор оставшихся улик. На четвертый я обнародую их через семь источников: в печати, на радио и на ТВ. Они уже ничего не смогут изменить. Вашего дядюшку придется выпустить. А заказчика придется брать под стражу. Думаю, я даже успею отдать приказ о его задержании. После этого мне останется жить. ну, минут пятнадцать. Быть может, я успею дойти до трамвайной остановки, но никак не дальше». — «Фриц, не подслушивай», — сказала я. Фриц открыл дверь и сказал: «Пятнадцать минут — это очень много». Щелкунчик оскалил зубы: было непонятно, улыбается он или хочет откусить Фрицу голову.
Прошло четыре дня. Последнюю ночь я не спала. Фриц, напротив, спал очень крепко. Он проснулся в семь тридцать утра и стал пить молоко. Через полчаса начались криминальные новости. Второй сюжет был о неожиданном повороте в деле Дроссельмейера. «Подробности в следующем выпуске новостей». «Пора», — сказал Фриц и выглянул в окно. На улице стояли четыре мотоцикла, похожие на освежеванных, но еще полных сил зверей, они светились обнаженными суставами, черным мясом, пахли животным. Мотоциклисты неуловимо напоминали мне моего братика. На заднем сиденье каждого мотоцикла, обхватив неживыми руками водителя за пояс, располагался манекен в плаще, в шляпе, в темных брюках. Плащ был как у моего Щелкунчика. И шляпа была как у него. Миновав все пробки, безжалостно разрезая тротуары, пугая прохожих, мы за несколько минут добрались до большого и каменного здания. Когда мы подъезжали, Щелкунчик уже выходил из дверей. Четыре наши зверя рычали и подрагивали, дымя. Но даже сквозь этот грохот я услышала, как бегущий вслед за Щелкунчиком наряд кричит: «Майор! Майор, секундочку. Вас требуют…» Щелкунчик легко вспрыгнул на сиденье одного из мотоциклов, и нас словно сорвало злым сквозняком. Столица уже стояла всеми дорогами, машины дымили, солнце жарило. Четыре раза мы встречались со стражами дорог, перекрывавшими нам пути, и легко объезжали их, неповоротливых, уходя в тупики и дворы или проносясь по тротуарам в объезд пробок. Когда преследующие нас были особенно близки, один из наших мотоциклов чуть притормаживал, дожидаясь полиции, и затем уводил их в сторону. Иногда я слышала лай выстрелов.
Обернувшись спустя полчаса, я не увидела мотоцикл с моим Щелкунчиком. «Фриц, — закричала я, — где он?» «Все в порядке», — ответил Фриц. Мы встретились спустя час на пустыре, на окраине города, вдали от сирен и пробок. Фриц подлетел к своим друзьям, и еще за сто метров я увидела, что мотоциклисты курят с напряженными лицами, а Щелкунчик… лежит на земле… и вся спина его расстреляна. Фриц затормозил, я спрыгнула, упала, встала на ноги и подбежала к Щелкунчику. Развернула его — но то был манекен, одетый в бронежилет. За спиной моей раздалось стремительное рычание еще одного мотоцикла. Я обернулась и увидела моего щелкопера, моего Щелкунчика, моего чудака в пенсне.
Мы вылетели с ним из страны на маленьком самолете. Тот человек, что заказал дядюшку, был напрямую связан с главным начальником большого и каменного здания. И поэтому вслед за заказчиком задержали и начальника темниц. Начальник темниц оказался неприлично близко связан с начальником безопасности всего государства, и по принципу инерции повалилась и эта фигура, зацепив еще несколько министров. На этом история не завершилась. За считаные дни опало семь вельможных голов. Последним рикошетом снесло самого премьер-министра, человека с лицом крысы.
Мы летели на самолете, и позади нас, как в кино, раздувалось пламя развала, хаоса, краха: и этот веселый огонь играл на рыжих ресницах Щелкунчика. Через месяц нам позвонили и предложили вернуться. «Теперь здесь все иначе», — сказал Фриц бодро. «Знаем мы ваше иначе», — ответил Щелкунчик. Я тоже думаю, как он. Не знаю, что там у вас, а здесь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки. Зачем нам ехать куда-то? Дядюшка Дроссельмейер обеспечит нам жизнь. Мы держим клубок нашей судьбы в четырех ладонях. Я расколдовала Щелкунчика, но что мое колдовство в сравнении с его колдовством. Мужчины умеют нечто большее, чем мы. Впрочем, что-то хорошее у них получается только случайно.