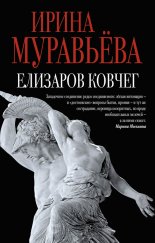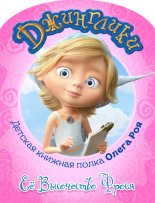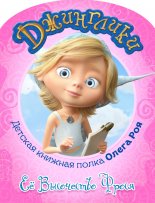Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн
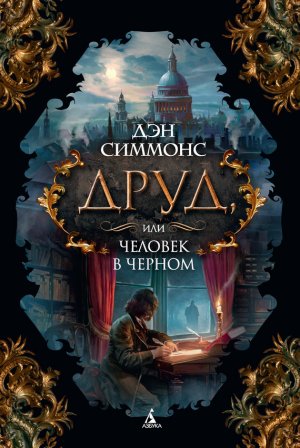
— Да, — сказал я, понятия не имея, о чем он спрашивает.
Мы прошли по узкому коридору к круглому помещению, расположенному под местом, где прежде находилась апсида собора Святого Стращателя. Именно здесь Диккенс обнаружил лестницу, ведущую в настоящий Подземный город.
— Я туда не пойду, — взвизгнул я, резко вырываясь из хватки инспектора и едва не падая. — Я не могу!
— Вас никто и не заставляет — сказал Филд, и я чуть не расплакался от облегчения. — Сегодня, — добавил он. А потом повернулся к мужчине с дробовиком и отрывисто промолвил: — Приведите малайца.
Я стоял в оцепенении, потеряв всякий счет времени, и чувствовал шевеление скарабея глубоко в моем мозгу. Я изо всех сил боролся с дурнотой, но в воздухе там висел смрадный могильный запах разложения. Вернулся сыщик с дробовиком — не один, а с другим сыщиком, в коричневом пальто и с винтовкой. Между ними шел закованный в наручники малаец. Войдя в подземную апсиду, азиат уставился на меня узкими черными глазами, почти такими же мутными от боли или отчаяния, как у меня, но также обвиняющими. Он ни разу не взглянул на Филда или Барриса — смотрел только на меня, словно я был его личным врагом.
Инспектор Филд коротко кивнул, двое вооруженных мужчин провели арестованного за истлевшую крестную перегородку и стали спускаться по узкой лестнице. Баррис с инспектором вывели меня обратно в галерею, а вскорости и на свет дня.
— Я не понимаю, — задыхаясь, проговорил я, когда мы наконец вышли из склепа на морозный январский воздух; снегопад прекратился, но на землю спустился густой зимний туман. — Вы поставили в известность полицию? Почему здесь одни только частные сыщики? Вы же наверняка сообщили в полицию. Где полицейские?
Инспектор Филд повел меня к улице, где ждала черная карета, похожая на катафалк. Пар от конского дыхания клубился в туманном воздухе.
— Полиция скоро будет поставлена в известность. — Голос Филда звучал мягко, но за этой мягкостью я чувствовал яростную решимость, столь же неумолимую, как железная хватка, которой он стискивал мое предплечье. — Эти люди знали Хибберта Хэчери. Многие работали с ним. Иные любили его.
Баррис с инспектором затолкали меня в карету. Баррис обошел экипаж и забрался в него с другой стороны. Филд, по-прежнему державший меня за предплечье, стоял у открытой дверцы.
— Друд ожидает, что мы сегодня же ринемся в Подземный город — в количестве десяти — двадцати человек. Он хочет этого. Но завтра здесь соберется добрая сотня отставных полицейских — все они либо знали Хэчери, либо ненавидят Друда. Завтра мы спустимся вниз. Завтра мы найдем Друда и выкурим мерзавца из его норы. — Он захлопнул дверцу с глухим стуком. — Отмените все свои дела на завтра. Вы нам понадобитесь.
— Я не могу… — начал я, но в следующий миг увидел двух вооруженных сыщиков, выходящих из склепа. Малайца с ними не было. Я в ужасе уставился на правый рукав мужчины повыше ростом. На рукаве дорогого коричневого пальто — над обшлагом — темнело большое пятно, похожее на свежую кровь.
— Малаец… — с трудом выдавил я. — Видимо, это тот самый тип, которого арестовали полицейские. Тот самый, которого служащие Столичной полиции передали вам для допроса.
Инспектор Филд молчал.
— Где он? — прошептал я.
— Мы отправили малайца вниз в качестве послания, — сказал инспектор.
— В смысле — в качестве посланника?
— В качестве послания, — бесстрастным тоном повторил Филд.
Он хлопнул ладонью по дверце экипажа, и мы с Баррисом покатили прочь по узким улочкам Блюгейт-Филдс.
Баррис высадил меня у моего дома на Глостер-плейс, не промолвив ни слова на прощанье. Прежде чем войти в дверь, я с минуту стоял, дрожа от холода, и смотрел вслед темному экипажу, покуда тот не скрылся за поворотом. Мимо проехала еще одна темная карета, с зажженными боковыми фонарями. И тоже свернула за угол. Я не слышал, остановились ли там оба экипажа, — туман да снег заглушали даже стук копыт и грохот колес, — но, скорее всего, остановились. Баррис расставит дозорных по постам. Люди инспектора Филда, я не сомневался, будут наблюдать за моим домом с улицы и со двора — правда, не в столь многочисленном составе, как девятого июня.
Где-то там в тумане дежурят мои новые гузберри. Но, для того чтобы перехитрить их, мне нужно всего-навсего спуститься в собственный угольный подвал, выбить из стены несколько кирпичей и проползти сквозь узкую дыру на верхний уровень Подземного города. Тогда я смогу свободно разгуливать где моей душе угодно… по крайней мере — под землей.
При этой мысли я захихикал, но почти сразу умолк, когда истерическое хихиканье перешло в сухие рвотные спазмы. Скарабей шевельнулся в моем мозгу.
Войдя в вестибюль своего дома, я едва не завопил от ужаса. От карниза до люстры, от люстры до лестницы, от лестницы до настенных канделябров тянулись кишки сыщика Хэчери. В точности такие, как в склепе, — серые, влажные, блестящие. Но я не завопил, хотя и затрясся всем телом, как насмерть перепуганный ребенок. Через несколько мгновений я осознал, что «кишки» — это всего лишь гирлянды, серо-серебристые, обвитые лентами гирлянды, сохранившиеся после какой-то давней дурацкой вечеринки на Мелкомб-плейс.
В ноздри мне ударил запах стряпни — тушеной говядины, жареной баранины, прочих мясных блюд, находящихся в процессе приготовления, — и рвотные позывы вновь подкатили к горлу.
Кэролайн вылетела навстречу мне из столовой залы.
— Уилки! Где ты шлялся, скажи на милость? Или ты думаешь, что можешь исчезать каждую ночь, не ставя в изве… О боже! Откуда у тебя эти мерзкие лохмотья? И где твоя одежда? Что это за запах такой?
Не обращая на нее внимания, я во все горло крикнул горничную. Когда она прибежала, с раскрасневшимся от кухонного жара лицом, я грубо приказал:
— Приготовь мне горячую ванну — немедленно. Очень горячую. Пошевеливайся.
— Уилки, — раздраженно взвизгнула Кэролайн, — ты собираешься ответить на мои вопросы и объяснить, в чем дело?
— Это ты объясни мне, — прорычал я, широким взмахом руки указывая на развешанные повсюду гирлянды. — Что это за дрянь такая? Что здесь происходит?
Кэролайн моргнула, словно получив пощечину.
— Что здесь происходит? Через несколько часов начинается твой чрезвычайно важный званый обед. Придут все приглашенные. Нам придется отобедать пораньше, как ты особо оговаривал, поскольку мы должны поспеть в театр к… — Она осеклась и после короткой паузы заговорила потише, чтобы слуги не услышали. Голосом, похожим на яростное шипение кипящего чайника: Ты что, пьян, Уилки? Одурманен своим чертовым лауданумом?
— Заткнись! — рявкнул я.
На сей раз голова у нее резко дернулась назад и щеки запылали, словно она действительно схлопотала крепкую оплеуху.
— Отмени все, — сказал я. — Отправь мальчишку… отправь посыльных… сообщи всем, что мероприятие отменяется.
Кэролайн рассмеялась почти истерически.
— Но это совершенно невозможно, ты сам прекрасно понимаешь. Повариха уже взялась за стряпню. Люди уже распорядились насчет экипажей. Стол накрыт, и именные пригласительные билеты в театр разложены по местам. Сейчас уже решительно невозможно…
— Отмени все, — повторил я и стремительно прошел мимо нее к лестнице.
Поднявшись наверх, я залпом выпил пять стаканов лауданума, отдал мальчишке вонючее тряпье, приказав сжечь немедленно, и залез в ванну.
Я бы заснул в дымящейся воде, если бы не копошение жука в моей черепной коробке.
Скарабей столь крепко напирал сверху на нёбо, что трижды я выскакивал из ванны и подбегал к зеркалу. Придвинув свечи поближе, я разевал рот шире некуда — до хруста челюстных суставов — и на третий раз успел заметить тусклый отблеск на черном панцире огромного насекомого, торопливо уползающего прочь, подальше от света.
Я повернулся и склонился над тазом, давясь рвотными спазмами, но рвать было нечем, а жук к тому времени уже забрался обратно в мой мозг. Я снова лег в ванну, но каждый раз, стоило мне задремать, видел внутренность знакомого кладбищенского склепа и блестящие серые гирлянды, чувствовал тошнотворный смрад скотобойни, сквозь который пробивался приторный запах курений, слышал монотонное пение и видел громадного черного жука, прорывающего ход в мое чрево с такой легкостью, словно тело мое слеплено из песка…
Раздался стук в дверь.
— Убирайся!
— Тебе телеграмма, — доложила Кэролайн сквозь дверь. Курьер сказал — важная.
Выругавшись, я вылез из ванны — все равно вода уже остывала, — надел халат и на секунду приоткрыл дверь, чтобы выхватить телеграмму из тонких белых пальцев миссис Г***.
Я решил, что сообщение пришло от Фехтера или еще кого-нибудь из театра — они имели расточительную привычку телеграфировать по любому поводу, как будто простой записки, отправленной с посыльным, оказалось бы недостаточно. А возможно — от Диккенса. Озаренный страшной догадкой, я на миг вообразил: вот сейчас он признается, что носит в своем нутре скарабея и знает, что я обзавелся таким же.
Мне пришлось четыре раза перечитать пять слов и подпись, прежде чем смысл короткого послания дошел до моего измученного, изгрызенного чудовищным жуком мозга.
МАТЬ ПРИ СМЕРТИ. ПРИЕЗЖАЙ НЕМЕДЛЕННО. ЧАРЛИ
Глава 28
При виде матушкиного лица я невольно подумал о трупе, в котором все еще бьется безмолвная душа в отчаянных попытках вырваться из телесной оболочки.
Закаченные глаза — одни белки, лишь тонкие полоски радужных оболочек виднеются из-под набрякших, покрасневших век — налиты кровью и вылезают из орбит, словно под чудовищным давлением изнутри. Рот широко раскрыт, но губы, язык, нёбо кажутся бледными и сухими, как старый пергамент. Она не могла говорить. Не могла издать ни единого звука, только редкие свистящие хрипы вырывались у нее из груди. Думаю, она нас не видела.
Мы с Чарли, охваченные ужасом, обнялись под незрячим взглядом матери, и я с трудом выдавил:
— Господи… да как же такое случилось?
Любимый брат лишь потряс головой в ответ. Миссис Уэллс стояла неподалеку, бессильно опустив изуродованные подагрой руки под черной кружевной шалью, а в дальнем углу комнаты топтался доктор Эйхенбах, пожилой врач из Танбридж-Уэллса, давно пользовавший матушку.
— По словам миссис Уэллс, вчера она хорошо себя чувствовала… то есть нет, она покашливала и жаловалась на боли… но достаточно хорошо, чтобы с аппетитом пообедать, выпить чаю в обычный час, послушать чтение и поболтать с миссис Уэллс вечером. А сегодня утром… я приехал без предупреждения, хотел сделать сюрприз… и увидел это.
— Такое часто случается со стариками, ждущими смерти и желающими поскорее покинуть бренный мир, — пробормотал доктор Эйхенбах. — В одночасье. В одночасье.
Поскольку тугой на ухо Эйхенбах беседовал в углу с миссис Уэллс, я горячо прошептал брату:
— Я хочу, чтобы маму осмотрел мой доктор. Фрэнк Берд приедет мигом.
— Я пытался связаться с последним ее врачом, доктором Рамсисом, — тихо промолвил Чарли.
— Как вы сказали? — спросил доктор Эйхенбах из своего угла за камином. — Доктор?..
— Рамсис, — со вздохом сказал Чарли. — Видимо, новый местный врач — последние несколько недель он взял за обыкновение навещать нашу матушку. Я совершенно уверен, что у нее не было причин обращаться к нему… ведь ее вполне устраивали ваши замечательные рекомендации и лечебные меры.
Эйхенбах нахмурился.
— Доктор Рамси?
— Рамсис, — сказал Чарли, излишне громко и четко, как свойственно расстроенному человеку, разговаривающему с глухим.
Эйхенбах помотал головой.
— Никакого врача по имени Рамси или Рамсис в Танбридж-Уэллсе нет. Да и в Лондоне, насколько мне известно, — если не считать старого Чарльза Бирбонта Рамси, чья клиентура нынче ограничивается одним только семейством лорда Лейтона. Кроме того, он специализируется по венерическим заболеваниям и больше ничем не интересуется — а я сильно сомневаюсь, что миссис Коллинз обращалась к нему за такого рода консультацией. И что это за имя такое — Рамсис? Звучит как название комитета.
Чарли снова вздохнул.
— Кажется, доктор Рамсис навещал одно семейство в Танбридж-Уэллсе и там прослышал о матушкином недуге. Не так ли, миссис Уэллс?
Старуха с удрученным видом развела подагрическими руками под шалью.
— Право слово, не знаю, господин Чарльз. Я слыхала о докторе Рамсисе только от вашей милой, милой матушки. Сама я ни разу с ним не разговаривала.
— Но вы его хоть видели? — спросил я.
Холодная рука тревоги сжала мне сердце, и одновременно скарабей шевельнулся в моем мозгу.
— Только один раз, — сказала чистосердечная старуха. — И издалека. На прошлой неделе, идучи по тропке через луг, я видела, как он выходил из дома.
— Как он выглядел? — спросил я.
— Ох… не знаю даже, господин Уилки. Я мельком увидала со спины высокого худого мужчину, шагавшего по улочке. Одетого весьма парадно, но довольно старомодно в разумении нынешней молодежи. Он был в черной визитке и цилиндре устарелого фасона, если вы понимаете, о чем я.
— Боюсь, я не вполне понимаю, миссис Уэллс. — Я старался говорить твердым голосом. — Что значит «цилиндр устарелого фасона»?
— Ой, да вы знаете, господин Уилки. Такой с полями поширше да тульей пониже — больше похожий на шляпу для верховой езды, какие носили джентльмены в пору моей юности. И по всему касторовый, а не шелковый.
— Благодарю вас, миссис Уэллс, — сказал Чарли.
— Да… и еще вуаль, конечно, — добавила миссис Уэллс. — Даже издалека я разглядела вуаль. Ваша матушка позже помянула о ней.
— Мне она ничего такого не говорила, — сказал Чарли. — Зачем доктору Рамсису вуаль?
— Чтобы скрывать ожоги, ясное дело. Страшные ожоги, сказала Хэрриет… то есть миссис Коллинз. Ваша милая матушка. Доктор Рамсис не хотел пугать людей на улицах.
Я на несколько мгновений закрыл глаза, а когда открыл, взгляд мой намертво приковался к судорожно искаженному лицу матери и разинутому рту, где болтался сухой язык, точно обрывок чалочного каната. Белые глазные яблоки, вылезающие из орбит, походили на два яйца, невероятным усилием втиснутые под веки.
— Миссис Уэллс, — тихо проговорил Чарли, — окажите любезность, сходите за соседским мальчиком, который иногда выполняет разные матушкины поручения. Нам нужно отправить телеграмму доктору Фрэнку Берду в Лондон. Уилки сейчас напишет ее, а мальчик отнесет в телеграфную контору.
— Так поздно, господин Чарльз? Контора-то закроется меньше чем через час.
— Значит, нам надобно поторопиться, верно, миссис Уэллс? Спасибо вам за помощь. Матушка от всего сердца поблагодарила бы вас, когда бы могла.
Перед отъездом в Танбридж-Уэллс я наговорил Кэролайн резкостей.
Уму непостижимо, невероятно, но она продолжала задавать вопросы, требовать ответов и преграждать мне путь к двери даже после того, как я показал телеграмму от брата.
— Где ты провел ночь? — не унималась она. — Где вырядился в мерзкие лохмотья, которые сжег Томми? Что за дрянью они воняли? Когда ты вернешься? Что нам делать со званым обедом? С билетами в театр? Все настроились на…
— Во-первых, сними и выброси эти чертовы гирлянды, — прорычал я. — И устраивай на здоровье свой званый обед. Отправляйся в театр со всеми моими друзьями. Тебе не впервой принимать гостей и развлекаться за мой счет в мое отсутствие.
— Как тебя понимать, Уилки? Ты что, не хочешь, чтобы я выполнила наши обязательства перед твоими друзьями? Не хочешь, чтобы мы воспользовались билетами на твою пьесу, хотя ты пообещал доброй дюжине людей, что они увидят ее сегодня из авторской ложи? Что ты хочешь, чтобы я сделала?
— Я хочу, чтобы ты пошла к черту! — рявкнул я.
Кэролайн застыла на месте.
— Моя мать умирает, — сказал я резким тоном, не допускающим возражения. — А что касается вопроса, с кем тебе обедать и ходить в театр, так по мне — развлекайся хоть с самим дьяволом. — Я в бешенстве уставился на нее. — Или со своим водопроводчиком.
Кэролайн Г***, по-прежнему стоявшая неподвижно, залилась краской от линии волос до линии декольте.
— О чем… о чем ты говоришь, Уилки?
Распахнув дверь в туман и холод, я рассмеялся ей в лицо.
— Ты прекрасно все понимаешь, дорогая моя. Я говорю о мистере Джозефе Чарльзе Клоу, сыне винокура с Авеню-роуд, водопроводчике по профессии и соблазнителе — или жертве соблазна — по призванию. О том самом мистере Клоу, которого ты тайком кормишь за моим столом и с которым ты пять раз тайно встречалась после Рождества.
Я вышел и с грохотом захлопнул дверь перед красным, полным ужаса лицом Кэролайн.
В Танбридж-Уэллсе, покрытом снежной пеленой и окутанном густым, тревожно-белым туманом, царила жутковатая тишина, когда Чарли подъехал на санях к станции, чтобы встретить меня с дневного поезда. Тишина и туман сгустились и стали совсем уже зловещими к десяти часам вечера, когда тепло закутанный Фрэнк Берд возник из морозной мглы, подкатив к дому на санях, которыми и на сей раз правил вечно недужный, но с виду неутомимый Чарли. Я оставался с матушкой и уснувшей миссис Уэллс, пока брат ездил к станции за нашим другом и врачом. Доктор Эйхенбах давно откланялся.
Фрэнк Берд пожал мне руку, безмолвно выражая сочувствие, и принялся обследовать матушку. Мы с Чарли ждали в соседней комнате. Там слабо горел камин, и мы решили не зажигать ни свечей, ни ламп. Миссис Уэллс спала на диване в дальнем углу. Мы с братом разговаривали шепотом.
— Она ведь не в таком состоянии находилась на прошлой неделе, в последний твой приезд? — спросил я.
Чарли помотал головой.
— Она жаловалась на боли и затрудненное дыхание… ну ты знаешь, Уилки, как она постоянно сетует… сетовала… Но нет, Ничто не предвещало этого… кошмара.
В скором времени к нам вышел Берд, и мы разбудили миссис Уэллс, чтобы вместе выслушать его заключение.
— Похоже, у Хэрриет случилось сильнейшее кровоизлияние в мозг, — тихо промолвил он. — Как вы сами видите, она утратила речевую способность, координацию движений и — вполне вероятно — рассудок. Что же касается до остального… — Он повернулся к миссис Уэллс. — Не упала ли миссис Коллинз на днях? Не поранилась при падении ножницами, кухонным ножом или вязальной спицей?
— Нет конечно! — воскликнула старая женщина. — Миссис Коллинз вела не настолько подвижный образ жизни, чтобы такое могло с ней приключиться. Да и я бы не допустила ничего подобного. И она непременно сказала бы мне, кабы… нет, нет, она не могла пораниться.
Берд кивнул.
— А почему вы спрашиваете, Фрэнк? — осведомился Чарли.
— У вашей матери свежий порез вот здесь… — Берд дотронулся до своего живота прямо под грудиной. — Длиной около двух дюймов. Ранка не представляет опасности для здоровья и уже заживает, но непонятно, откуда она взялась у человека, который не… — Он потряс головой. — Впрочем, неважно. Я уверен, это никак не связано с кровоизлиянием в мозг, случившимся, по всей видимости, прошлой ночью.
До этого я стоял, но сейчас ощутил такую слабость в коленях, что был вынужден сесть.
— Каков… прогноз? — спросил Чарли.
— Надежды нет, — твердо произнес Берд. — Мозг поврежден слишком сильно. Она еще может прийти в сознание, у нее даже может проясниться рассудок перед смертью — но я уверен: надежды нет. Теперь это вопрос дней или недель.
Миссис Уэллс пошатнулась, словно собираясь упасть в обморок, и Фрэнк с Чарли подхватили ее под руки и отвели обратно к дивану.
Я сидел, тупо уставившись в огонь. В Америке сейчас середина дня. В комфортабельных, светлых, чистых апартаментах Чарльз Диккенс, окруженный поистине королевскими почестями, готовится к очередному вечернему сеансу народного обожания. В недавнем письме, показанном мне Уиллсом, Диккенс писал: «Люди оглядываются, оборачиваются, всматриваются в меня, бросаются ко мне за автографами… или возбужденно переговариваются. "Смотрите, смотрите! Диккенс!"» — и еще упоминал, что его всегда узнают в поездах: «…в железнодорожных вагонах, при виде человека, явно желающего заговорить со мной, я обычно предупреждаю его желание, заговаривая первым».
Какое чувство долга! Как несказанно великодушно со стороны моего бывшего соавтора и вечного соперника! Он там снисходит до общения с десятками тысяч исполненных благоговения (пусть сознательно невежественных и безнадежно безграмотных) американцев, боготворящих самую землю, по которой ступала его нога, — а я сижу здесь, истерзанный болью, сокрушенный горем, исполненный отчаяния… моя мать умирает в страшных муках… скарабей скребется в моем черепе, словно…
— Я покидаю вас. Я переночую у знакомых в деревне и проведаю Хэрриет завтра утром перед тем, как вернуться поездом в Лондон.
Со мной говорил Фрэнк Берд. Я потерял счет времени. Очевидно, Чарли отвел плачущую миссис Уэллс в ее комнату и сейчас, в пальто и меховой шапке, ждал у двери, чтобы отвезти врача. Я вскочил с кресла, обеими руками пожал Берду руку и рассыпался в благодарностях.
— Я останусь с мамой, — сказал я Чарли.
— А я сменю тебя по возвращении и посижу с ней ночью, — сказал брат. — У тебя изнуренный вид, Уилки. Растопи камин пожарче, чтобы лечь здесь на кушетке, когда я вернусь.
Я помотал головой, но хотел ли я сказать, что останусь возле матери до утра, или что я не изнурен, или что мне не нужен огонь, — я не знаю. Потом Чарли с Бердом удалились, и я услышал фальшиво-радостный зимний звон колокольчиков на упряжи, когда они покатили обратно к деревне.
Я вошел в матушкину спальню и сел на деревянный стул, придвинутый к кровати. Ее глаза были по-прежнему открыты, но явно ничего не видели, веки изредка подрагивали. Безжизненные руки с подвернутыми кистями напоминали перебитые крылья жалкой птахи.
— Матушка, — тихо проговорил я, — простите меня, что…
Я умолк. За что я прошу прощения? За то, что убил ее, связавшись с Друдом? Но так ли это?
— Матушка… — снова начал я и снова умолк.
В последние месяцы я писал ей и разговаривал с ней главным образом о собственных своих успехах. Я был слишком занят работой над пьесой, репетициями пьесы и походами на первые представления пьесы, чтобы уделять время матери, — даже в Рождество я с трудом высидел с ней несколько часов и с утра пораньше умчался на станцию, чтобы поспеть на первый поезд до Лондона. Во всех письмах, написанных с прошлого лета, я говорил либо о себе (хотя мать очень радовалась известиям о моих успехах), либо об условиях передачи нам с Чарли ее свободного капитала в случае, если она умрет раньше нас.
— Матушка…
Ее веки снова затрепетали. Может, она пытается что-то сказать мне? Хэрриет Коллинз всегда была деловой, рассудительной, уверенной, толковой женщиной, занимающей прочное положение в обществе. В течение многих лет после смерти моего отца она являлась хозяйкой салона, где собирались известнейшие художники и литераторы. Образ матери всегда связывался в моем сознании с компетентностью, чувством собственного достоинства и почти царственным самообладанием.
А теперь — это…
Не знаю, дорогой читатель, сколько времени просидел я у матушкиной постели. Помню только, что в какой-то момент я начал плакать. Потом наконец я решился: я должен знать. Я поставил свечу поближе, склонился над бесчувственным телом и откинул одеяло.
Матушка была в ночной рубашке, но та застегивалась лишь на несколько пуговиц у шеи — недостаточно для моей цели. Продолжая плакать, вытирая нос рукавом, я стянул верхнюю простыню к бледным, испещренным голубыми прожилками, опухшим щиколоткам и — рыдая уже в голос, держа свечу в одной руке — медленно задрал подол фланелевой ночной рубашки.
Опаляя волосы свечой, я прикрыл глаза согнутой в локте левой рукой, чтобы мне, любящему сыну, не видеть полной наготы своей матери. Но признаюсь, я слишком высоко поднял подол влажной от пота рубашки и увидел все-таки сморщенные обвислые груди, когда глянул вниз, по-прежнему ограничивая свое поле зрения поднесенной к глазам рукой.
А под ними, под резко выступающими ребрами, обтянутыми бледной кожей, прямо под грудиной я увидел багровую ранку.
Похоже, такой же длины, такого же оттенка, такой же формы, как у меня.
Окончательно обезумев от усталости и ужаса, я рванул на себе сорочку, и пуговицы брызнули в стороны, запрыгали по дощатому полу, закатываясь под кровать. Я согнулся чуть не пополам, чтобы увидеть красную отметину на своем животе, и быстро водил свечой туда-сюда, сравнивая ранку, оставленную моим скарабеем, с багровым рубцом у матери под ребрами.
Они были совершенно одинаковые.
Внезапно позади скрипнула половица, потом послышался сдавленный возглас. Я круто развернулся — у меня сорочка выпущена из брюк и расстегнута, у матери ночная рубашка задрана до самого горла — и увидел миссис Уэллс, в диком ужасе смотревшую на меня вытаращенными глазами.
Я открыл рот, чтобы все объяснить, но не нашел слов. Я стянул подол ночной рубашки обратно к ногам матери, накрыл недвижное тело простыней и одеялом, поставил свечу на прикроватный столик и повернулся к старой экономке, резко отпрянувшей назад.
Неожиданно раздался громовый стук в дверь.
— Останьтесь здесь, — велел я миссис Уэллс.
Старуха молча попятилась и закусила костяшки пальцев, когда я торопливо прошел мимо.
Я кинулся к двери — в смятении мыслей я решил, что вернулся Фрэнк Берд с новым, чудесным образом пересмотренным прогнозом, на сей раз обнадеживающим, — и уже у самого порога бросил взгляд в сторону маминой спальни. Миссис Уэллс нигде не было видно.
Стук продолжался, становился все яростней.
Я распахнул дверь.
На крыльце под ночным снегопадом стояли четверо крупных мужчин в почти одинаковых черных пальто и зимних рабочих кепках. Катафалкоподобная карета с тускло горящими фонарями ждала поодаль.
— Мистер Уилки Коллинз? — осведомился самый крупный мужчина, стоявший впереди.
Я тупо кивнул.
— Пора, — сказал он. — Инспектор ждет. Ко времени нашего возвращения в Лондон все будет готово. Поторопитесь.
Глава 29
Подземный город пылал.
Инспектор Филд говорил, что через двадцать четыре часа он соберет сотню человек — бывших сыщиков, свободных от дежурства и отставных полицейских, — горящих желанием спуститься под землю, чтобы отомстить за сержанта Хибберта Хэчери.
Похоже, он недооценил свои возможности. Даже судя по обрывочным картинам, проносившимся перед моим взором в последующие часы, представлялось очевидным, что в операции задействовано гораздо больше ста человек.
В широкой плоскодонке, куда меня доставили по приказу Филда, находилась дюжина мужчин. На наклонном шесте, выступающем за корму, висел яркий фонарь. Двое парней на носу управляли огромным карбидовым прожектором, какие используются на уэльских рудниках в чрезвычайных обстоятельствах, например при обрушении шахт. Ослепительно-белый конусообразный луч прожектора, установленного на вращающейся опоре, то падал на темные воды широкой подземной реки, известной под названием Канава Флит, то упирался в сводчатый кирпичный потолок, то скользил по стенам тоннеля и узким дорожкам, тянувшимся по обеим сторонам потока.
За нами следовала еще одна плоскодонка. Насколько я понял, еще две шаланды двигались навстречу нам от устья Флит, то есть от самой Темзы. Впереди и позади нашей странной флотилии плыли верткие узкие лодки — на корме и носу стояли гребцы с длинными веслами или шестами, на скамьях сидели люди, вооруженные винтовками, дробовиками и пистолетами.
В нашей головной шаланде тоже не было недостатка в винтовках, дробовиках и пистолетах. Похоже, молчаливые мужчины в темной рабочей одежде прежде служили стрелками в армии или Столичной полиции. Весьма далекий от военного ремесла, я никогда прежде не видел такого количества огнестрельного оружия. Мне даже в голову не приходило, что в Лондоне так много штатских лиц, владеющих оружием.
В длинном зловонном тоннеле, обычно погруженном в кромешный мрак, сейчас плясали лучи и круги света от многочисленных фонарей, которыми светили по сторонам люди в лодках и шаландах, еще сильнее рассеивая тьму, разогнанную мощными лучами громадных прожекторов. Эхо криков раскатывалось над смрадным потоком. Еще десятки мужчин, тоже с фонарями и оружием, шагали по узким каменным или кирпичным дорожкам, пролегающим вдоль стен извилистого коллектора.
Нам не пришлось возвращаться на Погост Святого Стращателя, чтобы добраться до нижнего уровня Подземного города (честно говоря, дорогой читатель, вряд ли у меня хватило бы духа еще раз пройти тем путем). Существовали новые — сооруженные в ходе строительства подземной железной дороги — тоннели, коридоры и лестницы, соединявшиеся с древними катакомбами при кладбище Эбни-парк в Сток-Ньюингтоне, и нам просто потребовалось спуститься по хорошо освещенным каменным ступеням, пройти по слабо освещенным тоннелям, спуститься последующему пролету каменных ступеней, преодолеть короткий, но замысловатый лабиринт катакомб, пропитанных могильным запахом, потом спуститься по деревянным лестницам типа стремянных к коллекторам Кросснесской очистной станции, где все еще велись строительные работы, а потом по узким шахтам и древним тоннелям спуститься еще ниже, непосредственно в Подземный город.
Как они доставили сюда лодки и прожектора, я понятия не имел.
Мы продвигались вперед далеко не бесшумно. В дополнение к умножаемым эхом возгласам, гулким шагам и редким выстрелам по особо агрессивным крысам (стаи мерзких грызунов плыли перед нашей шаландой, рядом с лодками, и поверхность воды представляла собой сплошную массу бурых спин), впереди то и дело гремели взрывы, столь оглушительные, что мне приходилось зажимать уши ладонями.
В кирпичных стенах сводчатого тоннеля, с одной и другой стороны, располагались без всякого порядка разновеликие проемы, иные всего три фута в поперечнике, другие гораздо больше — устья малых канализационных коллекторов, впадающих в главный, Канаву Флит. Большинство проемов было перекрыто ржавыми решетками. Инспектор Филд приказал взрывать решетки динамитом и отправил вперед команды подрывников, пешие и на лодках.
Грохот взрывов, многократно усиленный акустикой кирпичного тоннеля, раздавался каждые несколько минут, и мне всякий раз представлялось, будто мы находимся в самой гуще одного из кровопролитных сражений Крымской войны, окруженные со всех сторон артиллерийскими батареями.
Это было невыносимо — особенно для нервов, измотанных за трое (самое малое) бессонных суток, для тела, которое совсем недавно обездвижили наркотиком и бросили умирать в темноте, и для измученного рассудка, отчаянно протестующего против такого насилия. Я вытащил заветную флягу из прихваченного с собой саквояжа и выпил еще четыре дозы лауданума.
Внезапно смрад усилился. Я прикрыл платком рот и нос, но мерзопакостный слезоточивый запах просачивался сквозь него.
У инспектора Филда я не приметил никакого оружия, но он был в черном зимнем плаще с капюшоном, надвинутой на лоб широкополой шляпе и красном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи и закрывавшем нижнюю половину лица. В кармане такого широкого плаща можно спрятать любое оружие.
Филд не сказал мне ни слова, когда четыре призрака в черном и присоединившийся к ним позже Реджи Баррис доставили меня в Подземный город и на шаланду. Но теперь он, в промежутке между взрывами, принялся декламировать:
- Как решились
- Вы с вашим нюхом утонченным
- На плаванье по рекам сим зловонным
- Столь жарким летом, когда все едят
- Горох стручковый, кабачки, шпинат
- И прочую слабительную пищу,
- А после в нужниках обильно дрищут,
- Где стены не водой — мочой потеют?
Баррис и прочие подчиненные уставились на него как на сумасшедшего, но я рассмеялся.
— У вас с Чарльзом Диккенсом есть кое-что общее, инспектор.
— Да ну? — Темные кустистые брови старика удивленно изогнулись над красным шарфом.
— Похоже, вы оба знаете наизусть «Памятное путешествие» Бена Джонсона, — пояснил я.
— Любой образованный человек знает, — сказал инспектор Филд.
— И то верно, — согласился я, несколько взбодренный чудотворным лауданумом. — Вообще говоря, существует целый отдельный жанр: сортирная проза, сортирная поэзия.
— Синекдоха, обозначающая вонь и грязь огромного города, раскорячившегося над нами во всей своей клоачной мерзости, — сказал инспектор, совершенно неожиданно для меня демонстрируя грубоватое аллитеративное красноречие.
Скорее всего, впрочем, он был крепко пьян.
— Не желаете ли послушать строки из свифтовского «Описания ливня в городе»? — продолжал старик. — Полагаю, господин Уилки Коллинз, вам, писателю, хорошо известно, что Свифт имел в виду вовсе не дождь. А хотите — я прочитаю вам вторую часть сортирной «Дунсиады» Поупа, что представляется более уместным сейчас, в ходе нашей одиссеи по зловонной Канаве Флит.
— Как-нибудь в другой раз, — сказал я.
Канава Флит расширилась, превратившись в настоящую подземную реку, достаточно широкую, чтобы две наши шаланды и десяток лодок шли по ней развернутым строем. Кирпичный потолок тоннеля исчез, когда мы вошли в естественную пещеру протяженностью с четверть мили, если не больше, — высокие неровные своды здесь скрывались за плотной пеленой тумана, пара или дыма. Справа по ходу нашего движения десятки перекрытых решетками сточных труб — порой диаметром до дюжины футов — изливали свои дымящиеся сточные воды в главный нечистотный поток, а по левую руку виднелись низкие, широкие насыпи земли и битого камня — своего рода берег. Над ним на высоту тридцати — сорока футов поднимались ярусы выступов, проемов, ниш, катакомбных камер, древних шахтных устий и глубоких подвалов, которые все придавали пещерной стене сходство с многоэтажным домом на Стрэнде.
Когда мы подошли ближе к берегу, я посмотрел наверх и увидел там жалких оборванцев, выглядывающих из-за низких оград, трепещущие костры, убогие тряпки, развешанные на веревках над пропастью, приставные лестницы и грубо сколоченные мостки соединяющие подземные жилища.
Чарльз Диккенс всегда считал, что он спускался на самое дно лондонских трущоб и познакомился с жизнью беднейших бедняков нашей столицы, но здесь, глубоко под землей, становилось ясно, что есть люди и более бедные, чем беднейшие из бедняков, населяющих гнилые, тифозные трущобы наверху.
В нишах и на широких уступах стояли целые семьи с детьми в разношерстных грязных лохмотьях, и все они смотрели на нас с тревогой и страхом, словно мы были викингами, совершающими набег на некое древнее, богом забытое саксонское поселение. Вырубленные в пещерной стене глубокие полости, в каждой из которых теснились шалаши, сооруженные из парусины, старой жести, битого кирпича и глины, напомнили мне иллюстрацию с изображением покинутых скальных жилищ индейских племен в каньонах на западе или юго-западе Америки. Только эти скальные жилища никто не собирался покидать — по моей оценке, здесь, глубоко под городом, обитала не одна сотня отверженных.
Еще десятки людей инспектора Филда появлялись из невидимых тоннелей и лестничных шахт, подходили с юга по мощеным дорожкам вдоль сточного канала. Шаланды и лодки пристали к берегу, прохрустев по битому камню; мужчины в черном, с факелами, фонарями и винтовками, сошли с них и рассыпались в разные стороны.
— Поджечь все к чертовой матери, — спокойно сказал инспектор Филд, и ближайшие его помощники повторили тихий приказ громкими голосами, раскатившимися многократным эхом.
Огромная пещера загудела от криков и воплей. Я видел, как люди Филда карабкаются по приставным лестницам, взбегают по каменным ступеням, стремительно шагают по вырубленным в скале дорожкам, выгоняя ничтожных оборванцев из лачуг и шалашей. Я не замечал никакого сопротивления со стороны здешних обитателей. И задался вопросом, зачем вообще человеку спускаться сюда, в эти подземные пещеры, но почти сразу сообразил, что здесь, под землей, держится постоянная температура, не менее пятидесяти пяти градусов, тогда как наверху, на мощеных улицах и в неотапливаемых трущобных домах, она сейчас гораздо ниже.
Когда первые языки пламени взметнулись над человеческим муравейником, по пещере прокатился единый вздох, испущенный несколькими сотнями людей. Сухое тряпье, дерево, старые тюфяки, притащенные со свалки диваны горели, как трут, и уже через две минуты — хотя большую часть дыма вытягивало в вырубленные в скале шахты и галереи — под сводами пещеры висело плотное черное облако. Сквозь дымную пелену засверкали оранжевые вспышки, прогремело несколько взрывов подряд — соратники инспектора Филда взрывали решетки в устьях сточных труб на другой стороне потока. Вся сцена напоминала картину яростной летней грозы.
Внезапно с одной из верхних террас свалился тюк тряпья и с шипением ушел под воду подземной реки. Я страстно надеялся, что это был всего лишь тюк тряпья. Я страстно наделся, что видел всего лишь развевающиеся в полете лохмотья, а не молотящие по воздуху руки и ноги.
Я подошел к инспектора Филду, стоявшему на носу шаланды, и спросил:
— Разве так уж необходимо выкуривать отсюда этих несчастных?
— Да.
Он не соизволил посмотреть на меня, всецело поглощенный зрелищем. Время от времени он делал знак Баррису или одному из других своих любимчиков, приказывая согнать бегающих оборванцев в кучу или поджечь факелом какой-нибудь шалаш, еще не занявшийся огнем.
— Но зачем? — упорствовал я. — Это же просто убогие босяки, неспособные выжить на городских улицах. Они никому не причиняют вреда.
Филд повернулся ко мне.
— Эти жалкие подобия мужчин, женщин со своими отпрысками не являются подданными ее величества, — мягко промолвил он. — Здесь, внизу, нет англичан, мистер Уилки Коллинз. Здесь королевство Друда, а это его приспешники. Они хранят ему верность и так или иначе оказывают ему услуги и помощь.
Я начал смеяться и понял, что мне не остановиться.
Инспектор Филд приподнял кустистую бровь.
— Я сказал что-нибудь смешное, сэр?
— Королевство Друда… — наконец сумел выговорить я. — Верные подданные… Друда. — Я снова залился безудержным смехом.
Инспектор отвернулся от меня. Над нами тюки тряпья разных размеров покидали задымленные скальные жилища и под конвоем подчиненных Филда уходили наверх.
— Будьте любезны, перейдите в лодку мистера Барриса, — сказал мне инспектор спустя какое-то время.
Я плохо следил за происходящим.
Помню, мы оставили позади длинную пещеру с горящими скальными жилищами и снова двинулись по тоннелю, заключающему в своих стенах Канаву Флит. Впереди поток разветвлялся на два канала, один из них — левый — перегораживала низкая плотина или водослив, и вторую шаланду пришлось перетаскивать через преграду с помощью талей. Лодки поменьше уже преодолели препятствие. Наша плоскодонка поплыла по правому каналу, но впереди показалось устье большого коллектора, и, очевидно, инспектор хотел, чтобы я обследовал тот вместе с Реджинальдом Баррисом.
— Вы видели храм Друда, — пояснил инспектор.