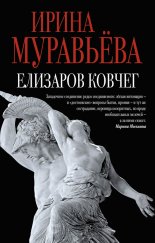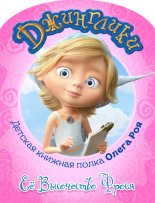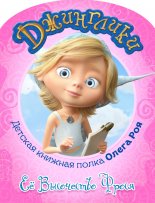Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн
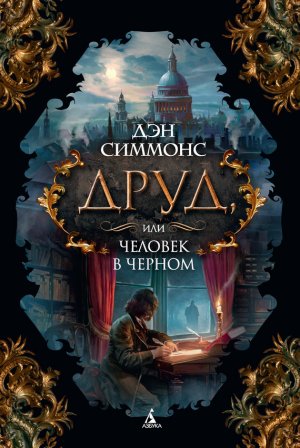
— Я не видел никакого храма, — устало сказал я.
— Вы его описывали, сэр. Ступени, ведущие наверх от реки, высокие бронзовые двери, статуи по бокам лестницы — египетские реликты, человеческие фигуры с шакальими или птичьими головами.
По спине у меня побежали мурашки при воспоминании о кошмарном сне с жуком, привидевшемся мне меньше тридцати шести часов назад, — правильно ли я оцениваю временной промежуток? Действительно ли прошло всего полтора дня с момента, когда я очнулся в темном склепе?
— Его описывал Чарльз Диккенс, — сказал я. — Я никогда не говорил, будто видел мифический храм Друда… да и самого Друда, коли на то пошло.
— Вы были там вчера, мистер Уилки Коллинз, мы оба это знаем, — промолвил инспектор Филд. — Но не будем спорить. Пожалуйста, перейдите к сыщику Баррису.
Прежде чем перебраться в лодку, я спросил:
— Ваши поиски здесь подходят к концу, инспектор?
Старик отрывисто хохотнул.
— Да мы еще толком и не приступили к поискам, сэр. Еще часов восемь самое малое — покуда мы не встретимся с моими людьми, идущими на шаландах от Темзы.
Услышав это, я снова почувствовал головокружение и тошноту. Когда я в последний раз спал по-настоящему — не валялся в беспамятстве, одурманенный наркотиком Короля Лазаря или Друда, а именно спал? Сорок восемь часов назад? Семьдесят два?
Я неуклюже спустился в шаткую лодку, где ждали Баррис и еще двое мужчин — один стоял на носу с длинным шестом, другой сидел на корме у руля, — и мы покинули реку и медленно двинулись по боковому кирпичному тоннелю. Я сидел на скамье в середине шестнадцатифутового суденышка, а Баррис стоял рядом, сохраняя равновесие с помощью второго шеста. Поросший мхом кирпичный потолок был здесь таким низким, что Баррис мог отталкиваться от него руками, помогая двигать лодку вперед. Я видел зеленые пятна на его дорогих желто-коричневых перчатках.
Я уже начал клевать носом, когда мы вышли из узкого коллектора в канал шириной футов двадцать.
— Сэр! — Сыщик на носу посветил фонарем вперед.
Четыре маленьких дикаря стояли по пояс в воде, возясь с неким тяжелым, разбухшим от влаги предметом, похоже только что выпавшим из устья канализационной трубы, расположенного высоко в стене тоннеля.
При ближайшем рассмотрении «разбухший от влаги предмет» оказался позеленелым трупом мужчины. Мальчишки шарили в карманах изгнившего сюртука. Они застыли на месте в луче света, уставившись на нас широко раскрытыми, блестящими, нечеловеческими глазами.
На меня накатило головокружительное дежавю, а потом я осознал, что вижу сцену, словно взятую из низкопробного авантюрного романа «Маленькие лондонские дикари, или Дети ночи. Повесть наших дней», о котором мы с Диккенсом оба упоминали — смущаясь тем обстоятельством, что читали данное творение, — во время первого нашего похода в Подземный город два года назад.
Казалось, по блестящему мокрому лицу мертвеца пробегала частая дрожь — такое впечатление, будто мучнисто-белые полуразложившиеся черты накрыты тончайшей, прозрачной шелковой тканью. Казалось, глаза открывались и закрывались, губы подергивались, словно пытаясь сложиться в улыбку — наверняка скорбную, ибо приятно ли быть участником сцены из столь дурно написанного бульварного романа.
Потом я сообразил, что движутся-то вовсе не лицевые мускулы трупа. Лицо мертвеца, руки, все открытые участки тела были сплошь покрыты червями, безостановочно переползающими с места на место.
— Стоять! — гаркнул Баррис, когда маленькие дикари бросили разбухший труп обратно в темную вонючую воду и пустились наутек.
Мужчина на носу направил луч фонаря на улепетывающую четверку, а парень на корме сильно толкнул лодку вперед, глубоко погрузив шест в густую жижу на дне коллектора. Я от души наслаждался безумной абсурдностью происходящего — только тошнотворное дополнение в виде трупных червей несколько портило впечатление.
— Стоять! — снова рявкнул Баррис, в руке сыщика внезапно оказался маленький серебристый револьвер.
Я по сей день не понимаю, зачем он хотел задержать этих одичалых существ.
Двое мальчишек, подтянувшись на руках, заползли в устье канализационной трубы, расположенное высоко в стене, — оно казалось слишком узким даже для этих чудовищно худых, оголодалых призраков, но они, яростно извиваясь, умудрились протиснуться в него. Когда бледные босые ступни последнего из них, судорожно молотящие, елозящие по внутренней поверхности трубы, скрылись из виду, я почти ожидал услышать хлопок, с каким пробка вылетает из бутылки шампанского. Третий мальчишка присел на корточки и проскользнул в отверстие на противоположной стене тоннеля.
Четвертый, стоявший уже по грудь в потоке нечистот, внезапно повернулся и швырнул в нашу приближающуюся лодку две пригоршни дерьма. Сыщик с фонарем проворно пригнулся и выругался. Мерзкая жижа расплескалась по скамье, где я сидел, и несколько крупных брызг попало на лацканы толстого шерстяного пальто Реджинальда Барриса.
Я рассмеялся.
Баррис выстрелил два раза. В узком кирпичном тоннеле выстрелы прогрохотали столь оглушительно, что я зажал уши ладонями.
Маленький дикарь упал ничком в воду.
Лодка проплыла мимо облепленного червями трупа и приблизилась к мальчишке. Сыщик с шестом наклонился, перевернул тело и наполовину втащил в лодку. Грязная зловонная вода стекала с лохмотьев и выливалась из раскрытого рта ребенка.
Ему было не больше десяти-одиннадцати лет. Одна из пуль Барриса попала в горло, зацепив яремную вену. Кровь все еще лилась толчками из раны, но еле-еле. Вторая пуля вошла в щеку под глазом — по-прежнему широко открытым. Глаза у него были голубые и, казалось, смотрели на нас с укором.
Мужчина столкнул тощее тельце обратно в черную воду.
Я вскочил на ноги и схватил Барриса за широкие плечи.
— Вы убили ребенка!
— Здесь, в Подземном городе, нет детей, — холодно, равнодушно ответил Баррис. — Только паразиты.
Помню, я набросился на него. Лишь благодаря невероятным усилиям сыщика с шестом и кормчего, использовавшего румпель в качестве балансира, наше шаткое суденышко не перевернулось, вывалив четыре наших тела в смрадный поток, где плавали изъеденный червями труп и убитый мальчишка.
Помню, я издавал разные звуки — яростные рыки, хрипы, сдавленные вопли, нечленораздельные крики, — но не произносил ни единого осмысленного слова. Я накинулся на сыщика не с кулаками, как подобает мужчине, а пустил в ход ногти, норовя выцарапать ему глаза, как сделала бы взбешенная женщина.
Смутно помню, Баррис отбивался от меня одной рукой, пока не стало ясно, что я не уймусь и в конце концов опрокину лодку. Смутно помню, вопли мои становились все исступленнее и моя слюна брызгала на красивое лицо молодого сыщика. Помню, он отрывисто бросил несколько слов кормчему у меня за спиной, а потом серебристый револьвер взметнулся вверх, сверкнув коротким, но тяжелым стволом в пляшущем свете фонаря.
А потом — слава богу — я не помню ничего, ибо провалился в черноту без сновидений.
Глава 30
Очнулся я при свете дня, в собственной постели, в собственной ночной рубашке, в жестоких телесных муках. Надо мной стояла Кэролайн с лицом мрачнее тучи. Голова у меня раскалывалась от дикой боли, какой я не испытывал никогда прежде, и все до единой мышцы, сухожилия, кости и клетки моего тела, казалось, со скрежетом трутся друг о друга, истошно крича нестройным хором от нестерпимых физических страданий. Я чувствовал себя так, словно уже много дней или даже недель не принимал целительного лауданума.
— Кто такая Марта? — осведомилась Кэролайн.
— Что? — с трудом проговорил я, еле шевеля сухими, потрескавшимися губами и распухшим языком.
— Кто такая Марта? — повторила Кэролайн голосом резким и жестким, как пистолетный выстрел.
Из всех приступов паники, пережитых мной за последние два года — даже ночью, когда я очнулся в кромешной тьме подземного склепа, — ни один не шел в сравнение с тем, что я испытал сейчас. Так, наверное, чувствует себя сытый, довольный жизнью, уверенный в собственной безопасности человек, когда комфортабельный экипаж, где он сидит, вдруг срывается с горной дороги в пропасть.
— Марта? — пролепетал я. — Кэролайн… дорогая… о чем ты говоришь?
— Ты два дня и две ночи повторял во сне имя Марта. — Ни тон Кэролайн, ни выражение лица не смягчились. — Так кто такая Марта?
Два дня и две ночи! Сколько же времени я находился без сознания? Как я оказался здесь? Почему у меня голова перевязана?
— Кто такая Марта? — упорствовала Кэролайн.
— Марта… это… персонаж Диккенса из «Дэвида Копперфилда», — сказал я с притворно равнодушным видом, ощупывая повязку на голове. — Ну ты знаешь… уличная женщина, которая ходит вдоль грязной, зловонной Темзы в поисках клиентов. Кажется, мне снилась река.
Кэролайн скрестила руки на груди и прищурилась.
Не стоит недооценивать, дорогой читатель, находчивость писателя-романиста, даже оказавшегося в столь сложной ситуации.
— Как долго я спал? — спросил я.
— Сегодня среда, — наконец промолвила Кэролайн. — В воскресенье около полудня мы услышали стук в дверь и обнаружили тебя на крыльце без сознания. Где ты был, Уилки? Чарли… они с Кейти заходили два раза, и он говорит, что состояние вашей матери остается прежним… так вот, Чарли сказал, что миссис Уэллс сообщила, что ты покинул материнский дом без всяких объяснений в субботу ночью. Куда ты направился? Почему твоя одежда — нам пришлось ее сжечь — воняла дымом и… кое-чем похуже? Что с твоей головой? Фрэнк Берд уже трижды проведывал тебя и всякий раз выражал беспокойство по поводу раны на виске и возможного сотрясения мозга. Он боялся, что ты в коме. Так где же ты был? И почему, скажи на милость, тебе снится диккенсовский персонаж по имени Марта?
— Потерпи минуту. — Я придвинулся к краю кровати, но тотчас решил, что не устою на ногах, а если даже устою, не смогу сделать ни шагу. — Я отвечу на все твои вопросы через минуту, но сперва прикажи служанке принести тазик. Живо. Меня сейчас вырвет.
Вполне возможно и даже вероятно, дорогой читатель, в Далекой Стране, где вы живете через сто с лишним лет от сего дня, медицина победила все болезни, истребила всякую боль и все недуги, обычные для моих современников, знакомы вам лишь по слухам, слабые отголоски которых докатились до вас из прошлого. Но в мое время, дорогой читатель, — несмотря на неизбежное высокомерие, с каким мы противопоставляли себя более примитивным народам, — мы не обладали знаниями, необходимыми для борьбы с болезнями и исцеления телесных повреждений, и не располагали достаточно действенными медицинскими препаратами, чтобы преуспеть в наших жалких попытках справиться со старейшим врагом рода человеческого — болью.
Мой друг Фрэнк Берд выгодно отличался от большинства представителей своего сомнительного ремесла. Он не стал пускать мне кровь. Не стал прикладывать мне пиявок к животу или использовать свой арсенал жутких стальных инструментов, предназначенных для трепанации (хирурги девятнадцатого века имели обыкновение при каждом удобном случае самым непотребным образом просверливать дыры в черепе пациента, словно вырезая сердцевину яблока плотницким буравом, и выдергивать круглый кусок черепной кости, точно пробку из винной бутылки, — причем неизменно с таким видом, будто это самое обычное дело). Нет, Фрэнк Берд часто навещал меня, встревоженный и искренне озабоченный, осматривал рану и жуткий кровоподтек на моем виске, менял повязки, пытливо расспрашивал о непроходящих болевых ощущениях, прописывал полный покой и молочную диету, тихо отдавал указания Кэролайн, корил меня за постоянное употребление лауданума, но не запрещал принимать его и — в конечном счете — выполнял первую заповедь Гиппократа: «Не навреди». Как и за своим более знаменитым пациентом Чарльзом Диккенсом, Фрэнк Берд усердно ухаживал за мной, не имея возможности мне помочь.
Посему я продолжал терпеть жестокие муки.
Я пришел в сознание — пусть не вполне ясное — в собственной спальне двадцать второго января, через четыре дня после последнего своего спуска в подземный притон Короля Лазаря. До конца недели я был слишком плох, чтобы встать с постели, хотя остро сознавал необходимость навестить мать. За все годы страданий от ревматоидной подагры я ни разу не испытывал ничего подобного. Помимо обычных болей в мышцах, суставах и внутренностях меня мучила поистине нестерпимая, дикая пульсирующая боль, гнездившаяся глубоко за правым глазом.
Словно некое огромное насекомое вгрызалось в мой мозг.
Именно тогда я вдруг вспомнил случайные слова Диккенса, сказанные мне давным-давно.
Мы обсуждали в общих чертах современную хирургию, и Диккенс мимоходом упомянул о «некой простой медицинской операции», перенесенной им много лет назад, перед первой поездкой в Америку.
Неподражаемый не стал вдаваться в подробности, но от Кейти Диккенс и прочих я знал, в чем заключалась та едва ли такая уж «простая» операция. У Диккенса, тогда работавшего над «Барнаби Раджем», резко обострились боли в области заднего прохода. (Сравнимы ли они с нынешними моими невыносимыми головными болями, я не знал.) Врачи поставили диагноз «фистула» — то есть свищевое отверстие в стенке прямой кишки, в которое проникли внутренние ткани.
Диккенсу ничего не оставалось, как согласиться на срочную операцию, и в качестве своего хирурга он выбрал доктора Фредерика Салмона, автора книги «Практическое описание строения прямой кишки». Сама операция состояла в том, что сначала анальное отверстие рассекли скальпелем, потом раскрыли прямую кишку, поочередно вставляя в нее все более крупные расширители, а потом, медленно и осторожно, вырезали проникшие в свищевое отверстие ткани и наконец зашили стенку прямой кишки.
Диккенс перенес все это без морфия, опиума или любого другого препарата из разряда тех, что ныне называются «анестетиками». По словам Кейти (узнавшей подробности от матери, разумеется), ее отец в ходе операции держался весело и быстро после нее оправился. Всего через несколько дней он снова писал «Барнаби Раджа» — правда, лежа на диване, обложенный подушками. И уже готовился к долгому и изнурительному Первому Американскому Турне.
Но я отвлекся от предмета.
Замечания Диккенса по поводу «простых медицинских операций» касались счастливой способности человека забывать боль.
— Меня часто поражает, Уилки, — сказал он тогда, едучи со мной в двухместной карете по дорогам Кента, — что, по сути, мы не сохраняем настоящих воспоминаний о боли. О да, мы помним, что нам было больно, и живо помним, как это было ужасно и как мы хотели никогда впредь не испытывать ничего подобного, — но ведь по-настоящему мы боль не помним, верно? Мы помним общее состояние, но не детали, как в случае с… скажем… роскошным обедом. Думаю, именно поэтому женщины соглашаются претерпевать родовые муки более одного раза — они просто забывают подробности прежних своих страданий. Таково мое мнение, дорогой Уилки.
— О родах? — спросил я.
— Да нет же, — сказал Диккенс. — О разнице между болью и наслаждением. Боль мы помним в общих, пусть и ужасных, чертах, но по-настоящему не помним. А вот наслаждение мы помним во всех подробностях. Сами подумайте — разве не так? Когда человек отведал изысканнейшего вина, выкурил лучшую сигару, отобедал в превосходнейшем ресторане… даже прокатился в такой вот шикарной карете, как наша теперешняя… или же познакомился с поистине красивой женщиной, все менее яркие впечатления подобного рода, полученные ранее, сохраняются у него и дальше, годами, десятилетиями… до конца жизни! Боль мы никогда толком не помним. Наслаждение — во всех сибаритских подробностях — никогда не забываем.
Что ж, возможно. Но уверяю вас, дорогой читатель: чудовищную боль, терзавшую меня в январе, феврале, марте и апреле 1868 года, я не забуду до скончания дней.
Когда заболевает фермер, пашню возделывают другие фермеры. Когда заболевает солдат, его кладут в лазарет, а на бранное поле посылают другого солдата. Когда заболевает торговец, кто-нибудь другой — скажем, жена — выполняет его повседневные обязанности в лавке. Когда заболевает королева, миллионы подданных молятся о ней и в спальном крыле дворца придворные ходят на цыпочках и разговаривают шепотом. Но жизнь фермы, армии, торговой лавки или государства продолжает идти своим чередом.
Если тяжело заболевает писатель, все останавливается. Если он умирает, творческий процесс навсегда прекращается. В этом смысле участь известного писателя очень похожа на участь знаменитого актера — но даже у самых знаменитых актеров есть дублеры. У писателя таковых нет. Заменить его никто не может. Его голос неповторим и уникален. Это особенно верно в случае с популярным писателем, чье произведение уже выходит выпусками в одном из главных журналов страны. «Лунный камень» начал издаваться в английском «Круглом годе» и американском «Харперз уикли» в январе. Несколько выпусков, написанных заблаговременно, уже были набраны в типографии, от меня ждали очередных выпусков в самом скором времени. А они существовали лишь в виде черновых заметок и набросков, и мне еще предстояло их написать.
Давление обязательств усугубляло ужас, владевший мной; к физическим страданиям, вызванным жестокой болью, денно и нощно терзавшей мои тело и мозг, прибавлялись страдания нравственные.
В первую неделю мучительной болезни я — неспособный сидеть и держать перо в руке, истерзанный неописуемой болью, прикованный к постели — пытался диктовать следующую главу Кэролайн, а потом ее дочери Кэрри. Ни одна, ни другая не могли выносить моих душераздирающих криков и стонов, помимо моей воли ежеминутно прерывавших диктовку. Обе то и дело бросались ко мне с утешениями, вместо того чтобы спокойно сидеть и ждать, когда я продолжу наговаривать текст.
В конце недели Кэролайн наняла мне секретаря, чтобы он сидел в кресле у моей постели и писал под диктовку. Но сей молодой человек, видимо обладавший чувствительной натурой, тоже не смог выносить моих стонов, жалоб и непроизвольных корчей. Уже через час он сбежал. Второй секретарь, явившийся в понедельник, оставался равнодушным и безучастным к моим мукам, но никак не мог выделить отдельные фразы из общего фона моих воплей и стенаний. Спустя два часа я отказался от его услуг.
В понедельник ночью, когда все домашние спали, но мне не давала уснуть или хотя бы просто лежать спокойно (даже после полудюжины доз лауданума) дикая боль от острых жвал, грызущих мой мозг, я встал с постели, с трудом добрел до окна, раздвинул траурно тяжелые портьеры, поднял штору и выглянул в слякотную тьму.
Я посмотрел в сторону Портмен-Сквер. Где-то там наверняка дежурили один-два агента инспектора Филда, пусть и незримые для непрофессионального глаза. Он не оставит меня без надзора теперь, когда я стал свидетелем его деяний.
Я попросил Кэролайн принести мне номера «Таймс», вышедшие за время, проведенное мной в беспамятстве, и каждый день просматривал свежие газеты. Но старые газеты она уже выбросила, а в новых ни словом не упоминалось о выпотрошенном теле отставного полицейского, найденном на кладбище в трущобах. В них не содержалось никаких сообщений о пожарах в припортовом квартале или в канализационных тоннелях, и Кэролайн лишь странно посмотрела на меня, когда я спросил, не слыхала ли она о таких пожарах.
Я задал тот же вопрос Фрэнку Берду, а потом моему брату Чарли, но ни одному, ни другому не попадались на глаза газетные заметки об убийстве сыщика и подземных пожарах. Оба они решили, что мои расспросы являются следствием мучающих меня кошмаров (мне тогда действительно снились жуткие кошмары всякий раз, едва я погружался в тревожный, прерывистый сон), и я не стал выводить их из заблуждения.
Очевидно, инспектор Филд использовал свое влияние, чтобы заставить полицию и прессу хранить молчание о зверском убийстве сержанта Хэчери… но почему?
Вероятно, Филд — и сотня или более людей, участвовавших в карательной экспедиции под городом, — просто утаили от полиции факт убийства.
Но опять-таки… почему?
Той ночью, когда я стоял у окна, вцепившись в портьеру, и смотрел в холодную, туманную полуночную тьму, у меня не было ни физических, ни умственных сил, чтобы ответить на собственные вопросы, но я все искал, искал взглядом агентов инспектора Филда, напряженно всматривался во мрак, словно в надежде узреть Спасителя.
Почему? Разве может инспектор Филд избавить меня от этой боли?
Скарабей переместился на дюйм-два в основании моего мозга, и я дважды вскрикнул, — второй крик я заглушил, прижав ко рту край бархатной занавеси.
Филд был вторым шахматистом в этой ужасной игре, и в способности противостоять чудовищу Друду с ним мог сравниться разве только отсутствующий Чарльз Диккенс (чьи мотивы я понимал еще хуже). Я вдруг осознал, что начинаю приписывать старому толстому сыщику невероятные, почти мистические способности.
Мне нужен кто-то, кто спасет меня.
Такого человека не было.
Всхлипывая, я дотащился до кровати, ухватился за кроватный столбик, на миг ослепленный дикой болью в мозгу, а потом, с трудом переставляя ноги, добрел до комода. Ключ от самого нижнего ящика хранился в футляре с платяной щеткой, спрятанный под обшивку.
Револьвер, выданный мне сыщиком Хэчери, лежал на прежнем месте, под стопкой чистого белья.
Я вытащил оружие, в очередной раз подивившись его тяжести, отошел от комода на трясущихся ногах и присел на край кровати поближе к единственной горящей свече. Нацепив на нос очки, я осознал, что выгляжу со стороны сумасшедшим, каким, собственно, себя и чувствую: волосы и борода растрепаны, лицо искажено страдальческой гримасой, в безумных глазах застыло выражение боли и ужаса, ночная рубашка задрана над бледными дрожащими голенями.
В меру своего умения (все-таки я совершенно не разбирался в огнестрельном оружии) я удостоверился, что пули по-прежнему находятся в гнездах барабана. Помню, я думал: «Этой боли не будет конца. Скарабей никогда не оставит меня в покое. Я никогда не закончу "Лунный камень". Через несколько недель десятки тысяч читателей выстроятся в очередь за следующим номером "Круглого года" и "Харперз уикли", но обнаружат там пустые белые страницы».
Мысль о пустоте, о последней и окончательной пустоте той ночью казалась мне невыразимо привлекательной.
Я поднес револьвер к лицу и засунул тяжелый, широкий ствол в рот, зацепив по верхним зубам каким-то крохотным выступом — видимо, мушкой.
Давным-давно кто-то — кажется, старый актер Макриди — объяснял сидящей за столом веселой компании, что человек, всерьез решивший вышибить себе мозги, должен посылать пулю вверх, сквозь мягкое нёбо, а не сквозь твердую черепную кость — мол, она зачастую изменяет траекторию пули, вследствие чего незадачливый самоубийца превращается не в труп вовсе, а в безмозглый овощ и объект презрения.
Дрожа всем телом, я по возможности крепче сжал рукоять револьвера в одной руке и поднял другую, чтобы оттянуть массивный курок назад до щелчка. Справившись с этим делом, я осознал: если бы мой потный большой палец соскользнул со скобы на спусковой крючок, револьвер уже выстрелил бы и пуля пробила бы остатки моего изъеденного жуком мозга.
И скарабей погиб бы — во всяком случае, перестал бы докучать мне, ибо я больше не испытывал бы боли.
Я затрясся сильнее и зарыдал, но не вытащил изо рта непристойный револьверный ствол. Я давился сильнейшими рвотными позывами, и если бы меня не вырвало с полдюжины раз днем и вечером, то наверняка вывернуло бы сейчас. Мучительные спазмы сводили пустой желудок, перехватывали горло, но я медленно направил ствол вверх и почувствовал прикосновение стали к мягкому нёбу, упомянутому Макриди.
Я положил большой палец на спусковой крючок и начал потихоньку на него надавливать. Мои стучащие зубы сомкнулись на длинном стволе. Я осознал, что долго задерживал дыхание, но больше не могу — и судорожно вздохнул в последний раз.
Я дышу через револьверный ствол.
Многие ли знают, что такое возможно? Я чувствовал кисло-сладкий вкус ружейного масла — нанесенного покойным сыщиком Хэчери давным-давно, но все еще хорошо ощутимого на языке — и холодный медноватый привкус самого металла. Но я свободно дышал через зажатый в зубах ствол и слышал свист воздуха, обтекающего барабан и выходящего в гулкую полость рядом со взведенным курком.
Сколько людей ушли из жизни с такой вот неуместной последней мыслью, пролетающей в мозгу, который вот-вот погибнет, разорванный пулей в клочья, и скоро остынет?
Нелепость подобной ситуации, ясно осознанная писательским умом, показалась мучительнее дикой боли, что причинял мне скарабей, и я начал смеяться. Странным, глухим, непристойным смехом, звучавшим искаженно из-за стиснутого в зубах револьверного ствола. Через несколько секунд я вынул его изо рта — измазанный слюной тусклый металл блестел в неверном свете свечного огонька, — взял свечу и шаткой поступью вышел из спальни, по-прежнему держа оружие в руке.
Дверь в мой новый кабинет на первом этаже была закрыта, но не заперта. Я вошел и затворил за собой широкие дверные створки.
Второй Уилки сидел боком ко мне за письменным столом и читал книгу в темноте. Он взглянул на меня и поправил очки, в которых моя свеча отражалась двумя вертикальными дрожащими полосками желтого пламени. Я заметил, что борода у него чуть короче моей и в ней чуть меньше проседи.
— Ты нуждаешься в моей помощи, — сказал Второй Уилки.
За все годы, минувшие с далекой поры, когда я впервые начал смутно сознавать существование своего второго «я», Второй Уилки ни разу не заговаривал со мной и вообще не издавал ни звука. Меня удивило, насколько женственный у него голос.
— Да, — хрипло прошептал я. — Я нуждаюсь в твоей помощи.
Я сообразил, что по-прежнему держу в правой руке заряженный и взведенный револьвер. Я вполне могу сейчас поднять оружие и выпустить пять — шесть? — пуль в этого слишком уж телесного призрака, с наглым видом сидящего за моим столом.
Умру ли я, когда умрет Второй Уилки? Умрет ли Второй Уилки, когда я умру? Я хихикнул, позабавленный вопросом, но смешок получился похожим на сдавленное рыданье.
— Начнем сегодня же? — спросил Второй Уилки, кладя раскрытую книгу страницами вниз на стол.
Он снял очки, протер носовым платком (извлеченным из того же кармана сюртука, где я всегда носил платок), и я заметил, что глаза у него — даже когда они не прикрыты стеклами, отражающими свет, — все равно представляют собой два мерцающих язычка пламени, похожие на кошачьи зрачки.
— Нет, не сегодня, — сказал я.
— Но скоро? — Он снова водрузил на нос очки.
— Да, — сказал я. — Скоро.
— Я приду к тебе, — пообещал Второй Уилки.
У меня едва осталось сил, чтобы кивнуть. По-прежнему босиком, по-прежнему со взведенным револьвером в руке, я шаткой поступью вышел из кабинета, закрыл за собой массивную дверь, прошлепал вверх по лестнице, вошел в свою спальню, рухнул на кровать и заснул на скомканных покрывалах, по-прежнему сжимая в руке оружие и по-прежнему держа указательный палец на холодном спусковом крючке.
Глава 31
На протяжении многих лет я объяснял Кэролайн, что не могу на ней жениться, поскольку моя эмоционально неуравновешенная мать, всегда страдавшая повышенной нервной возбудимостью и теперь от нее умиравшая (по словам доктора Берда), никогда бы не поняла и не одобрила моего союза со вдовой женщиной, которая, как выяснилось бы после бракосочетания, уже не один год проживала в моем доме. Я объяснял, что должен уберечь болезненную старую даму (на самом деле вовсе не болезненную, а просто нервическую) от подобного потрясения. Кэролайн никогда полностью не принимала мои доводы, но со временем перестала их оспаривать.
И вот теперь моя мать умирала.
В четверг, тридцатого января, — спустя восемь дней с момента, когда я очнулся в собственной постели после пожара в Подземном городе и моей схватки с Баррисом, — Кэролайн помогла мне одеться, и Чарли чуть не на руках дотащил меня до кареты, отвезшей нас на железнодорожную станцию. Я более-менее утихомирил скарабея, удвоив обычную дозу лауданума, который теперь иногда пил прямо из графина.
Я собирался принимать лауданум такими вот лошадиными дозами и работать над романом в коттедже матери, покуда она не умрет. Когда эта веха останется позади, я изыщу способ разобраться с Кэролайн, со скарабеем в моем мозгу и с прочими проблемами.
Пока мы ехали поездом в Танбридж-Уэллс и Саутборо, меня так ломало, мутило и трясло, что бедному Чарли, мучимому желудочными резями, пришлось всю дорогу обнимать меня за плечи и сидеть в кресле у прохода боком, чтобы хоть немного загораживать меня от посторонних взоров. Я старался подавлять стоны, но остальные пассажиры наверняка слышали их сквозь шум паровозного двигателя и грохот состава, рассекающего холодный воздух сельской местности. Одному Богу ведомо, какие звуки издавали бы мы со скарабеем, не прими я перед поездкой огромную дозу лауданума.
Внезапно я до жути ясно понял, какие адовы муки претерпевал Чарльз Диккенс все три года с момента Стейплхерстской катастрофы (особенно в ходе своих изнурительных, напряженных турне, включая нынешнее американское), заставляя себя почти каждые сутки трястись в выстуженных или душных, задымленных, воняющих жженым углем и потом вагонах.
Обзавелся ли Диккенс скарабеем в свое время? Живет ли скарабей в нем сейчас?
Об одном только этом мог я думать в грохочущем вагоне. Если Диккенс носил Друдова скарабея в своем нутре, но сумел избавиться от него — путем убийства ни в чем не повинного человека? — значит, он единственная моя надежда. Если Диккенс по-прежнему носит в себе чудовищного жука, но научился жить и работать с ним, значит, он по-прежнему остается единственной моей надеждой.
Вагон сильно тряхнуло, и я громко застонал. Все головы повернулись в мою сторону. Я уткнулся лицом в пахнущее мокрой шерстью пальто Чарли, словно пытаясь спрятаться от окружающего мира, и в следующий миг вспомнил, что ребенком делал ровно то же самое в темной раздевалке частной школы.
Мое письмо в американский издательский дом «Харпер энд бразерс» начиналось строками, исполненными сдержанной мужской печали и одновременно профессиональной ответственности:
Опасный недуг матери потребовал моего присутствия в ее деревенском доме, и я со всем усердием работаю над «Лунным камнем» в перерывах между дежурствами у болезного одра.
Далее я писал — равно профессионально — о своих поправках, внесенных в двенадцатый и тринадцатый выпуски романа, и пространно высказывался о присланных мне пробных оттисках иллюстраций, сперва отзываясь о них похвально, а потом указывая на отдельные погрешности. (Первого из ряда моих повествователей, дворецкого Габриэля Беттериджа, художник изобразил в ливрее. Я объяснил американцам, что такое решительно недопустимо, ибо дворецкий в столь аристократическом доме должен носить строгий черный костюм с белым галстуком и внешне походить на старого седовласого священника.) Заканчивал же я эффектным пассажем личного характера:
Можете не сомневаться: я внимательнейшим образом рассмотрю ваши пожелания после того, как вы изъявили готовность учесть мои. Я рад, что пока роман вам нравится. Далее вас ждут сюжетные ходы, подобные которым — если я не заблуждаюсь — никогда прежде не использовались в литературе.
Признаюсь, последняя фраза звучала несколько самонадеянно, даже нагло, но я собирался раскрыть тайну похищенного Лунного камня через длинное, подробное описание действий человека, погруженного в глубокий опиумный сон, — ночью он совершает ряд сложных действий, о которых ничего не помнит наутро и во все последующие дни, покуда некий более искушенный опиоман не помогает ему восстановить воспоминания, — и я с уверенностью полагал, что в серьезной английской литературе такие сцены и сюжетные ходы не имеют прецедентов.
Что же касается работы в перерывах между дежурствами у болезного одра, я не счел нужным или уместным пояснять, что дежурства были крайне редкими, а перерывы длинными, хотя я проводил в коттедже матери все время. Дело в том, что она не выносила моего присутствия в своей спальне.
Чарли предупредил меня, что за почти две недели моего отсутствия к матери вернулась речь — хотя «речь» неточное слово для обозначения визгов, стонов, нечленораздельных воплей и звериных звуков, которые она издавала, когда кто-нибудь — особенно я — находился рядом с ней.
Когда мы с Чарли впервые вошли в спальню матери в четверг, двадцать девятого января, произошедшие с ней перемены потрясли меня до тошноты. Она потеряла, казалось, весь свой живой вес — фигура в постели представляла собой скелет, обвитый сухожилиями и обтянутый сухой крапчатой кожей. Она напомнила мне — невольная ассоциация! — мертвого птенчика, однажды найденного мной в нашем саду в далеком детстве. Как и у птичьего трупика (с ужасными, бесперыми, сложенными крылышками), темная, испещренная коричневыми пятнами кожа у матери была прозрачной, и под ней проступало все, что должно быть сокрыто от глаз.
Ее глаза — едва видные под полуопущенными веками — все еще быстро, суетливо двигались туда-сюда, точно воробышки в западне.
Но к ней действительно отчасти вернулись голосовые способности. Когда я в тот четверг стоял у постели матери, она непрестанно корчилась, конвульсивно дергала согнутыми в локте руками, похожими на сложенные птичьи крылышки, судорожно шевелила скрюченными пальцами — и кричала. Не столько кричала, сколько рычала — словно каллиопа, в чьи трубки нагнетается под чудовищным давлением пар, — и от этих звуков редкие волосы, что еще остались на моей голове, шевелились от ужаса.
Мать корчилась и стонала, и я тоже начал корчиться и стонать. Должно быть, это произвело жуткое впечатление на Чарли, которому пришлось подхватить меня под руку, чтобы я не упал. (Миссис Уэллс поспешно удалилась при моем появлении и продолжала избегать меня все три дня, проведенные мной в материнском доме. Я не имел возможности — да и особых причин — объяснить старухе, чем я занимался ночью, когда она увидела, как я задираю ночную рубашку матери с целью взглянуть на оставленную жуком ранку. Объяснять свои поступки слугам не принято.)
Я корчился, стонал — и явственно чувствовал, как корчится и мечется взад-вперед скарабей в моем мозгу. Я догадывался — я знал, — что точно такой же скарабей, живущий в мозгу у матери, реагирует на мое присутствие (и присутствие моего паразита).
Вконец обессиленный, я застонал и упал в объятья Чарли. Он чуть не волоком дотащил меня до дивана в соседней комнате. Крики матери стали тише, едва мы вышли из спальни. Мой скарабей угомонился. Я краем глаза увидел миссис Уэллс, торопливо прошмыгнувшую мимо, пока Чарли укладывал меня на диван возле камина в гостиной.
Так продолжалось все три дня, что я провел с матерью — вернее, с пронзительно визжащим, бьющимся в конвульсиях, корчащимся от дикой боли существом, которое в прошлом было моей матерью, — в коттедже в Саутборо близ Танбридж-Уэллса.
Слава богу, Чарли все время находился там — миссис Уэллс наверняка оставила бы свои обязанности сиделки, не будь между нами такого буфера. Если Чарли и задавался вопросом, почему мы с миссис Уэллс стараемся ни минуты не оставаться наедине, он так ничего и не спросил. В пятницу приехал Фрэнк Берд — он снова сказал, что надежды нет, и сделал матери укол морфия, чтобы она заснула. Вечером, перед своим отъездом, он сделал укол морфия и мне. Наверное, то были единственные несколько часов тишины, когда бедный Чарли, мучимый желудочными резями, смог наконец немного поспать, оставив мать под присмотром миссис Уэллс.
Я пытался работать, пока находился в материнском доме. Я привез с собой лакированную оловянную коробку с черновыми записями, заметками, выписками из энциклопедии и часами сидел за крохотным столом у окна, но в моей правой руке, казалось, совсем не было сил. Чтобы макнуть перо в чернила, мне приходилось перекладывать его в левую руку. Но слова все равно не лились на бумагу. Три дня кряду я тупо смотрел на белый лист бумаги, не оскверненный моей писаниной, если не считать трех-четырех корявых строчек, вымаранных мной в конечном счете.
Через три таких бесплодных дня мы с братом перестали делать вид, будто мое присутствие там необходимо. Матери становилось гораздо хуже, когда я к ней приближался; стоило мне войти к ней в спальню, она начинала корчиться, биться в судорогах, пронзительно вопить, и у меня тоже боль неуклонно усиливалась, покуда я не падал в обморок или не удалялся прочь.
Чарли упаковал мои вещи и отвез меня обратно в Лондон на послеполуденном курьерском. Перед отъездом он отправил Фрэнку Берду и моему слуге Джорджу телеграммы с просьбой встретить нас на станции — чтобы усадить меня в наемный экипаж, понадобились соединенные усилиях всех троих. Когда меня на руках втащили в дом и понесли наверх, в мою спальню, от внимания моего не ускользнуло, каким взглядом смотрела на меня Кэролайн, — во взгляде том читались тревога и жалость, но также смущение и презрение, возможно даже, презрение, граничащее с отвращением.
Берд сделал мне дополнительный укол морфия, и я провалился в глубокий сон.
Пробудись в благости!
Ты пребываешь в благости!
Гор из Эдфу пробуждается к жизни!
Боги восстают ото сна, дабы поклониться духу твоему,
О, священный крылатый шар, взмывающий в небо!
Ты, пронзающий небо огненный шар,
Каждый день заливаешь землю светом с востока,
А потом скрываешься на западе, дабы провести ночь в Иунете.
О ты, Гор из Эдфу,
Который пробуждается в благости,
Великий бог неба в многоцветном оперенье,
Восстающий над горизонтом,
Огромный крылатый шар, охраняющий святилища!
И ты пробудись в благости!
Айхи, который пробуждается в благости,
Великий бог, сын Хатхор,
Возвеличенный Златоликим из Нетеров!
Пробудись в благости!
В благости!
Айхи, сын Хатхор, пробудись в благости!
Прекрасный лотос Златоликого!
И ты пробудись в благости!
Пробудись в благости, Харсиесис, сын Осириса,
Бесспорный наследник, потомок Всемогущего,
Порожденный Уненнефером Победоносным!
И ты пробудись в благости!
Пробудись в благости, Осирис!
Великий бог, пребывающий в Иунете,
Старший сын Геба!
И ты пробудись в благости!
Пробудитесь в благости, Нетеры, и Нетеруты,
И Эннеады, окружающие Всевеличайшего!
И вы пробудитесь в благости!
Я пробудился в темноте, в мучительных корчах и в совершенном смятении.
Никогда прежде мне не снились одни только слова, звучащие напевным речитативом слова, причем на незнакомом мне языке, с которого, впрочем, мой ум — или мой скарабей — невесть почему легко переводил на английский. Приторный запах курений и маслянистого дыма все еще щекотал мои ноздри. Эхо давно умерших голосов звенело в моих ушах. Перед взором моим — точно остаточное изображение в виде красного круга на сетчатке глаза после долгого смотрения на солнце — стояли нетеры, боги Черной Земли: Нуит, богиня Звезд; Аст, или Исида, владычица Небес; Асар, или Осирис, бог наших Предков; Небт-Хет, или Нефтис, богиня Смерти, которая не вечна; Сути, или Сет, Враг; Гор, или Хор, владыка Грядущих Вещей; Анпу, или Анубис, проводник в Царстве Мертвых; Дахаути, или Тот, хранитель Книги Жизни.
Скарабей возился в моем черепе, причиняя дикую боль, и я пронзительно закричал в темноте.
На мой крик никто не пришел — ночь стояла в самой глухой поре, дверь спальни была закрыта, а Кэролайн и ее дочь спали внизу, тоже за закрытыми дверями, — но когда эхо воплей стихло в моем истерзанном мозгу, я осознал, что нахожусь в комнате не один. Я слышал чье-то дыхание. Я ощущал чье-то присутствие подсознательно воспринимая не токи живого тепла, по каким мы порой узнаем, что рядом с нами в темноте находятся другие люди, но исходящий от незримого существа холод. Казалось, будто кто-то вытягивает остатки тепла из воздуха.
Я нашарил на комоде спички и зажег свечу.
На деревянном стуле в ногах кровати сидел Второй Уилки. Он был в черном широком пальто, что я выбросил несколько лет назад; на коленях у него лежала планшетка с чистым листом бумаги. В левой руке он держал карандаш. Ногти у него были обгрызены сильнее, чем у меня.
— Чего тебе надо? — прошептал я.
— Я жду, когда ты начнешь диктовать, — сказал Второй Уилки.
Я снова машинально отметил, что голос у него не такой низкий и звучный, как у меня. Но с другой стороны… разве кто-нибудь слышит по-настоящему тембр собственного голоса?
— Что диктовать? — прохрипел я.
Второй Уилки молча ждал. Сердце мое сократилось добрую сотню раз, прежде чем он наконец промолвил:
— Ты хочешь продиктовать мне описание твоих снов или следующую часть «Лунного камня»?
Я заколебался. Это наверняка какая-то ловушка. А вдруг, если я сейчас не начну диктовать подробный рассказ о ритуалах, посвященных богам Черной Земли, скарабей примется прогрызать ход наружу в затылочной или лицевой кости? Неужели последним, что я увижу в жизни, будут огромные жвалы, вылезающие у меня из щеки или глазницы?
— «Лунный камень», — сказал я. — Но я буду писать сам.
Я был слишком слаб, чтобы встать с постели. После полуминуты отчаянных усилий мне удалось лишь приподняться чуть повыше на подушках. Но скарабей не стал убивать меня. Возможно, с надеждой подумал я, он не понимает по-английски.
— Надо запереть дверь, — прошептал я. — Я сейчас запру. Но у меня опять не хватило сил встать.
Второй Уилки поднялся на ноги, задвинул щеколду и вернулся на свое место. Он держал карандаш наготове, и я увидел, что он левша. Сам я правша.
«Он задвинул щеколду, — попытался сказать мне истерзанный, пылающий от боли мозг. — Он… оно… может воздействовать на предметы материального мира».
Ничего удивительного. Оставила же зеленокожая клыкастая девица багровый след укуса на моей шее.
Второй Уилки ждал.
Стеная и вскрикивая от боли, я начал:
— ПЕРВЫЙ РАССКАЗ — это прописными буквами — написанный МИСС КЛАК — имя тоже прописными, после имени двоеточие — племянницей покойного сэра Джона Вериндера… три междустрочных интервала… ГЛАВА ПЕРВАЯ, римской цифрой… два междустрочных интервала… Любезным моим родителям, ныне покойным… нет, не так… скобка открывается, оба теперь на небесах, скобка закрывается… я обязана привычкой к порядку и аккуратности, внушенной мне с юных… нет, мисс Клак никогда не была юной… напишите: с самого раннего возраста, точка, следующий абзац.