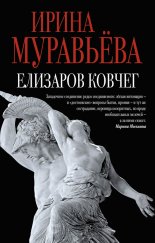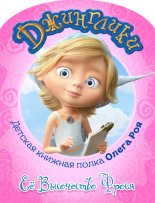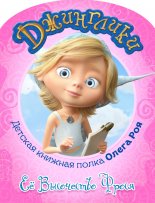Друд, или Человек в черном Симмонс Дэн
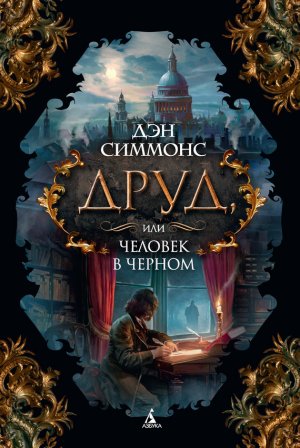
Когда мы отсмеялись, Диккенс сказал:
— Я тут поразмыслил получше над вашим «Лунным камнем», Уилки.
Я весь напрягся, но выдавил слабую улыбку.
Диккенс выставил вперед ладони:
— Нет-нет, друг мой. С полным восхищением и профессиональным уважением.
Я продолжал натужно улыбаться.
— Наверное, вы сами этого не сознаете, Уилки, но, возможно, данным сенсационным романом вы положили начало совершенно новому литературному жанру.
— Конечно, я сознаю это, — холодно произнес я, понятия не имея, о чем он говорит.
Казалось, Диккенс меня не услышал.
— Роман, весь сюжет которого вращается вокруг одной-единственной тайны, с поставленным в центр повествования интересным объемным персонажем — сыщиком, причем скорее сыщиком частным, нежели отставным полицейским, — с развитием всех прочих персонажей и достоверным описанием даже самых мелких событий повседневной жизни, вызванных прямыми и побочными последствиями преступления, служащего пружиной главной сюжетной линии… знаете, это новое слово в литературе!
Я скромно кивнул.
— Я решил и сам забабахать нечто подобное, — сказал Диккенс, употребив одно из самых дурацких американских выражений, подхваченных во время последнего турне по Штатам.
В тот момент я ненавидел его лютой ненавистью.
— Вы уже придумали название для своего будущего романа? — услышал я свой голос, звучащий вполне нормально.
Диккенс улыбнулся.
— Я склоняюсь к какому-нибудь незамысловатому названию, дорогой Уилки… ну, например, «Тайна Эдмонда Диккенсона».
Признаться, я вздрогнул.
— Так значит, до вас дошли какие-то сведения о молодом Эдмонде?
— Вовсе нет. Но ваши прошлогодние расспросы о нем навели меня на мысль, что бесследное и с виду беспричинное исчезновение некоего молодого человека может послужить завязкой интереснейшего запутанного сюжета, если в нем имеет место убийство.
Сердце у меня бешено заколотилось, и я пожалел, что не могу сейчас отхлебнуть из фляжки с лауданумом, лежащей у меня в нагрудном кармане сюртука.
— А вы полагаете, что молодой Эдмонд Диккенсон был убит? — спросил я.
Я вспомнил Диккенсона с обритой головой, острыми зубами и фанатично горящими глазами, облаченного в балахон с капюшоном и нараспев повторяющего странные слова в ходе ритуала, когда Друд внедрял скарабея в мое нутро. При одном этом воспоминании скарабей зашевелился, завозился в задней части моего мозга.
— Ни в коем случае! — рассмеялся Диккенс. — У меня есть все основания верить молодому Эдмонду, который сказал, что собирается забрать из банка все свои деньги и отправиться путешествовать по свету, — возможно, в конечном счете поселиться в Австралии. И конечно же, я изменю имя главного героя и название романа. Я просто хотел дать вам представление об общем замысле произведения.
— Интересно, — солгал я.
— И еще месмеризм. — Диккенс улыбнулся, складывая ладони домиком и откидываясь на спинку кресла.
— А что насчет него, Чарльз?
— Я знаю, вы интересуетесь данным явлением, Уилки. Интересуетесь почти так же давно, как я, хотя, в отличие от меня, никогда месмеризм не практиковали. Вы исподволь ввели месмеризм в свой «Лунный камень» — правда, скорее в виде метафоры, нежели реального явления, — но не сумели правильно им распорядиться.
— То есть?
— Разгадка вашей так называемой тайны, — сказал Диккенс обычным своим снисходительным менторским тоном, всегда приводившим меня в страшное раздражение. — Ваш мистер Франклин Блэк похищает алмаз в своем опиумном сне наяву, но не знает, что он совершил кражу…
— Как я уже говорил, — холодно промолвил я, — такое вполне возможно. Я самолично исследовал подобные состояния и…
Диккенс небрежно отмахнулся от моих слов.
— Дорогой Уилки, пытливый читатель — а возможно, любой читатель — спросит: «Почему вообще Франклин Блэк похищает алмаз своей возлюбленной?»
— Ответ очевиден, Чарльз. Он боится, что кто-нибудь может украсть камень, и потому, под снотворным воздействием опиума, принятого без собственного ведома, он встает во сне и… похищает камень. — Я услышал неуверенные нотки в своем голосе.
Диккенс улыбнулся.
— Вот именно. Это вызывает сомнения и нарушает достоверность повествования. Но если бы один из ваших персонажей загипнотизировал Франклина Блэка и приказал ему украсть алмаз, а вдобавок кто-нибудь шутки ради подмешал бы опиум в его вино — хотя я бы сделал как месмерическое влияние, так и применение опиума не случайными, а умышленными, предусмотренными преступным планом… ну, тогда все стало бы на свои места, разве не так, друг мой?
Я ненадолго задумался. Вносить изменения было уже слишком поздно. Последний выпуск романа уже появился и в «Круглом годе», и в американском журнале издательского дома «Харпер энд бразерс», а в типографии Тинсли уже лежали экземпляры подарочного трехтомного издания в кожаном переплете, предназначенные для Диккенса и прочих моих друзей.
— Но я все же утверждаю, что такой вариант противоречит природе месмеризма, Чарльз. Как нам обоим известно, профессор Эллиотсон и остальные специалисты считают, что под воздействием магнетизма человек никогда не совершит поступков, каких не смог бы совершить в полном сознании.
Диккенс кивнул.
— Да, но Эллиотсон показал — и я показал, — что в состоянии месмерического транса человек зачастую изменяет свое поведение на продолжительные периоды времени, коли ему внушили некие представления, не соответствующие истине.
Я не понял, что он имеет в виду, о чем и сказал.
— Женщина никогда не вынесет своего грудного ребенка из дома среди ночи, — продолжал Диккенс. — Но если вы ее загипнотизируете и скажете, что дом горит — или загорится, положим, в девять часов вечера, — то она либо сразу, в состоянии месмерического транса, либо позже, под воздействием внушенных представлений, схватит свое дитя и выбежит на улицу, даже не увидев никакого огня. Таким образом ваши индусы в «Лунном камне» могли бы загипнотизировать Франклина Блэка, когда он встретился с ними на территории поместья, а тогда ваш докучливый доктор… мистер Санди?
— Мистер Канди, — уточнил я.
— Мистер Канди тайно опоил бы бедного Франклина Блэка лауданумом в соответствии с неким преступным планом, а не просто ради злой шутки, за которую его следовало бы упечь в тюрьму.
— Вы хотите сказать, что славный старый мистер Канди тоже находился под месмерическим влиянием индусов? — спросил я.
Внезапно я увидел, что при таком варианте замечательно увязываются все концы, так и не увязанные мной в романе.
— Это было бы изящным ходом, — сказал Диккенс, по-прежнему улыбаясь. — Или, возможно, ваш мерзкий наркоман Эзра Дженнингс являлся участником заговора с целью похищения Кохинора.
— Лунного камня, — машинально поправил я. — Но мой Эзра Дженнингс персонаж в своем роде героический. Именно он объясняет тайну кражи, а потом воссоздает картину преступления в йоркширском доме тетушки Франклина Блэка…
— Эпизод с воссозданием хода событий чрезвычайно удобен для развязки вашего романа, — спокойно промолвил Диккенс, — но может вызвать у читателя еще серьезнейшие сомнения, чем любой другой момент повествования.
— Почему же?
— Да потому, что в точности воссоздать все обстоятельства первой ночи — ночи похищения алмаза — они не смогли бы при всем желании, милейший Уилки. Невозможность соблюсти одно существенное условие исключила бы всякие шансы, что хождение во сне с последующей кражей повторится.
— О каком условии вы говорите? — спросил я.
— Во время вашего так называемого эксперимента мистер Франклин Блэк знает, что он одурманен наркотиком; он знает, что Дженнингс считает именно его похитителем алмаза; он знает последовательность событий, которые имели место ранее и должны повториться. Одно это напрочь исключило бы всякую вероятность, что та же самая доза опиума…
— Дженнингс развел в вине большее количество препарата, чем использовал мистер Канди, — перебил я.
— Не имеет значения, — сказал Диккенс, вновь отметая мое возражение небрежным взмахом руки, каковой жест приводил меня в бешенство. — Суть в том, что само воссоздание событий невозможно. И ваш мистер Эзра Дженнингс — предположительный содомит и заядлый опиоман, с его отвратительными восторгами по поводу «Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Куинси, — в качестве положительного героя смотрится очень неубедительно. А Франклин Блэк у вас производит впечатление идиота. Но если бы вы разумно распорядились индусами и ввели в повествование месмеризм как часть преступного плана, а применение опиума сделали скорее средством для достижения цели, нежели чистой случайностью…
Диккенс умолк, не закончив фразы. Мне было нечего сказать. По дороге внизу, вне поля видимости, прогрохотал тяжело груженный фургон, судя по стуку копыт, запряженный четверкой рослых лошадей.
— Но ваш сыщик — сержант Кафф — поистине великолепен, — неожиданно сказал Диккенс. — Именно он вдохновил меня на мысль самому написать роман, где фигурирует некая тайна и в центре событий находится равно умный и проницательный герой. Кафф у вас получился превосходно… это худощавое телосложение, этот холодный пронзительный взгляд, этот почти нечеловечески острый ум.
— Спасибо, Чарльз, — тихо промолвил я.
— Если б только вы распорядились им правильно!
— Прошу прощения?
— Вы блестяще изображаете Каффа, блестяще вводите в повествование, и он действует блестяще… до момента, когда вдруг сбивается со следа, исчезает со сцены на целую вечность, строит неверные гипотезы, несмотря на множество фактов, противоречащих его выводам, а потом и вовсе уезжает в Брайтон разводить пчел…
— В Доркинг, разводить розы, — поправил я, испытывая странное дежавю.
— Ну да, конечно. Но сам персонаж — сама идея поместить в центр романа скорее частного сыщика, нежели полицейского, — вызывает восхищение. Полагаю, читатели остались бы в совершенном восторге от такого непревзойденного мастера дедукции, как ваш худой, властный сержант Кафф, эксцентричный и совершенно бесстрастный, если бы вы чуть подробнее обрисовали его характер и обстоятельства его жизни. Интересно, удастся ли мне создать подобный персонаж в моей «Тайне Эдмонда Диккенсона», соберись я когда-нибудь написать такой роман?
— Вы можете воскресить вашего инспектора Баккета из «Холодного дома», — угрюмо сказал я. — Он пользовался чрезвычайной популярностью. Помнится, изображение Баккета печаталось на табачных картах.
— Было дело, — хихикнул Диккенс. — Он, наверное, самый популярный герой «Холодного дома», и мне, признаюсь, очень нравятся все сцены с ним. Но инспектор Баккет — человек от мира сего и в мире сем живущий… в нем нет тайны, нет необъяснимой привлекательности вашего худого, холодного, отчужденного от всех и вся сержанта Каффа. Помимо всего прочего, поскольку прототип Баккета, инспектор Чарльз Фредерик Филд, приказал долго жить, мне следует, приличия ради, похоронить и персонажа, с него списанного.
Я не мог произнести ни слова, казалось, целую вечность. Я приложил все усилия к тому, чтобы восстановить пресекшееся дыхание и не выдать выражением лица всех чувств и мыслей, нахлынувших на меня. После долгой паузы я наконец спросил по возможности спокойным тоном:
— Инспектор Филд умер?
— О да! Умер минувшей зимой, когда я находился в Америке. Джорджина увидела некролог в «Таймс» и вырезала для меня, справедливо предполагая, что мне захочется присовокупить заметку к своим архивам.
— Я ничего об этом не слышал, — с усилием проговорил я. — А вы часом не помните дату его смерти?
— Прекрасно помню, — сказал Диккенс. — Девятнадцатое января. Двое моих сыновей — Фрэнк и Генри — родились пятнадцатого января, как вам известно, потому-то я и запомнил дату кончины Филда.
— Просто поразительно. — Не знаю, относилось ли мое замечание к превосходной памяти Диккенса или к факту смерти инспектора Филда. — А в некрологе «Таймс» говорилось, как он умер?
— Дома, в собственной постели, от тяжелого недуга, насколько я понял, — ответил Диккенс. Разговор про инспектора явно ему наскучил.
Девятнадцатого января — то есть на следующий день или на следующую ночь после нашей вылазки в Подземный город. Я оставался в беспамятстве до двадцать второго января и потом еще несколько недель был не в состоянии читать газеты. Ничего удивительного, что я не видел некролога. Ничего удивительного, что в последующие месяцы я ни разу не вошел в сообщение с людьми Филда. Несомненно, частное сыскное бюро инспектора закрылось и все агенты разбежались в поисках другой работы.
Если только Диккенс не лжет.
Я вспомнил свое прошлогоднее прозрение — когда я вдруг понял, что Диккенс, Друд и инспектор Филд ведут некую затейливую трехстороннюю игру, где я оказался пешкой в самой гуще схватки. Может, Диккенс лжет насчет смерти Филда из каких-то своих тактических соображений?
Нет, вряд ли. Мне не составило бы особого труда проверить через своих знакомых в «Таймс», соответствует ли действительности напечатанный там некролог. А если смерть действительно имела место, значит, где-то непременно должна быть могила бедного старого Чарльза Фредерика Филда. Это тоже легко проверить. На какой-то безумный миг я подумал, не имеет ли здесь место некий хитрый тактический ход самого инспектора Филда, инсценировавшего свою смерть с целью обезопасить себя от приспешников Друда, но я почти сразу потряс головой, решительно отметая данное предположение, которое казалось слишком натянутым даже в свете событий, произошедших в течение последних трех лет.
— Вам нездоровится, дорогой Уилки? Вы вдруг страшно побледнели.
— Просто проклятая подагра донимает, — сказал я.
Мы оба поднялись на ноги.
— Вы останетесь на ужин? Ваш брат по нездоровью не выходит к общему столу, но, возможно, сегодня, когда вы здесь…
Я взглянул на свои часы.
— В другой раз, Чарльз. Мне надо вернуться в город. Кэролайн готовит для нас какой-то особый ужин, а потом мы идем в театр…
— Кэролайн! — изумленно воскликнул Диккенс. — Так она вернулась?
Я помотал головой, улыбнулся и постучал себя пальцем полбу.
— Я хотел сказать «Кэрри».
Здесь я тоже солгал. Кэрри на всю неделю осталась в доме, где служила гувернанткой.
— Ну ладно, как-нибудь в другой раз в ближайшем будущем, — сказал Диккенс.
Вместе со мной он спустился вниз по лестнице, вышел из шале и проследовал через тоннель.
— Я прикажу кому-нибудь из слуг довезти вас до станции, — сказал он.
— Спасибо, Чарльз.
— Я рад, что вы наведались в Гэдсхилл, друг мой.
— Я тоже рад, Чарльз. Визит оказался в высшей степени познавательным.
Я поехал не сразу в Лондон. На станции я подождал, когда запряженная пони коляска со слугой Диккенса скроется из виду, а потом сел на поезд до Рочестера. Бренди я с собой не привез, а потому дождался, когда погост полностью опустеет — на земле уже лежали длинные вечерние тени от надгробных памятников, — и затем быстро прошел к известковой яме. На поверхности густой серой жижи я не обнаружил никаких признаков мертвого щенка. Немного пошарив в траве, я отыскал ветку, которой пользовался в прошлый раз. Через три-четыре минуты мне удалось подцепить и подтянуть поближе останки — главным образом череп с зубами, скелетные кости и хрящи, но также несколько клочьев шерсти и лоскутов шкуры. Вытащить все это на поверхность с помощью ветки оказалось делом трудным.
— Дредлс думает, мистеру Билли Уилки Коллинзу нужна вот эта штуковина, — раздался голос прямо у меня за спиной.
Я вздрогнул так сильно, что едва не свалился в известковую яму.
Дредлс удержал меня, подхватив под локоть твердой как камень рукой. В другой руке он сжимал усеянный шипами железный прут длиной футов шесть — то ли часть соборной ограды, то ли элемент декора со шпиля, то ли громоотвод с одной из башенок.
Дредлс протянул мне прут.
— Этим вам будет сподручнее, сэр.
— Спасибо, — промямлил я.
Действительно, длинный металлический прут, да еще с шипами, пришелся очень кстати. Я перевернул скелет щенка, решил, что более крупному телу потребуется пролежать в гашеной извести пять или шесть дней, и снова утопил останки крохотного существа в густой жиже. На секунду я представился себе неким зловещим поваром, помешивающим бульон, и с трудом подавил истерический смешок.
Я отдал железный прут Дредлсу и повторил:
— Спасибо.
— Да не за что, для Дредлса одно удовольствие услужить джентльмену, — просипел грязный каменотес.
Даже сейчас, прохладным вечером, лицо у него было таким же красным, как несколько дней назад, когда он орудовал молотком и зубилом в самую жару.
— Я забыл привезти бренди сегодня, — с улыбкой сказал я, — но любезно прошу вас пропустить несколько стаканчиков за мой счет в «Двухпенсовых номерах», когда в следующий раз туда заглянете. — Я вручил Дредлсу пять шиллингов.
Он подкинул монеты на темной от въевшейся каменной пыли, мозолистой ладони и широко ухмыльнулся. Я насчитал у него четыре зуба.
— Спасибочки вам, мистер Билли Уилки Коллинз, сэр. Дредлс всенепременно выпьет за ваше здоровье.
— Замечательно. — Я кивнул, приятно улыбаясь. — Ну-с, мне пора.
— Мистер Ч. Диккенс, знаменитый писатель, тоже пользовался этой железякой, когда приезжал сюда год назад, — сообщил Дредлс.
Я резко повернулся. От едких испарений, поднимавшихся над ямой с известью, у меня слезились глаза, но на Дредлса ядовитые пары, похоже, не действовали.
— Прощу прощения? — промолвил я.
Дредлс снова ухмыльнулся.
— Он тоже пользовался этой железякой, которую я дал ему, чтоб ковыряться в этом месиве, сэр, — сказал он. — Только у мистера Ч. Диккенса, знаменитого писателя, собака была покрупнее, сэр.
Глава 38
Двадцать девятого октября 1868 года я облачился в лучший свой парадный костюм и взял кеб до приходской церкви Сент-Марилебон, где происходило бракосочетание Кэролайн Г*** и Джозефа Чарльза Клоу.
Невеста выглядела на все свои тридцать восемь лет, если не старше. Жених же выглядел даже моложе своих двадцати семи. Любому стороннему наблюдателю, не знакомому со Счастливой Четой, было бы вполне простительно принять Кэролайн за мать невесты или жениха.
Мать жениха присутствовала там — тупая низкорослая толстуха в нелепом темно-бордовом платье, вышедшем из моды лет десять назад. Она прорыдала всю церемонию и последующий короткий прием, и ее пришлось вести под руки к экипажу после того, как Счастливая Чета укатила — не в роскошное свадебное путешествие, а обратно в крохотный домишко, где они будут жить вместе с матерью Джозефа.
Гостей с одной и другой стороны было мало. Миссис Г***, свекровь Кэролайн, по понятной причине на свадьбу не явилась (хотя старуха всегда очень хотела, чтобы невестка вышла замуж вторично). Другая причина, почему бывшая свекровь Кэролайн решила не присутствовать на бракосочетании (если она вообще о нем знала), стала ясной, когда я мельком заглянул в метрическую книгу: Кэролайн придумала фальшивое имя для своего отца — некий «Джон Кортиней, джентльмен». Она вообще всю себя придумала заново — свою семью, свое прошлое, свое первое замужество, — каковой вымысел я (будучи ее «последним официальным работодателем») согласился поддерживать в любых мелочах в случае необходимости.
Соблазн перекроить себя на новый лад оказался заразительным. Я заметил, что юная Кэрри, выступавшая в роли свидетеля, подписалась на брачном сертификате «Элисабет Хэрриет Г***», изменив написание обоих своих имен. Но самую наглую ложь позволил себе жених, обозначивший род своих занятий словом «джентльмен».
Да уж, если водопроводчик с въевшейся в кожу грязью за ушами и нечистыми ногтями теперь считается английским джентльменом, значит, Англия достигла наконец-то расчудесного социалистического строя, за который столь рьяно ратовали многочисленные реформаторы.
Надо признать, единственной особой, имевшей по-настоящему счастливый вид, была Кэрри — из-за юношеской ли своей беспечности или просто из-за преданной любви к матери она не только выглядела очаровательно, но и держалась так, будто все мы присутствуем при чрезвычайно радостном событии. Впрочем, под словами «все мы» я разумею лишь крохотную горстку людей. Со стороны Джозефа Клоу в церкви сидели двое: рыдающая мамаша в креповом платье и не представленный нам небритый мужчина — может, брат Клоу, а может, просто приятель-водопроводчик, явившийся в надежде, что после церемонии будет угощение.
Со стороны Кэролайн на свадьбе присутствовали только Кэрри, Фрэнк Берд и я. Нас было так мало, что Берду пришлось расписаться в метрической книге после Кэрри в качестве второго из двух необходимых свидетелей. (Берд предложил расписаться мне, но я обладал не настолько сильной склонностью к ироническому абсурду.)
Джозеф Клоу всю церемонию простоял в одеревенелой позе, явно парализованный страхом. Кэролайн так широко улыбалась, и лицо у нее было таким красным, что я думал, она вот-вот разразится слезами и забьется в истерике. Даже приходский священник, похоже, чувствовал что-то неладное и, близоруко щурясь, часто окидывал взглядом наше крохотное собрание, словно ожидая услышать от кого-нибудь из нас, что все происходящее — просто шутка такая.
В ходе всей церемонии я ощущал странное онемение в теле и мозгу. Возможно, дело было в дополнительной дозе лауданума, принятой перед трудным днем для укрепления сил, но мне кажется, так выражалось сознание окончательной и бесповоротной разлуки. Признаюсь, когда жених и невеста повторяли заключительные клятвы, я смотрел на Кэролайн, неестественно прямо стоявшую в своем дешевом, плохо подогнанном свадебном платье, и вспоминал все мягкие (теперь слишком мягкие) изгибы и выпуклости тела, скрытого под ним. Я не испытывал никаких эмоций — только странное, всепоглощающее чувство опустошенности, которое впервые стало одолевать меня в последние недели, когда по возвращении домой на Глостер-плейс я не заставал там ни Кэролайн, ни Кэрри, ни даже всех трех своих слуг, часто отсутствовавших (с моего разрешения) в связи с болезнью родителей Бесс. Огромный дом, где не слышны голоса и звуки человеческой жизни, кажется вымершим.
По завершении церемонии не последовало ни угощения, ни приема, достойного таковым зваться, — просто непродолжительное и неловкое топтание во дворе приходской церкви. Потом новобрачные отбыли в открытом экипаже — погода стояла довольно холодная, и начал накрапывать дождь, но у молодых, по всей видимости, не хватило денег на карету. Образ счастливой четы, укатывающей навстречу блаженству, несколько подпортил Фрэнк Берд, когда предложил подвезти Кэрри и мать Джозефа Клоу в своей карете до того же самого дома, куда минутой ранее отправились молодожены. (Кэролайн посчитала важным, чтобы первые несколько недель ее супружества Кэрри провела вместе с ней в тесном, спартанском домишке, хотя девочка будет по-прежнему работать гувернанткой и вскоре вернется ко мне на Глостер-плейс.)
Наконец, после того как священник в полном замешательстве удалился обратно в полутемную церковь, во дворе на промозглом позднеоктябрьском ветру остались только второй водопроводчик (я все-таки решил, что он не приходится Джозефу родней) да я. Дотронувшись до шляпы и легко кивнув голодному мужчине, я двинулся прочь и дошел пешком до дома своего брата на Саут-Одли-стрит.
К концу жаркого лета Чарли несколько полегчало, и с середины сентября они с Кейти проводили больше времени в своем лондонском доме, нежели в Гэдсхилл-плейс. Чарли по мере сил работал над разными иллюстрациями, но с ним часто случались приступы желудочной боли и общей слабости.
Тем не менее я удивился, не застав брата дома в тот четверг двадцать девятого октября. Кейти тепло приняла меня в маленькой сумрачной гостиной. Она знала о свадьбе Кэролайн и попросила меня рассказать «обо всех восхитительных основных моментах». Она предложила мне бренди — очень кстати, ибо я озяб по дороге и явился с красными от холода щеками, носом и руками, — и у меня слонялось четкое впечатление, что Кейти уже выпила до моего прихода.
Я поведал «обо всех восхитительных основных моментах» — но не одной только свадебной церемонии, а всего своего многолетнего знакомства с миссис Кэролайн Г***. История, конечно, возмутительная с точки зрения обывателя, но я давно знал, что Кейти не разделяет многих мелкобуржуазных заблуждений своего отца. Если верить многочисленным слухам, Кейти уже давно завела любовника — или нескольких любовников, — дабы восполнить отсутствие страсти (или неспособность проявить оную) со стороны моего брата. Здесь, в маленькой полутемной гостиной с закрытыми ставнями и крохотным камином, служившим единственным источником света, рядом со мной сидела, потягивая бренди, обычная земная женщина, и я вдруг осознал, что рассказываю ей такие подробности наших с Кэролайн взаимоотношений, которыми не делился ни с кем, включая ее отца.
Потом в какой-то момент я понял: помимо потребности отвести наконец душу перед кем-нибудь есть еще одна причина, почему я рассказываю Кейт Диккенс все это.
Пусть неохотно, тайно, с мучительным чувством, но мне пришлось в конечном счете согласиться с предсказанием ее бессердечного отца, что мой старший брат долго не протянет. Болезнь Чарли, несмотря на редкие периоды облегчения, в целом неуклонно усугублялась. Теперь представлялось вполне вероятным (даже мне, преданному и любящему брату), что Чарли через год-другой умрет и эта увядающая (сейчас ей было двадцать восемь), но все еще привлекательная женщина станет вдовой.
Кейти тоже позволила себе излишнюю откровенность, заявив вдруг:
— Вы бы удивились, если бы узнали, что отец сказал о замужестве миссис Г***.
— И что же? — Я подался ближе к ней.
Она подлила еще бренди нам обоим, но помотала головой.
— Это уязвит ваши чувства.
— Чепуха. Никакие высказывания вашего отца не могут уязвить мои чувства. Очень уж давно нас с ним связывают близкие, доверительные отношения. Пожалуйста, скажите мне. Что он сказал по поводу сегодняшней церемонии?
— Ну, мне он ничего не сказал, разумеется. Но я случайно услышала, как он сказал тете Джорджине: «Любовные истории с участием Уилки совершенно непредсказуемы. Вполне вероятно, вся затея с замужеством — просто фарс, разыгранный этой женщиной с умыслом заставить Уилки жениться на ней, однако, вопреки ее ожиданиям, послуживший к окончательному разрыву».
Я сидел, ошеломленный. И да, уязвленный. И изумленный. Неужели это правда? Неужели даже свадьба являлась очередной уловкой, на которую пустилась Кэролайн с целью затащить меня под венец? Неужели она надеялась, что я, осознав величину утраты, явлюсь за ней даже в дом Джозефа Клоу, презрев и поправ всякие супружеские узы, и попрошу ее вернуться ко мне… выйти замуж за меня? Я передернул плечами, испытывая чувство, похожее на отвращение.
— Ваш отец — очень умный человек, Кейти, — только и сумел выдавить я.
Ввергнув меня в удивление и трепетное волнение, она подалась ко мне и крепко сжала мою руку.
После третьего бренди я вдруг услышал, что плачущим голосом произношу тираду, которую много позже и в совершенно другой ситуации почти слово в слово повторю своему брату Чарли.
— Кейт… будьте ко мне снисходительны. Год у меня выдался просто ужасный: моя тяжелая болезнь, смерть матери, одиночество… Сегодня, на бракосочетании Кэролайн, я чувствовал, с одной стороны, странное удовлетворение, а с другой — непонятную горечь. В конце концов, она свыше четырнадцати лет была частью моей жизни и свыше десяти жила в моем доме. Мне кажется, дорогая Кейти, человек в моем положении достоин жалости. Я не… Я уже очень давно… Я не привык жить один. Я привык, чтобы рядом со мной постоянно находилась добрая женщина, которая бы разговаривала со мной, как вы сейчас, Кейт… заботилась обо мне и немножко меня баловала. Это нравится всем мужчинам, но мне, вероятно, больше, чем очень и очень многим. Вам, женщине, жене, трудно понять, что испытывает мужчина, привыкший ежедневно видеть в доме очаровательное создание… всегда изящно одетое, всегда находящееся в одной комнате с ним или где-нибудь поблизости, привносящее тепло и свет в жизнь старого холостяка… что он испытывает, когда вдруг, не по собственному выбору, остается один, как я сейчас… совсем один в темноте и холоде.
Кейти смотрела на меня очень пристально. Похоже, она придвинулась ко мне, пока я говорил. Ее бедро под зеленым шелковым платьем было всего в нескольких дюймах от моего. Внезапно я почувствовал острое желание упасть перед Кейти на колени, уткнуться ей в подол и разрыдаться, как малое дитя. В тот момент я не сомневался: она бы обняла меня, погладила по спине, по голове, возможно даже, прижала бы к груди мое мокрое лицо.
Я остался сидеть на месте, но подался к ней еще ближе.
— Чарли очень болен, — прошептал я.
— Да. — В этом односложном слове не слышалось печали, только согласие.
— Я тоже тяжело болел, но точно выздоровлю. Моя болезнь носит преходящий характер. Даже сейчас она не мешает мне работать и… жить полноценной жизнью.
Кейти смотрела на меня, как мне показалось, выжидательно.
Тогда я проговорил тихо, но выразительно:
— Кейти, я полагаю, вы смогли бы выйти замуж за человека, который…
— Не смогла бы, — решительно промолвила она. И поднялась на ноги.
Сконфуженно отшатнувшись, я тоже встал. Кейт крикнула служанке принести мои пальто, трость и шляпу. Я очутился на крыльце, не успев придумать, что сказать. В любом случае я еще не обрел дар речи. Дверь с грохотом захлопнулась за мной.
Я прошел половину квартала, наклоняясь против холодного ветра с дождем, когда вдруг увидел Чарли на другой стороне улицы. Он окликнул меня, но я притворился, будто не заметил и не услышал его, и стремительно прошагал дальше, придерживая шляпу и заслоняя рукавом лицо.
Через два квартала я поймал кеб и поехал на Болсовер-стрит.
Марта Р*** открыла дверь сама, поскольку все слуги тогда отсутствовали. Она не ждала меня сегодня, и по ее лицу я понял, что она по-настоящему мне обрадовалась.
Той ночью она зачала первого нашего ребенка.
Глава 39
В ноябре Диккенс представил «убийство» перед зрительской аудиторией из сотни ближайших своих друзей и знакомых.
Уже больше года Неподражаемый вел переговоры с фирмой Чаппела насчет своего следующего турне — так называемой прощальной серии публичных чтений. Чаппел предложил провести семьдесят пять выступлений, но Диккенс — чей недуг усугублялся, слабость возрастала, а список разных болячек увеличивался с каждым днем — настаивал на ста выступлениях за круглую сумму в восемь тысяч фунтов.
Его старейший друг Форстер, всегда выступавший против чтецких гастролей по той веской причине, что они отвлекают Диккенса от литературной работы и отнимают у него здоровье и силы, решительно заявил Неподражаемому, что попытка дать сто выступлений сейчас, в нынешнем его состоянии, равнозначна самоубийству. Фрэнк Берд и остальные доктора, пользовавшие Диккенса последний год, были полностью согласны с Форстером. Даже Долби, чье присутствие в жизни писателя целиком зависело от публичных чтений, полагал, что пускаться сейчас в турне не стоит, а замахиваться аж на сто выступлений категорически нельзя.
И все до единого родственники, друзья, врачи и надежные советчики сходились во мнении, что Диккенсу не следует включать в программу прощального турне «убийство Нэнси». Иные — например, Уиллс и Долби — просто считали номер слишком сенсационным для столь уважаемого и почитаемого писателя. Большинство же остальных — Берд, Перси Фицджеральд, Форстер, я и многие другие — почти не сомневались, что этот номер убьет Неподражаемого.
В изнурительных тяготах предстоящего турне, не говоря уже о душевных муках, сопряженных с каждодневными путешествиями железной дорогой, Диккенс видел (как он выразился в разговоре с Долби) «облегчение для ума».
Здесь Диккенса не понимал никто, кроме меня. Я-то знал, что Чарльз Диккенс является своего рода суккубом в мужском обличье — на выступлениях он не только подчинял своей месмерической, магнетической власти сотни и тысячи зрителей, но также вытягивал из них энергию. Не имей он потребности и возможности питать свои силы таким образом, он наверняка уже много лет назад умер бы от болезней и немощей. Он был вампиром и нуждался в публичных выступлениях, чтобы за счет энергии зрителей поддерживать в себе жизнь.
В результате Чаппел согласился на условия Неподражаемого: сто выступлений за восемь тысяч фунтов в общей сложности. Программа американского турне — которое, как Диккенс признался мне, довело его до полного изнеможения — предусматривала восемьдесят выступлений, но из-за отмены нескольких дат сократилась до семидесяти шести. Кейти сказала мне (задолго до нашей встречи двадцать девятого октября), что совокупный заработок Диккенса от гастролей в Штатах составил двести двадцать восемь тысяч долларов, а расходы — главным образом на переезды, аренду концертных залов, проживание в гостиницах плюс пять процентов комиссионных отчислений американским агентам из фирмы «Тикнор и Филдс» — вылились в сумму менее тридцати девяти тысяч долларов. Предварительные расходы Диккенса в Англии составили шестьсот четырнадцать фунтов, ну и разумеется, он выплатил три тысячи фунтов комиссионных Долби.
Вышесказанное заставляет предположить, что американское турне 1867–1868 годов принесло Диккенсу доход, равный небольшому состоянию — огромные деньги для любого литератора, — но он решил отправиться в гастрольную поездку по Штатам спустя всего три года после окончания Гражданской войны. Во время войны доллар повсюду сильно обесценился, и к началу лета 1868 года еще не восстановил свою меновую стоимость. Кейти объяснила мне: если бы отец просто вложил заработанные от американского турне деньги в ценные бумаги той страны и дождался, когда доллар вернет прежние позиции, он получил бы почти тридцать восемь тысяч фунтов прибыли. Но вместо этого Неподражаемый тогда же обратил доллары в золото, уплатив налог в размере сорока процентов. «Мой доход, — похвастался он дочери, — составил порядка двадцати тысяч фунтов».
Сумма внушительная, спору нет, но явно недостаточная, чтобы сопряженные с турне дорожные тяготы, физические и моральные затраты, изнурение сил и упадок писательских способностей окупились сполна.
Так что, вполне возможно, в случае последней сделки с Чаппелом Диккенс руководствовался столько же своими вампирическими потребностями, сколько элементарной жадностью.
Или же он пытался совершить самоубийство посредством турне.
Признаюсь, дорогой читатель, такое предположение не только приходило мне на ум и казалось вполне вероятным, но также обескураживало меня. Я хотел сам убить Чарльза Диккенса. Но возможно, будет лучше, если я просто помогу Неподражаемому совершить самоубийство выбранным им способом.
Диккенс начал турне шестого октября в своем любимом концертном зале Сент-Джеймс-Холл в Лондоне, но «убийство» в программу чтений не включил. Он знал, что гастроли придется на время прервать: в ноябре предстоят всеобщие выборы, и на период выборной кампании он будет вынужден прекратить выступления по той простой причине, что арендовать концертные залы или театры, отвечающие нужным требованиям, будет решительно невозможно, покуда политики неистовствуют и беснуются. (Ни для кого не являлось секретом, что Неподражаемый поддерживал Гладстона и либеральную партию, но близкие друзья знали: он поступает так скорее потому, что всегда на дух не переносил Дизраэли, нежели потому, что верит в способность либералов провести в жизнь социальные реформы, за которые он, Диккенс, всегда ратовал в своих художественных произведениях, публицистике и публичных речах.)
Но даже щадящие октябрьские чтения, без «убийства» (Лондон, Ливерпуль, Манчестер, снова Лондон, Брайтон и Лондон), сильно подкосили здоровье Диккенса.
В начале октября Долби рассказывал о прекрасном настроении и радости Шефа в связи с возобновлением публичных чтений, но уже через две недели Долби признавал, что Неподражаемый мучается бессонницей в дороге, страдает тяжелыми приступами меланхолии и впадает в ужас всякий раз, когда садится в поезд. При малейшем толчке или покачивании вагона, по словам Долби, он вскрикивал от страха за свою жизнь.
К великой тревоге Фрэнка Берда, у Диккенса снова распухла левая нога (неизменный симптом более серьезных недугов) и с небывалой силой возобновились старые почечные боли и желудочные кровотечения.
Еще большее впечатление производили сообщения Кейти, доходившие до меня через брата: Диккенс часто плакал и порой был совершенно безутешен. Спору нет, в течение лета и ранней осени Диккенс понес немало личных утрат.
Его сын Плорн, сейчас семнадцати лет без малого, в конце сентября уехал в Австралию к своему брату Альфреду. На станции Диккенс разрыдался, хотя прежде всегда хранил спокойствие при расставаниях с близкими.
В конце октября, уже сильно утомленный тяготами турне, Неподражаемый узнал о смерти своего брата Фредерика, с которым очень давно не поддерживал никаких отношений. Форстер сказал мне, что в письме к нему Диккенс написал: «Он прожил никчемную жизнь, но не дай бог, чтобы кто-нибудь сурово осуждал это или вообще что-нибудь на свете, помимо умышленных и безусловно дурных деяний».
Мне же, во время одного из наших редких совместных ужинов в ресторации Верея, Диккенс просто сказал: «Уилки, мое сердце превратилось в кладбище».
В начале ноября, когда до публичного убийства Нэнси оставалось две недели, мой брат сообщил мне, что Кейти случайно услышала, как Неподражаемый говорит Джорджине: «Мне никак не справиться с душевным разладом, и у меня началась жестокая бессонница».
Он писал Форстеру: «Мне нездоровилось, и меня одолевала усталость. Однако мне не на что жаловаться — совершенно не на что. Хотя я изнурен, как Мариана».
Форстер, сам тогда находившийся не в лучшем состоянии, по секрету показал мне письмо (воображая, будто существует некий круг ближайших друзей Диккенса, премного озабоченных состоянием его здоровья), но признался, что не понял отсылки к «Мариане». Я-то сразу понял и с трудом подавил улыбку, цитируя слова Марианы из поэмы Теннисона, на которую, несомненно, и ссылался Диккенс:
Изнурена, изнурена безмерно я.
О боже, лучше умереть!
Одно из октябрьских выступлений в Сент-Джеймс-Холле я посетил без ведома Диккенса. Тогда Неподражаемый начал вечер с обычной живостью, всем своим видом показывая, сколь великое наслаждение лично он получает от очередного обращения к «Пиквикским запискам» (такие его чувства, искренние или притворные, неизменно приводили публику в восторг), но уже через несколько минут он запнулся и долго не мог выговорить слово «Пиквик».
— Пиксник, — назвал он своего персонажа, осекся, чуть не рассмеялся и попытался снова: — Пеквикс… Прошу прощения, дамы и господа, я хотел сказать, разумеется… Пикник! То есть Пакритс… Пекснифф… Пикстик!
После еще нескольких равно конфузных попыток Диккенс умолк и посмотрел на своих друзей в первом ряду (я в тот вечер сидел на балконе далеко от сцены) с выражением веселого изумления. Но я прочитал также на его лице легкое отчаяние, словно он просил о помощи. И даже со своего места в задних рядах смеющейся, обожающей толпы я почти физически ощутил запах внезапно нахлынувшей на него паники.
Все последние недели Диккенс без устали шлифовал текст «Убийства Нэнси», но пока не представлял номер перед публикой. За ужином в ресторации Верея он признался мне:
— Я просто боюсь выступать с ним, Уилки. Я не сомневаюсь, что повергну зрителей в ужас, даже если прочитаю хотя бы одну восьмую текста!.. Но не окажется ли впечатление столь страшным, столь невыносимо жутким, что они зарекутся впредь ходить на мои чтения, — вот какой вопрос смущает меня.
— Вы определитесь через несколько выступлений, когда хорошенько прощупаете публику, дорогой Чарльз, — сказал я тогда. — Вы почувствуете, когда настал нужный момент. Чутье никогда вам не изменяло.
Диккенс просто кивнул, принимая комплимент, и рассеянно отхлебнул вина.
Позже Долби сообщил мне, что я приглашен в качестве особого гостя — в числе ста пятнадцати других «особых гостей» — на закрытое чтение, которое состоится в субботу, четырнадцатого ноября, в Сент-Джеймс-Холле (дело происходило во время перерыва в турне, вызванного выборной кампанией).
Наконец-то Диккенс решился убить Нэнси.
Днем четырнадцатого ноября я отправился в Рочестер. Дредлс встретил меня перед собором, и я совершил заведенный ритуал дароприношения. Для этого пыльного старика я покупал гораздо более дорогой бренди, чем для себя или своих особых гостей.
Довольно крякнув, Дредлс быстро затолкал подарок за пазуху, под толстые парусиновые куртки, фланелевые сюртуки и молескиновые жилеты. Он был таким пухлым и округлым в своих ста одежках, что я даже не заметил выпуклости от спрятанной под ними бутылки.
— Дредлс говорит, пожалте за мной, губернатор, — прохрипел он и повел меня вокруг собора и башни ко входу в подземную часовню.
Он нес с собой фонарь «бычий глаз» с опущенной шторкой, который ненадолго поставил на землю, пока хлопал себя по бокам и груди в поисках ключей. Он поочередно извлек множество ключей и ключных связок из множества своих карманов, прежде чем отыскал нужный.
— Берегите голову, мистер Билли Уилки Коллинз, — только и промолвил он, поднимая зашторенный фонарь и вступая в темный лабиринт.
День стоял пасмурный, и сквозь незастекленные трапециевидные проемы в крестосводчатом потолке почти не проникал свет. Эти сквозные отверстия, по замыслу давно умерших строителей собора призванные служить для освещения подземного некрополя, сейчас чуть не сплошь затягивали древесные корни, кусты, а в иных местах так и просто дерн. Я следовал за Дредлсом, ориентируясь главным образом по звуку и скользя ладонью по влажной каменной стене. Восходящая сырость.
«Тук-тук-тук… тук-тук-тук…» Похоже, Дредлс услышал эхо нужного тона. Он поднял шторку фонаря и показал мне участок стенной кладки в месте, где коридор плавно поворачивал и ступеньками уходил ниже в подземелье.
— Мистер Билли У. К. видит это? — спросил он, насыщая холодный воздух между нами алкогольными парами.
— Здесь стену разобрали, а потом отверстие заложили камнями поновее, заново посаженными на известковый раствор, — сказал я, стараясь не стучать зубами.