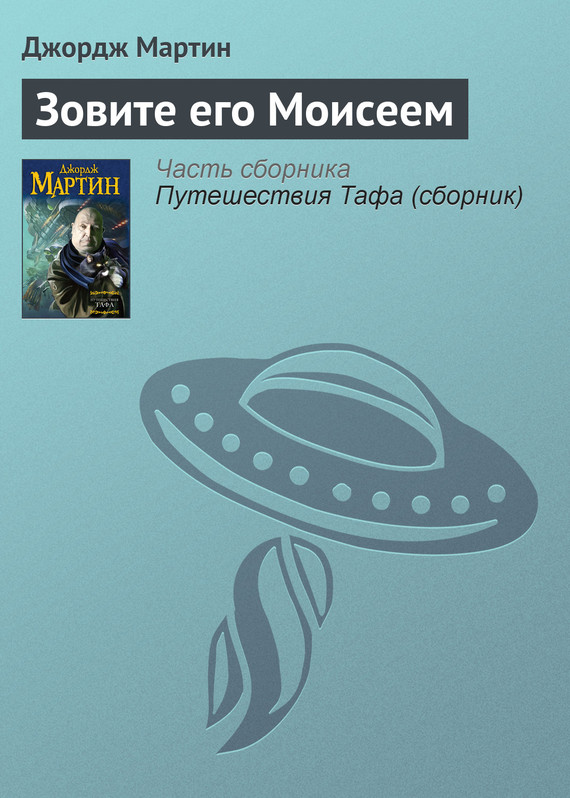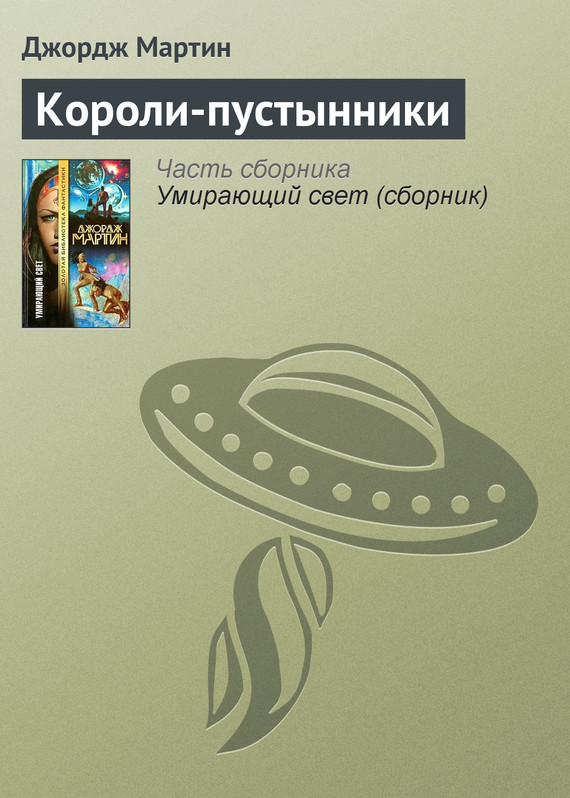Ненависть Остапенко Юлия

– Давай я их заплету,– сказала она.– Хотя это грех...
– Айнэ, у вас есть мужская одежда?
Женщина сдвинула брови, то ли недоуменно, то ли неодобрительно.
– Мужская одежда? Зачем тебе? С такими-то волосами!..
– Пожалуйста. Я очень тороплюсь, мне нужно одеться удобно.
Она качнула головой, потом вздохнула:
– Разве что порыться в сундуке. От старших сыновей что-то осталось...
– Я буду очень признательна,– улыбнулась Диз.– Я понимаю, вы уже столько для меня сделали, но...
Айнэ отмахнулась, направилась к комоду, негромко кашляя, стала в нем рыться. Диз тихонько вышла на улицу, с наслаждением вдохнула сырой осенний воздух. Конь призывно заржал, увидев ее, вонзил в землю копыто. Диз улыбнулась ему, как старому другу. Легкий порыв ветра подхватил рыжую прядь, швырнул в лицо. Диз поймала ее на лету и невольно втянула аромат собственных волос. Она не помнила, когда в последний раз распускала их. Очень давно.
– Вот,– проговорила Айнэ за ее спиной, закашляла, снова сказала: – Вот, смотри, тебе должно подойти.
Диз вернулась в дом, примерила мужской охотничий костюм из темно-зеленого бархата, очень дорогой, совершенно неуместный в этой хибаре, как, впрочем, и обстановка. Костюм был немного велик, но в общем сидел неплохо. Айнэ раздраженно повздыхала, потом заплела Диз косу, снова осмотрела ее, повздыхала снова.
– Не для тебя это, девочка,– проговорила она и слабо улыбнулась.– Ты ведь для другого рождена была, знаешь?
– Теперь все иначе,– сказал Диз, не глядя на нее. Айнэ тихо засмеялась, тут же закашлялась, прислонилась к стене, потом оперлась руками о спинку кровати, все еще кашляя, утерла рот и погладила светлые волосы мальчика, оставив на них размазанный кровавый след.
«Все,– подумала Диз.– Надо убираться отсюда».
– Мне пора, Айнэ,– проговорила она, чувствуя смущение, мешавшееся с настороженностью и почти страхом.
– Уже? – равнодушно спросила та и пожала плечами.– Ну что ж, рада была помочь.
Диз кивнула, сама не зная зачем, и отступила к двери, не сводя с женщины глаз. Но та смотрела на ребенка – ласково, нежно, с чуть заметной грустью.
– Никогда у меня не было девочек,– сказала Айнэ, и Диз словно ледяной водой окатило от того, как она произнесла эти слова.– Только мальчики. Ладно. Так тому и быть. Постой! – резко крикнула она, когда Диз уже стояла на пороге. Та замерла, готовясь к чему угодно.
Женщина подбрела к комоду, открыла нижний ящик, достала из него два небольших мешочка. Подошла к Диз, протянула их ей:
– Бери.
– Что это? – взяв, спросила она, но уже и так знала ответ. В черном мешочке были деньги, кажется, золото. В синем – какая-то сухая трава.
– Мои сбережения,– подтвердила ее догадку Айнэ.– Мне они все равно больше...– снова кашель, еще более глубокий, словно что-то там, внутри нее, обрывалось прямо сейчас,– не понадобятся. У меня мало времени... осталось.
– У меня тоже,– сказала Диз.
Айнэ улыбнулась краешком сухих черных губ.
– А во втором травы,– сказала она.– Для твоей раны. Когда будет больно, а остановиться и отдохнуть нельзя, возьми жменьку и пожуй. Полегчает.
– Спасибо вам за все, Айнэ.
Женщина улыбнулась шире. Протянула руку – ту, окровавленную,– и коснулась ею щеки Диз.
– Не за что... дочка,– чуть слышно сказала она.– Не за что.
Диз на миг замерла, потом осторожно отстранилась, переступила через порог, пытаясь унять бешено колотящееся сердце. Айнэ вышла следом и смотрела, как Диз отвязывает и седлает коня. Та старалась не торопиться, хотя ее так и подмывало поскорее взмыть в седло и умчаться отсюда.
– Девочка...
Диз замерла в седле, не зная, сорваться ли с места или помедлить еще минуту и послушать. Пока она колебалась, Айнэ подошла к коню и взяла его под уздцы.
– Дочка,– устало сказала она, и Диз с ужасом увидела, что кровь теперь выступает на ее губах, даже когда она просто говорит,– я знаю, о чем ты думаешь. Знаю, чего ты боишься. Но многие вещи не то, чем они кажутся. Понимаешь? Мы часто принимаем за истину то, что истинно лишь внутри нас. Но есть еще вне. Понимаешь? Понимаешь меня, дочка?
– Да,– сказала Диз, сама не зная, лжет или нет.
– Все просто,– снова улыбнулась Айнэ.– Ты сказала, что на тебя напали разбойники, что они ранили тебя, избили, изнасиловали и бросили в лесу... Но на тебе была одежда висельницы, девочка, а рана твоя, хоть и свежая, уже затянулась. И скажи на милость, что должна думать я?
Диз не ответила. Айнэ молча смотрела на нее. Потом произнесла:
– Но я-то знаю, что многие вещи – не то, чем они кажутся... Ты ведь никого не убила, правда?
– Правда,– одними губами сказал Диз.
Айнэ спокойно улыбнулась.
– Ну, и я никого,– сказала она и вдруг с силой, поразительной для этого чуть живого тела, хлопнула коня по боку.– Беги!!!
Конь взвился на дыбы, едва не сбросив Диз, яростно заржал и сорвался с места, взметнув тучу жухлых листьев.
– Беги! Беги! Беги!
Диз унеслась вперед, с трудом сдерживая крик и задыхаясь от безумно колотящегося в горле сердца. А женщина из заброшенной лесной хижины осталась стоять, глядя на следы конских копыт, впечатавшиеся в мертвую листву.
– Беги,– сказала она, когда Диз скрылась из виду.– Беги, дочка, беги. Пока знаешь куда. Или хотя бы думаешь, что знаешь.
Когда Дэмьен проснулся,– у него было такое чувство, будто он именно проснулся, а не пришел в себя,– за окном уже стемнело. Само окно – зарешеченное – размером с человеческую голову, если не меньше. Стекла в нем не было, и Дэмьен поежился от сквозняка, хлестнувшего его обнаженное тело.
Обнаженное?..
Он сел, осмотрел себя и помещение, в котором находился. Судя по всему, монашеская келья – именно такая, какой он ее себе представлял: топчан с соломенным матрацем (ни подушки, ни одеяла), деревянный чан для нужды, ветка омелы на стене. Все. Одежда, в которой он пришел, исчезла, зато в ногах у него лежал аккуратно сложенный балахон желтого цвета, а возле кровати стояла пара плетеных башмаков.
Дэмьен встал, с трудом унимая дрожь, натянул грубую, но удобно легшую на него одежду. Сшито словно по мерке, надо же. И обувь сидит как влитая.
Он больше не успел ни о чем подумать – наверное, на это и было рассчитано. Дверь открылась, и в келью вошел друид, при одном взгляде на него Дэмьен понял, что ему предстоит сыграть главную роль в спектакле, который разыграется в этих стенах. Будет ли это представление трагедией или комедией, Дэмьен пока не знал.
– Встать,– спокойно сказал друид.
Он был моложе Дэмьена. Ненамного, может, года на два или три, но моложе. Высокий, худощавый, с приятными чертами лица, очень светлыми, почти белыми волосами, небрежно спадавшими на высокий гладкий лоб. Его ряса была малиновой, с черными вставками на рукавах и капюшоне.
Дэмьен подчинился приказу, хотя его немного покоробил тон, которым тот был отдан.
– Мое имя Мариус,– сказал монах.– Я буду твоим наставником. В тот миг, когда я закончу говорить, начнется твоя первая инициация. Всего их семь, в соответствии с Небесной Седьмицей, пришедшей к нам от древнейших друидских верований. Семь начал: начало огня, начало воды, воздуха, земли, начало жизни, начало смерти и начало Богини. Каждому началу соответствует инициация. Когда ты пройдешь все – если ты пройдешь все,– то станешь одним из нас. Заметь: не мы сделаем, но ты станешь. Иначе говоря, ты, может быть, возродишься из пепла. То, что ты сгоришь, я могу гарантировать. Теперь правила: тебе запрещено спрашивать, тебе запрещено просить, запрещено заговаривать первым, запрещено пытаться уйти. Тебе позволено покончить с собой, если ты решишь, что с тебя довольно. Ты обязан подчиняться всему, что я скажу, и всему, что скажет любой друид. Сейчас ты ниже всех нас, ты неприкасаемый, ты ничто. Согласно правилам, я имею право дать тебе один совет на свое усмотрение. Вот он: запасись терпением. Когда же оно будет покидать тебя, черпай его в одной мысли: нет ничего чище золы. Теперь я заканчиваю говорить. Дэмьен без второго имени, который пришел к нам убийцей, твои инициации начинаются сейчас!
Он не повысил голоса, только чуть выделил интонацией последнее слово, но для Дэмьена этого было достаточно. Когда кулак друида метнулся ему в лицо, он рефлекторно уклонился и еле успел сдержать порыв, прежде чем его руки привычно потянулись к горлу нападающего. Кулак Мариуса пронесся в дюйме от лица Дэмьена и дернулся обратно. Дэмьен, слабо понимая, что происходит, счел нужным пробормотать извинения. Лицо друида ничего не выражало.
– На колени,– сказал он.
Дэмьен заколебался. Кулак снова понесся на него, и ему стоило большого труда заставить себя остаться на месте, хотя ничего не стоило уклониться и на этот раз. Твердые, как кремень, костяшки пальцев с размаху врезались ему в зубы, разбив нижнюю губу. Дэмьен покачнулся, но устоял на ногах.
– На колени,– повторил Мариус.
Дэмьен опустился на колени. Пол был ледяным.
– Смотреть в землю.
Он поднял голову, встретился с друидом глазами. От следующего удара его голова дернулась набок, рот наполнился кровью. Он повернулся, сплюнул в сторону, отстраненно отметив, что в сгустке кровавой слюны, шмякнувшейся на пол, сверкнул кусочек белой кости.
– Смотреть в землю.
Дэмьен стал смотреть в землю. Друид выждал с полминуты, потом ударил его снова, на этот раз ногой в живот. Падая, Дэмьен заметил, что носки и каблуки башмаков Мариуса подбиты сталью.
«Это первая инициация? Избиение? – удивленно подумал он.– Что тут такого, можно подумать, меня не били никогда...»
Закончить мысль он не успел. Удары сыпались на него один за другим, паузы между ними сокращались, сила и безжалостность росла. В зубы, в живот, по почкам, а потом в пах – раз, другой, снова и снова. Причем в ударах этих не было никакой злобы, никакой ярости – только спокойное, методичное унижение болью.
После очередного сильного удара в пах, от которого Дэмьен едва не завопил, друид остановился. Дэмьен лежал на каменном полу, кое-где измазанном кровью, и терпеливо ждал следующего удара. Терпение. Этот мерзавец прав: главное – терпение. И Гвиндейл. Гвин, ты ведь знала, что делаешь, когда посылала меня сюда, правда? Потому что я – не знаю. Но я буду терпеть, хоть это и чертовски больно уже в самом начале, пусть даже в этом и нет никакого смысла. Но ты не могла не знать. Потому что ты много что знаешь лучше меня.
Он вдруг понял, что за все это время не получил ни одного удара, и, с трудом оперевшись ладонями о пол, попытался приподняться. И в этот миг друид нанес ему сокрушительный удар окованным носком башмака в живот. Это был самый неожиданный удар, самый подлый – именно потому, что ударили в тот миг, когда он пытался встать. Дэмьен содрогнулся, умудрившись не упасть, низко опустил голову между дрожащими от напряжения руками, и его вырвало.
Он попытался отползти от лужи рвоты, стараясь не тревожиться по поводу того, что цвет этой лужи подозрительно красноватый, но на него снова посыпались удары, один за другим, нескончаемым градом, не давая ни мгновения передышки. Он упал в лужу собственной крови и рвоты, понимая, что уже не может защищаться, даже если захочет, и лежал неподвижно, пока его поливало щедрым ливнем боли. Потом ощутил, что наконец теряет сознание, и обрадовался, но радость была недолгой – на несколько секунд его оставили в покое, а затем на него вылилось ведро ледяной, пронизывающей до костей воды. Он дернул головой, чувствуя, как ускользает долгожданное забытье, поднял руку, взорвавшуюся болью, откинул мокрые волосы, упавшие на глаза, положил руку на пол. Лишь только его ладонь коснулась влажного скользкого камня, по меньшей мере сотня тонн обрушилась на ее тыльную сторону, кроша кости, сминая нервы и кровеносные сосуды в пульсирующий от боли ком.
И тогда он впервые закричал.
...Сначала ему показалось, что он с Клирис, в ее доме, еще до того, как он окончательно перебрался туда,– что это один из тех редких дней в году, которые они проводят вместе. Чаще всего это бывало в Бэллетейн, но сейчас ведь осень, а Бэллетейн весной... Он на миг ощутил досаду, потом стало больно, и досада забылась, как и Клирис, как и Бэллетейн, как и все, что было прежде... Он попытался шевельнуться и скрипнул зубами от боли. Болело все. Кажется, в его теле не осталось ни одной целой кости. Вот мерзавец.
– Тебе лучше? – спросил Мариус, увидев, что Дэмьен открыл глаза. Друид сидел у его постели, должно быть, уже давно. Руки спрятаны в рукава, капюшон откинут, мальчишеская челка небрежно падает на лоб, взгляд серо-голубых глаз дружелюбен и невозмутим.
Дэмьен попытался ответить и понял, что не может.
– О, ничего страшного,– засмеялся Мариус, ответив на его незаданный вопрос.– Ты лишился пары зубов – к счастью, не передних,– у тебя сломаны три ребра и кисть левой руки. Ну и многочисленные синяки, разумеется. Внутренние органы не задеты, переломы заживут быстро. Наши лекари умеют это делать. К тому же я правильно бил.– Он снова засмеялся.– Мы не так давно научились бить правильно. Это целое искусство. Мне повезло меньше, чем тебе,– когда я проходил инициации, били как попало, потому столь многие и умирали еще на первой стадии. Мне осколком ребра прорвало легкое. Но все это пустяки.– Он мягко улыбнулся.– Ты прошел первый этап. Он очень простой, но при этом очень важный. Честно говоря, я не помню, чтобы его кто-то проходил так хорошо, как ты.
«Стерпеть побои? Только и всего?» – подумал Дэмьен. Он был разочарован. Конечно, это впечатляло, особенно учитывая воспоминания о его поистине радужном отрочестве, проведенном в компании отца, но только и всего. Да, пожалуй, так сильно его не били никогда. Но какой в этом смысл? Хотя представить себе молодого ублюдка, валяющегося в этой же келье на этом же полу с пробитым легким, в данный миг было довольно приятно.
– Нет-нет,– покачал головой Мариус.– Тут дело не в том, что ты терпел боль. Главное – как долго ты ее терпел. Тем более что у тебя есть достаточно резервов, чтобы дать отпор, по крайней мере вначале. Все дело в том, понимаешь ли ты важность терпения. И – не переоцениваешь ли ты ее. Последнее даже важнее. Чтобы добиться того, за чем ты пришел,– за чем все приходят,– нужно переступить через себя, но не наступить на себя. В определенный миг приходится опять стать собой. Но только в определенный миг. Ты очень точно его почувствовал. Я надеюсь, ты и впредь меня не разочаруешь.
Мариус встал, шагнул к Дэмьену, наклонился и повторил жест монаха, втянувшего его в это безумие: протянул скрещенные пальцы и коснулся ими его лба.
– Поправляйся. Время у тебя есть. Потом будет труднее. Хотя и не так больно.
«Как глупо звучит»,– поморщился Дэмьен. Они так примитивно начали, что он уже не ожидал от них особой изобретательности.
«Гвин, ты ведь знала, что делаешь со мной? Знала?»
«Я знала»,– прошептала она ему через время и расстояние. Он поверил ей и уснул.
Диз мчалась галопом весь день и всю ночь: сначала пролеском, потом через деревню, через лес, потом по тракту, обгоняя редких всадников и еще более редкие повозки. К вечеру второго дня, когда конь начал хрипеть и задыхаться, она остановилась у маленького придорожного трактира. Ей бы не хотелось загнать это выносливое и быстрое животное – хотя сменить его все равно придется. Она собиралась добраться до Вейнтгейма за неделю, если повезет – за шесть дней. Чтобы успеть, надо было делать остановки не чаще раза в двое суток. Сейчас именно такой случай.
Она сняла комнату, не глядя швырнула на стойку несколько монет из кошелька Айнэ, велела разбудить себя за час до рассвета и, шатаясь от усталости, поднялась наверх. Вошла в низенькую мансарду, чуть не ударившись затылком о притолоку, и завалилась на постель, даже не сняв сапог. Кажется, она только теперь почувствовала, что загнала не только коня, но и саму себя. И сейчас, выкрав у себя же несколько часов отдыха, Диз снова вспомнила о ране. Последние сутки ей некогда было думать о таких пустяках, но теперь, когда ее проклятое беспомощное тело расслабилось, тоненький настойчивый голос боли стало невозможно игнорировать. Он зудел и звенел, словно писк комара, противно и надоедливо, становясь все громче и пронзительнее, пока у Диз не загудела голова.
– Черт, нет, так не пойдет,– процедила она, поняв, что не сможет заснуть.
Диз с трудом села, стянула куртку с больного плеча, отогнула край сорочки. Бинт был красным. Пятно совсем небольшое, но свежее. Значит, рана все-таки открылась. Впрочем, этого следовало ожидать.
Диз порылась в кармане, извлекла мешочек с травами, которые подарила ей на прощание женщина из леса. Развязала тесемку, заглянула внутрь, слегка отпрянула от резкого густого запаха. Опасливо, осторожно вытащила щепотку сухих, мелко перемолотых листьев. Сунула в рот. Пожевала. Ничего не почувствовала, взяла еще, потом еще. Завязала мешочек, спрятала, легла. И стала смотреть в потолок.
Сначала поплыла левая балка. Правая осталась на месте. Левая двинулась к ней, плавно, неторопливыми толчками, дергаясь вперед-назад, но неумолимо приближаясь к соседке. Та начала пятиться, отползать, вжимаясь в стену, но ее настигали, медленно и неотвратимо. Балки столкнулись, и с потолка посыпался снег.
Диз моргнула, недоуменно нахмурилась, и все встало на свои места. Она подняла руку, ощупала нижнюю челюсть. Десны и язык онемели, словно налившись свинцом. Диз потрогала губы, но почувствовала лишь свои пальцы – губы стали чужой, чужеродной плотью, непонятно как очутившейся на месте ее собственной. Зато плечо онемело тоже – боль глухо билась где-то в дальнем закоулке сознания, отчаянно молотила кулаками в с каждой минутой утолщавшуюся перегородку наркотика, и ее уже почти не было слышно.
– Ох, черт. Черт,– с трудом ворочая омертвевшим языком, выдавила Диз,– что за дрянь мне дала эта ведьма?
Эта мысль почему-то рассмешила ее. Она хохотнула, сдавленно, вымученно, чувствуя странную легкость во всем теле, кроме рта и раненого плеча. Плечо тоже стало куском железа, но железа холодного, застывшего, громоздкой глыбой валяющегося в углу кузницы. Диз попробовала шевельнуть руками, казавшимися такими легкими. Не смогла. Снова попыталась засмеяться, сама не зная зачем и над чем, уперлась взглядом в потолочную балку, находящуюся прямо над ее головой и минуту назад вдавленную в стену своей агрессивной сестрой.
С балки свисала пеньковая веревка с петлей на конце.
И началось.
...«Мммааааааааа!»
Женский вопль разорвал тишину спального здания, впился в нее раскаленным клином, разламывая на– двое.
«Ааааааааааа!»
Топот ног в коридоре, десятков ног, другие крики:
«Что?!. Где... Там!.. Он!.. Давайте же сюда!.. Господи... Помогите, помогите же! А-ах! Чтоб тебя...»
Она садится в постели, спускает босые ноги на пол, прислушивается. Причитают. Слов не разобрать. Уже не кричат. Что же там стряслось? Она соскальзывает на пол, маленькая, юркая, как росомаха, тенью бросается в коридор, сумрачно мелькнув в пятне света и тут же сгинув без следа. Ее никто не видит: все сгрудились у дальней двери, там, где начинаются комнаты учителей. Она оборачивается – нет, больше никто не вышел, все спят, все боятся, все знают: не наше дело, взрослые разберутся, взрослые знают лучше... Но ей-то известно: ни черта взрослые не знают. И она крадется по коридору вперед, так, как будет красться еще не раз, уже по-кошачьи, уже тихой поступью убийцы. Просачивается в гомонящую толпу слуг, к двери, соединяющей учительское здание со спальным. Душно, мокро, батистовые ночные сорочки провоняли пoтом и страхом. Ее мнут чьи-то толстые бока, задевают чьи-то влажные руки. Кто-то говорит над самым ее ухом – четко, раздельно: «А-ах ты, Господи», и тут же грузно осевшее тело сообщает всей толпе о том, что у кого-то наконец сдали нервы. Но ее здесь уже нет, она протолкалась дальше, между ног, между рук, по головам – в святая святых, учитель– ское здание. Первая дверь слева распахнута настежь. В комнате полно народу: шум, гам, кто-то рыдает. Да это же учительница рисования, тоненькая хрупкая девушка, вечно ходящая в синяках,– кто-то ее все время бьет, но поди знай кто. Это она так рыдает. Но не от боли – от боли так не плачут. Диз знает. Просто ей очень страшно. Она стоит на коленях, оперевшись о пол одной рукой и прижав к лицу другую, содрогаясь от рыданий, а над ней...
Над ней висит учитель риторики. Его руки и ноги смешно растопырены, голова свесилась на грудь, вывалив язык. Его разбухшую шею стягивает петля, и он тихо раскачивается под потолочной балкой – туда-сюда, туда-сюда, как маятник. Только без скрипа.
– Да снимите же его наконец! – пронзительно кричит кто-то позади галдящей толпы учителей, тупо ломящихся в комнату всем скопом.
– Диз даль Кэлеби?! – Железные руки впиваются в ее плечи, разворачивают, резко, рывком, так, что распущенные на ночь волосы с размаху хлещут по лицу.– Ты что здесь делаешь?!
Она начинает хохотать – громко, нагло, заливисто. Ее хватают, поднимают, несут, но она смеется и смеется, словно обезумев, как тогда, в тот день, последний день – когда она сказала: «Вернитесь, братики! Вернитесь!» Грубые руки обхватывают ее тело поперек, но она не сопротивляется, просто смеется, запрокинув голову и разглядывая безумно скачущий потолок, напрыгивающие друг на дружку балки, с одной из которых свисает пеньковая веревка с петлей на конце.
– Бедное дитя...
– Как вы могли допустить, что ребенок пробрался в учительский корпус?!
– Простите, миледи... Я... такое горе, я не...
– Ваша обязанность – следить за тем, чтобы дети оставались у себя! Что с ней?.. Успокойте ее! Не хватало, чтобы она лишилась ума!
– Это бедное дитя уже давно лишилось ума.– В шепоте – слезы, в слезах – шепот.
– Увидеть такое! У меня самой мурашки по коже! А она и без того слабовата после всего, что случилось с ее семьей...
– Да, да... Бедное дитя...
– Посидите с ней, пока она не успокоится. Не хватало, чтобы она обезумела... Это ведь теперь графиня даль Кэлеби, вы хоть помните?!
– Да, да... Бедное дитя...
Она перестала смеяться. То, что она услышала, ей понравилось. А то, что ее смех прервался, понравилось комендантше. Всем что-нибудь нравится. Но редко одно и то же.
«Графиня даль Кэлеби. Я – графиня даль Кэлеби. А ведь в самом деле. Я – графиня даль Кэлеби. Потому что некому больше быть графиней. И графом. Некому. Никого не осталось. Никого нет».
Няня испугалась – эти глупые гусыни всегда пугаются, когда сначала смеешься, а потом плачешь. Дура. Она ничего в этом не понимает. Ни в смехе, ни в слезах.
– Бедная девочка... Бедная, бедная... ну тише, тише... Угораздило тебя выйти, зачем ты вышла? Бедная, бедная...
«Я – графиня даль Кэлеби».
Они теперь боятся ее. Потому что она – знатная леди, титулованная особа, последняя из рода даль Кэлеби. И еще потому, что, когда три дня назад ей сказали, что вся – вся ее семья убита, вырезана, уничтожена,– она сначала закричала, а потом начала хохотать. Сначала они решили, что у нее истерика. Но потом, когда увидели, как чист и ясен ее взгляд, им стало страшно. Они немножко успокоились, когда она упала на кровать и стала рыдать, громко, отчаянно, захлебываясь слезами. Это их обрадовало: это было нормально. Нормально плакать, когда погибли твои родители и любимые старшие братья. Так часто делают – часто плачут. Никогда не смеются. И никогда не плачут оттого, что их убил кто-то другой. Что их посмел убить кто-то другой.
«Ненавижу! – кричала она в мыслях, заливая подушку слезами.– Ненавижу тебя, ненавижу, кто бы ты ни был! Как ты мог! Как ты смел?! Они были мои! Мои, мои, мои! Это я должна была сделать, я, я, а не ты! О Господи, я так долго ждала, я готова была ждать сколько потребуется, пока я не стану сильной, пока не стану умной, пока не сумею отомстить по-настоящему за свою поруганную честь, за боль, за боль! Я должна была сделать это сама, я имела право! А ты отнял у меня это право! Подонок! Ненавижу! Ненавижу тебя! Ненавижу!»
– НЕНАВИЖУ!!!
Вот тогда она впервые прокричала это. В самый первый раз за семь предыдущих лет. Но далеко не в по– следний за следующие одиннадцать.
С того дня она не стригла волосы. Конечно, наверняка это было не так, но ей казалось, что к третьей ночи, когда повесился учитель риторики, они уже немного отросли.
Веревочная петля болтается под потолком. Или это только кажется? Наверное, только кажется...
– Только кажется,– сказала девочка в синем.
Диз упала в сон. А за час до рассвета вынырнула из него и поехала дальше.
Девяносто восемь. Девяносто девять. Сто.
Дэмьен остановился, придерживаясь за стену и глядя в пол, на котором, должно быть, не осталось ни одного квадратного дюйма, не отмеченного его следами. Надо ходить. Ходить, ходить – не очень быстро, не очень много и, конечно, осторожно. Сто шагов в час, только чтобы остаться на зыбкой поверхности сознания. В последние пару дней выныривать было все труднее – волны беспамятства нарастали, пенились, захлестывали его и тащили вниз, на дно, но пока что он успешно боролся с ними. Главное – вовремя стряхнуть сон... и не смотреть, ни в коем случае не смотреть в дальний левый угол.
За окном опять шел снег. Он часто шел в последнее время.
Дэмьен медленно вернулся к кровати, сел. Голова кружилась, комната плыла вперед и вправо. Он не ел уже восемь дней. Не пил почти двое суток. Когда переломы зажили (это случилось очень скоро, через две недели), его заперли в этой комнате, оставив полбуханки черного хлеба и небольшую флягу с водой. На этом скудном пайке ему предстояло прожить месяц. Мариус назвал это сдвоенной инициацией Земли и Воды. А Дэмьен еще тогда подумал, что, если смешать воду и землю, получится грязь.
Он сложил свои запасы в дальний левый угол кельи и старался пореже смотреть в их сторону. Но, конечно, эффект был примерно такой же, как если бы они постоянно находились у него перед глазами. Сначала Дэмьен дал себе зарок держаться до конца, потом, подумав, решил разделить провиант на четыре равные части и позволить себе раз в неделю хоть немного утолить голод и жажду. Тогда он ничего не знал ни о голоде, ни о жажде. Как оказалось.
Первое время он мрачно радовался тому, что сейчас зима – интересно, повышают ли они рацион в жару? Но холод почему-то отнюдь не способствовал уменьшению жажды. Зато активно способствовал усилению голода. Неровный ломоть, отодранный от буханки и составляющий одну четвертую ее часть, погиб на третий день инициации. Сквозняк, гулявший по комнате несмотря на запертую дверь, загнал Дэмьена на постель, в самый угол – там дуло меньше – и существенно усложнил его ежечасные прогулки вперед-назад по каменному полу. Было очень холодно, внутренние резервы, вынужденные еще и регулировать температуру, истощались быстро. Весь третий день Дэмьен просидел в углу кровати, не сводя голодных глаз со своего неприкосновенного запаса, потом послал все к черту и с легким сердцем уничтожил весь недельный рацион. И только опорожнив на дозволенную четверть фляжку с водой, понял, что теперь по меньшей мере четыре дня не должен ни есть, ни пить.
Четыре дня он не выдержал – только три. На этот раз ему удалось справиться с искушением поесть, но терпеть жажду не было никаких сил. Маленький ледяной глоток обжег горло, обдал пламенем воспалившиеся гланды, но облегчения почти не принес. И тогда, закрутив фляжку и поставив ее в угол, Дэмьен вдруг впервые подумал: месяц. То есть еще три недели. Втрое больше, чем он здесь находится. А воды осталось меньше половины.
Мариус говорил, что очень многие погибали при первой инициации. Теперь Дэмьен был склонен думать, что при второй дела обстояли немногим лучше.
«Может, съесть все сразу? – с тоской подумал он утром двенадцатого дня.– Все равно ведь не выдержу».
Он пытался вспомнить, сколько времени человек может обходиться без пищи, но не мог. Кажется, действительно около месяца... А без воды? Меньше, наверняка намного меньше. Если бы снег попадал в комнату через окно. можно было бы попробовать собрать талую воду.
«Или слизнуть,– устало подумал он.– В крайнем случае слизнуть прямо с камня, почему бы и нет?»
Но, словно назло, редкие снежинки падали прямо, как слезы, на расстоянии вытянутой руки от окна, а решетка была слишком частой, чтобы он мог просунуть руку и поймать немного снега на ладонь. Поэтому в то время, когда у Дэмьена еще были силы ходить, он подолгу стоял у окна, глядя на далекую кристаллизированную влагу, танцующую над холодными камнями почти у его ног.
Потом, ближе к концу второй недели, ходить он уже не мог. Стоять, в общем-то, тоже. Единственный способ борьбы с несуществованием стал недоступен. Теперь это волновало Дэмьена меньше, чем прежде.
Он не знал, сколько времени прошло, но в одно прекрасное утро он с трудом встал, за четверть часа до– брался до заветного угла, непослушными руками разломал остатки хлеба, съел их, медленно, тщательно пережевывая каждую крошку, но совершенно не чувствуя вкуса, потом отвинтил крышку фляги, залпом выпил ее содержимое. Вернулся на кровать, лег, отвернулся лицом к стене.
И подумал: «Вода, вода, земля, земля. Грязь».
И еще: «Гвиндейл, правда же, ты знала, знала, правда?»
«Конечно»,– ответила она.
Он все еще верил ей.
Ветер на волнах... Волны на ветру... Она никогда не видела моря. Никогда не видела.
Надо же... до чего сильной оказалась эта дрянь... А ведь без нее никак, никак без нее – слишком больно. На саму боль можно было бы не обращать внимание, но боль выпивает силы. Боль постоянно мучится жаждой и, если не напоить ее, начинает звереть. Она так громко кричит... так громко... Поэтому нужно либо залить в ее ненасытную глотку силы, либо заткнуть ей рот пучком трав женщины из леса. А потом нестись сквозь прозрачный туннель из гнилых палых листьев. Закрыть глаза, подставить лицо встречному ветру, и пусть коса хлещет по бедрам. Пусть.
Коса.
Да, коса.
Жухлые листья... тающий снег... Теплые руки... сильные пальцы... Талые воды... пламя лучины... Отсвет улыбки... пятна оскала... Сильные пальцы... теплые пальцы... Больно, вернитесь... Просто вернитесь... Я так мечтаю... Я так хочу...
Ветер на волнах. Волна на ветру.
Ненавижу тебя. Ненавижу.
Четвертая инициация – испытание холодом. Нет – Холодом. Как оказалось, Дэмьен знал о нем примерно столько же, сколько раньше знал о голоде и жажде. Только знания о боли до сих пор не подводили его. О боли он знал много.
С неба падал снег. Похоже, в Вейнтгейм пришла зима. Рановато, даже для севера – ведь сейчас только середина октября. Но намело уже по колено, в друидском квартале встречаются сугробы почти в человеческий рост. В самом Вейнтгейме, должно быть, улицы расчищают, хотя Дэмьен не мог знать наверняка. Он уже почти два месяца не был за серой стеной.
Передохнуть после месячной голодовки ему почти не дали. Пауза составила всего два дня: в первый кормили какой-то горячей жижей, аргументируя это тем, что твердую пищу ему сейчас нельзя, на следующий день выставили шикарный стол. А утром третьего дня подняли затемно и сказали: пора.
На этот раз Мариус был очень вежлив, даже приветлив.
– Зачем ты здесь? – спросил он, когда они стали спускаться по узкой винтовой лестнице, ведущей, по всей видимости, в подземелье.
Дэмьен обдумал вопрос. Он не раз задавал себе его за последние шесть недель, особенно часто – в послед– ние дни голодовки. И, когда понял ответ, почти ему не удивился.
– Наверное, мне просто некуда больше идти.
– Забавно,– улыбнулся Мариус.– Почти всегда, спрашивая «Зачем?», получаешь ответ на вопрос: «Почему?» Но ты по крайней мере ответил правдиво. Пусть и не на тот вопрос, который я тебе задал.
Они остановились перед окованной железом дверью. Мариус отпер ее, распахнул, и Дэмьен, приготовившийся увидеть темный сырой подвал, застыл от изумления, когда на него обрушилась лавина белого света.
– Прошу,– усмехнулся Мариус.– Это твои апартаменты на ближайшую неделю.
Дэмьен медленно переступил порог, глядя вверх и не веря своим глазам, хотя ничего особенно примечательного в этом месте не было. Всего лишь сухой колодец, такой глубокий, что казалось, будто его стены почти сходятся там, где маячил ослепительно белый кусочек неба. Дэмьен смотрел на этот рваный лоскут, как на божественный нимб, и вдруг почувствовал, как что-то осторожно коснулось его лица. Он провел рукой по лбу, посмотрел на свои пальцы. Снег.
– Значит, неделю,– с оптимизмом, которого не испытывал, повторил он.– Я могу задать вопрос?
– О да,– дружелюбно ответил Мариус.– На четвертом этапе тебе уже можно изредка задавать вопросы.
– Зачем вы здесь?
Мариус вскинул на него расширившиеся глаза, потом тихо засмеялся.
– Я думал, ты спросишь, будет ли твой рацион столь же аскетичен, как раньше,– сказал он.– Всегда это спрашивают. И ведь знают ответ, а все равно спрашивают. Чтобы успокоить себя хоть чем-то.
– Вы не ответили.
Улыбка Мариуса исчезла.
– Пройдя три инициации, ты уже можешь задавать вопросы,– холодно проговорил он,– но еще не можешь требовать ответов.
Дэмьен стоял и смотрел, как закрывается дверь. Потом отвернулся, взглянул вверх, на снежинки, падавшие со светло-серого неба. Не отрывая от них глаз, поднял капюшон своей рясы. Вздохнул, и облачко пара, вырвавшееся из его губ, растворилось в морозном воздухе.
Сначала он думал, что неделя – это не очень много. По крайней мере после месяца, проведенного на сухом пайке. Очень скоро он понял, что так думают все. И, как это часто бывает, все ошибаются. Впрочем, днем было еще сносно. Заметно похолодало к вечеру. Дэмьен наворачивал круги по колодцу несколько часов кряду, потом, почувствовав, что валится с ног, завернулся в друидскую рясу, ярко-желтый цвет которой создавал иллюзию тепла, и лег на голый, запорошенный снегом пол, поджав под себя ноги. Однако довольно быстро пришел к выводу, что так недолго отморозить причинные места, встал и прислонился спиной к ледяному камню, решив садиться на пол лишь в крайнем случае.
Ночью пошел снег. По-настоящему пошел – впервые за эту раннюю зиму. К утру дно колодца засыпало снегом. Дэмьен сгреб его руками в один угол. Пальцы посинели к окончанию этой процедуры, но он по крайней мере расчистил себе клочок твердой мерзлой земли. Напротив него теперь возвышался сугроб фута в три высотой. Дэмьен надеялся, что к следующему снегопаду он растает, и старался не думать о том, сколько ледяной воды образуется на его месте. Как и о том, что будет, если снег пойдет раньше.
Так и случилось. Тяжкие сизые хлопья повалили с неба вскоре после того, как Дэмьену принесли завтрак – мясо, свежий хлеб и горячее вино. Последнее было как нельзя более кстати. Дэмьен подумал, что хорошо бы попросить лопату или, на худой конец, ведро, а потом вспомнил, что ему нельзя просить. Уже можно спрашивать, еще нельзя просить. Что ж, если так пойдет дальше, они просто утопят его в талой воде.
Но, как, в общем-то, и следовало ожидать, этого не произошло. Снег валил весь день, а к вечеру пришел Мариус. Поверх привычной темно-малиновой рясы он накинул теплый плащ, подбитый мехом, на руки натянул перчатки. Дэмьен, к тому времени продрогший до костей, понемногу начал понимать, что такое черная зависть, но тут он заметил, что Мариус пришел не с пустыми руками.
– Держи,– сказал он, протягивая Дэмьену плоскую деревянную лопату.– Можешь вычистить снег. Сюда, в коридор.
Дэмьен принял это разрешение с благодарностью и стал активно разгребать сугроб, сжимая древко лопаты окоченевшими руками. Он бросал снег прямо на лестницу, не особо заботясь о его дальнейшей судьбе – наверняка монахи вынесут. Конечно, они могли бы и сами вычистить колодец, но тут важна символика. Да, черт возьми, именно символика.
– Как тебе тут? – внезапно поинтересовался Мариус. Он нечасто заговаривал с Дэмьеном за прошедшие два месяца.
– Холодно,– усмехнулся тот.
– Еще не успел пожалеть о том, что ввязался во все это?
– Успел. И неоднократно.
– Ты ушел бы, если бы мог?
Если бы мог?.. Но он ведь мог. Почти наверняка мог – просто не пробовал. Конечно, он был истощен, измотан, да и не оправился еще окончательно от радушного приема вейнтгеймских друидов. Но он ведь был Дэмьеном. Тем самым, без фамилии и без клички – просто Дэмьеном, одним из самых известных в определенной среде убийц. Да, он помнил о существовании плечистых монахов в коричневом, охранявших вход в храм,– тех самых, у которых под рясами угадывались мечи. Так что из того? Он не сомневался, что даже теперь справился бы с ними без особого труда. Но хотел ли он этого – вот в чем вопрос. Наверняка нет. Иначе бы его давно здесь не было.
– Знаете,– проговорил Дэмьен, сосредоточенно разгребая лопатой рыхлый снег,– я как-то не думал об этом. Не ушел бы, нет. Куда мне уходить?
– Ну вот, опять ты отвечаешь на вопрос «Почему?» вместо вопроса «Зачем?».
– Что вы хотите сказать?
– Пока ничего.– Мариус помолчал, глядя в землю, потом поднял голову и произнес: – Ты думаешь, что без труда убил бы нашу охрану, верно?
– Да,– согласился Дэмьен.
– Все они когда-то были такими, как ты. Они и сейчас такие, как ты,– физически. Ваша плоть остается неизменной. Сейчас ты истощен, но, если дойдешь до конца, твои силы восстановятся быстро. Те, кто охраняют наши храмы – и вас,– могут уйти в любую минуту. Иногда они в самом деле уходят. То есть их тела уходят – сами они остаются здесь. Но даже находясь вне этих стен, они никогда не выпустят тех, кто однажды сюда вошел. Так что не обольщайся.
– Вы знаете, кем я был? – оторвавшись от работы, нетерпеливо спросил Дэмьен.
– Опять ты обольщаешься. Я не знаю, кем ты был,– я вижу, что ты есть, и тебе еще через многое придется пройти, чтобы получить основания говорить: кем я был. А сейчас ты озлобленный, обессиленный и беспомощный манекен, с которого понемногу слазит слишком яркая краска.
– Я не озлоблен.
– Против остального ты не возражаешь?
Дэмьен не ответил. Просто взглянул на миг в спокойные голубые глаза друида и вернулся к работе. Закончил он молча, с удивлением, раздражением и каким-то извращенным удовольствием отметив, что взмок. Он протянул друиду лопату, коротко поблагодарил, окинув облегченным взглядом расчистившееся пространство. Мариус направился к выходу.
– Можно еще вопрос? – окликнул его Дэмьен.
– Один,– согласился тот.– И я не обещаю, что отвечу.
– Ваши боги... кто они?
Друид бросил на него короткий взгляд, в котором, как на миг показалось Дэмьену, проскользнуло замешательство. Потом отвернулся и закрыл дверь.
Снег шел всю неделю – с небольшими промежутками затишья, то сильнее, то слабее. Мариус еще трижды приносил Дэмьену лопату. Каждый раз ему приходилось ждать все дольше и дольше, потому что руки Дэмьена уже почти не слушались, а под конец недели его начало сильно лихорадить. Он апатично подумал, что так недолго подцепить воспаление легких, но потом успокоил себя мыслью, что если уж друиды смогли залечить его переломы за пятнадцать дней, то с такой ерундой они наверняка справятся без особого труда. Они больше не разговаривали: Мариус молча выжидал, пока Дэмьен справится с работой, и так же молча уходил. Дэмьен же и не особо стремился с ним беседовать. Ему было о чем подумать. Он часто вспоминал слова хозяйки «Черной цапли» о ее сыне, который, выйдя из-за серой стены, посмотрел на нее ясными глазами и сказал: «Прощай, мама». А еще ее домыслы о том, чем занимаются вейнтгеймские друиды. Но особенно много он думал о взгляде, который бросил на него Мариус, когда Дэмьен задал ему последний вопрос. Удивленный взгляд... и довольный в то же самое время – словно этот вопрос был правильный. Дэмьену казалось, что взгляд и был ответом, но его смысла он уловить не мог, как ни старался.
«Зачем я здесь, Гвиндейл?» – в который раз подумал он утром седьмого дня, лежа в расчищенном от снега углу колодца. Снег скопился на его голове и плечах и продолжал падать, укрывая его толстым холодным одеялом. В белом небе с хриплым карканьем носились вороны. Дэмьен подумал о себе как о манекене, вспоминая слова Мариуса, и попытался понять, как относится к такому заявлению. Манекен – это что-то... неживое... пустое... холодное... что-то, с чего слазит краска. Что-то, что ставят в парадных залах, заставляя принимать вычурные позы, а потом забрасывают на чердак. Он представил себе неровные ряды поломанных кукол, тупо уставившихся друг другу в лица, и его передернуло. Но видение не ушло. Он почти видел два обращенные друг к другу ряда голых кукол, застывших под залепленным паутиной потолком, бесцветных, бездушных, одинаковых. Иногда ему казалось, что он узнает их лица, но это почему-то пугало его, он несся вдоль безумно-безликого ряда и остановился лишь в самом конце и замер, глядя на две обращенные друг к другу фигуры, похожие и непохожие на все остальные: мужскую, с русыми волосами и шрамом через лицо, и женскую, неуклюжую, поломанную, с длинной рыжей косой...
Вечером седьмого дня Мариус, придя освободить Дэмьена из заточения, обнаружил его лежащим без сознания под слоем снега. Друид позвал людей, они принесли носилки, осторожно уложили на них горячего, как огонь, Дэмьена и так же осторожно понесли наверх. Когда они оказались в помещении, Дэмьен вдруг вздрогнул, застонал и, не открывая глаз, отчетливо проговорил: «Она смогла, они обе смогли, все смогли, почему я не могу?» Монахи на миг остановились, потом отправились дальше. Мариус пошел следом, старательно пряча удивленную, почти восхищенную улыбку, думая о том, что стоит предоставить этому адепту более длительный отдых перед следующим этапом. Он это вполне заслужил.
Диз приехала в Вейнтгейм пасмурным октябрьским днем, по-осеннему промозглым и по-зимнему холодным. Вейнтгеймский округ лежал в снегу, тяжелом и грязном, кажущимся лишь злобной пародией на снег. Внутри Диз было так же тяжело и грязно. Злобная пародия на настоящую Диз.
Она не знала, сколько времени занимают друидские инициации, а потому пребывала в скверном настроении. И предпочитала не думать о том, что будет делать, если, встретив Дэмьена, узнает, что он стал друидом. Шаг до смерти и шаг до святости. Так странно. И так трусливо. Должно быть, большинство друидов – малодушные мерзавцы, бегущие от возмездия таких, как она. Правда, Диз никогда не встречала таких, как она.
Девочка в синей тунике указала ей путь. Она давно не приходила, и Диз была почти обеспокоена. Но на этот раз девочка просто опередила ее – должно быть, шла другой, более короткой дорогой, и, когда Диз ступила на площадь у южных ворот Вейнтгейма, дикое чуждое существо стояло у дверей гостиницы под названием «Черная цапля», молча глядя на Диз.
«Сюда?» – спросила она, но не получила ответа. Мимо прогрохотала тачка, груженная старым тряпьем, едва не проехавшись Диз по ногам. Она отскочила, выругалась, тряпичник вяло огрызнулся и угрюмо потащился дальше. Здесь все были вялыми и злыми, словно осы, потревоженные во время зимней спячки. Город сам был злым и вялым. Слишком много черного и острого. И слишком чисто. Это казалось подозрительным.