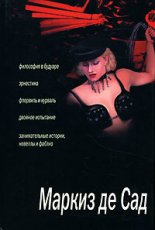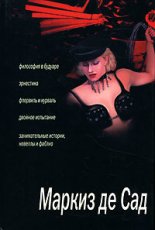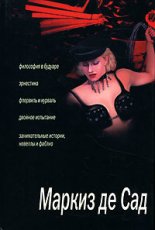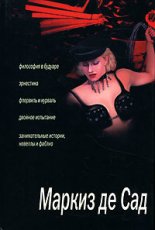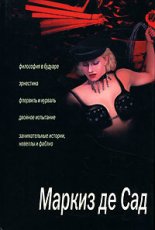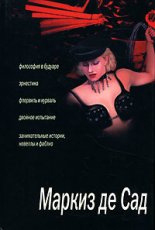Приключения Джона Девиса. Капитан Поль (сборник) Дюма Александр

— И вот почему ты несравненно выше своих предков! — вскричал я. — Древний грек потребовал бы гекатомбы, а ты всепрощения. Ты хочешь, чтобы не только о тебе плакали, но чтоб тебя благословляли.
Апостоли печально улыбнулся. Заметив по движению губ его, что он молится, я ушел, чтобы не мешать ему.
Через несколько времени я воротился. Апостоли спал довольно спокойно; но с полчаса спустя у него начался сильный кашель и потом страшная рвота кровью. Во время этого ужасного кризиса бедный молодой человек несколько раз лишался чувств и падал ко мне на руки; он каждый раз думал, что уже умирает, и потом возвращается к жизни с печальною, ангельскою улыбкою, какую видывал я только у тех, кому суждено умереть в юношеском возрасте. Наконец, часам к двум утра, эта страшная борьба между жизнью и смертью кончилась. Жизнь была побеждена и, казалось, просила свою неприятельницу, чтобы ей только дали угаснуть по-христиански.
Рано утром привезли греческого священника, за которым посылали на остров Самос; это была минута чистой радости для Апостоли. Я хотел оставить их одних, но он сказал мне:
— Не уходи, Джон, нам уже недолго остается пробыть вместе.
Потом он рассказал священнику всю жизнь свою, чистую и невинную, как жизнь младенца. Священник был глубоко тронут и, указывая мне одной рукой на умирающего Апостоли, другою на пиратов, которые по временам заглядывали в двери, сказал:
— Вот те, которые уходят, и вот те, которые остаются.
— Судьбы Божий неисповедимы, батюшка, — сказал Апостоли, — я слаб, и Он призывает меня к себе, чтобы молиться, а сильных оставляет здесь, чтобы сражаться. Вы станете за меня молиться, батюшка, когда я умру, а я буду молиться за наше отечество.
— Будь спокоен, сын мой, — сказал почтенный священник, — я уверен, что скоро у подножия престола Божия ты будешь полезнее для отечества, чем здесь.
— Так я рад умереть, батюшка! — вскричал Апостоли с восторгом. — Я благословляю смерть, если она может принести пользу моему отечеству!
— О, дай Бог! — сказал Константин, входя в палатку и становясь на колени у постели больного.
Священник приобщил его.
И я стал верить близкому возрождению Греции, видя, что молодой человек, старый священник и атаман морских разбойников, отдаленные друг от друга всем пространством от юности до старости и пропастью, разделяющей добродетель с пороком, соединяются между собою таинственными узами, общею любовью, общею надеждою, которую умирающий завещает живым во имя Бога и отечества.
Причастившись, Апостоли стал спокойнее и, как скоро священник ушел, он просил, чтобы мы снесли его к дверям. Мы с Константином взяли тюфяк за четыре угла и положили больного у входа в палатку. Он тотчас вскричал, что теперь покров, который уже несколько дней закрывал от него природу, исчез, и что он видит и небо, и море Самосское, и даже берег, который нам самим казался легким облаком под первыми лучами восходящего солнца. В глазах его выражалась такая радость, лицо озарилось таким блаженством, что я даже перестал верить, что он умирает, и ожидал чуда. Душа его укрепилась светлою, благодатною надеждою. Я сел подле него, и он стал говорить мне о своей матери, о сестре, но не так уже, как прежде, а как путешественник, который долго был в отсутствии и возвращается домой, в твердой уверенности, что все родные ждут его на пороге.
Так прошел целый день, но ясно было видно, что нравственная восторженность увеличивает его физическую слабость. Наступил вечер, один из тех прекрасных вечеров благословенного Востока, когда ветер приносит ароматы бесчисленных цветов, прекрасные розовые облака отражаются в море, и солнце, улыбаясь, покидает землю.
Несколько времени Апостоли уже не говорил и, казалось, был погружен в восторженное созерцание природы; целый день он следил за солнцем и вечером просил меня, чтобы я поворотил его лицом к западу. В то время, когда огненный шар дошел уже до гор Андроса, Апостоли как будто ободрился, приподнялся, опираясь рукою, и держался все с большею силою, следуя за ним глазами; наконец, когда солнце совсем скрылось, он протянул к нему руки, проговорил «прощай», и голова его опустилась ко мне на плечо.
Апостоли умер; он умер без кризиса, без потрясений, без страданий; умер, как пламя, которое гаснет, как звук, который исчезает в воздухе, как благоухание, которое парит к небу.
Исполняя его желание, я остриг ему волосы и снял с руки кольцо.
Я просидел подле него всю ночь. Утром привезли с острова Самоса двух женщин: они обмыли труп его и натерли благовониями, надели ему на голову цветочный венок, а на грудь положили белую лилию. Потом я пошел с двумя пиратами на вершину холма вырыть могилу на том месте, которое сам он назначил, воткнув в землю ветку олеандра.
Весь день пираты перевозили на свою фелуку товары, бывшие на «Прекрасной Левантинке». Вечером старый священник опять приехал, стал подле постели на колени и начал молиться. Тогда пленных подвели к палатке: они увидели мертвого Апостоли и все заплакали, потому что все любили его, как брата.
По окончании отпевания тело положили в гроб, и четыре пирата подняли его на плечи. Священник пошел вперед; за ним шли два мальчика со свечами; потом несли гроб; позади шли самосские женщины, неся на головах блюда с кутьею, посредине которой была белая миндальная фигурка в виде горлицы; края блюд были убраны виноградом, фигами и гранатами. У могилы блюдо поставили на труп, пока священник читал литию; потом гроб закрыли и начали заколачивать, а кутью подали всем нам, чтобы помянуть покойника. Потом я с растерзанным сердцем услышал, как стукнула о гроб первая горсть земли, брошенная в могилу; за нею последовали другие, отдаваясь глуше и глуше; наконец, когда могилу зарыли, Константин протянул руку и сказал с каким-то диким величием, обращаясь к пленным:
— Усопший брат наш просил меня возвратить вам свободу. Возьмите корабль свой; море для вас открыто, ветер поднимается: ступайте!.. Вы свободны.
Это было прекрасное надгробное слово доброму Апостоли.
Все начали готовиться к отплытию. Пассажиры, радуясь, что отделались одним товаром и шкипером, получив обратно свое судно, не могли надивиться такому неслыханному великодушию в пирате. Признаюсь, я сам стал смотреть на этого человека совсем другими глазами. Фортунат не мог быть на похоронах, и потому велел посадить себя у дверей палатки, чтобы по крайней мере видеть их издали. Я подошел и со слезами на глазах подал ему руку.
— Да, да, — сказал он, — Апостоли был достойный сын Греции; зато вы видите, что мы в точности исполнили первое обещание, которое он взял с нас; а когда придет пора исполнить и второе, будьте уверены, что мы так же свято сдержим свое слово.
Таким образом, во всех этих сердцах тлелось общее пламя, надежда, что Греция со временем будет освобождена.
Качка была уже не опасна для Фортуната, потому что рана его начинала заживать. В тот же вечер его перевезли на фелуку; я последовал за ним, чтобы в точности исполнить обещание того, которого мы покидали одного на этом острове. При последних лучах заходящего солнца оба судна вышли из порта и, повернув в противоположные стороны, удалились от Никарии.
Ветер был свежий, притом мы шли также и на веслах, и потому остров Никария скоро скрылся у нас из виду.
XXIV
Проснувшись на другой день, мы увидели, что идем по Эгейскому морю к группе Цикладских островов. Под вечер мы вышли в пролив, отделяющий Тено от Микони, и вскоре бросили якорь в порте островка мили в три длиною и около мили шириною. Константин сказал мне, что мы простоим тут только ночь, и предложил ехать с некоторыми из его людей на берег, посмотреть, как ловят перепелок сетями, а после прийти к нему ужинать. Узнал, что этот остров, который называется Ортигией, есть древний Делос, я отправился и в час обошел его весь: он необитаем и представляет одни развалины.
Когда я воротился, Константин и Фортунат ждали меня ужинать. Мы еще в первый раз сидели за одним столом. Они придали этому ужину некоторую торжественность. Впрочем, с тех пор, как я принялся лечить Фортуната, обходились со мною очень хорошо. Вообще в этих двух человеках заметна была образованность и деликатность, совершенно противоречащая их ремеслу, и я не раз удивлялся. В тот вечер они были еще ласковее со мною, чем обыкновенно. После ужина, когда слуги два раза обнесли в серебряном кубке самосское вино, подали зажженные трубки и ушли, я стал говорить об этом. Они переглянулись, улыбаясь.
— Мы ждали этого вопроса, — сказал Константин, — ты судишь о нас точно так, как судил бы всякий другой на твоем месте; так обижаться нам нечем.
И он рассказал мне свою историю, старую, но всегда занимательную, историю людей с гордым, буйным характером, которые, сделавшись жертвою несправедливости, платят людям злом за зло. Константин был майниот; предки его принадлежали к числу тайгетских волков, которых турки не могли ни сделать ручными, ни выгнать из гор и, наконец, оставили в покое. Дмитрий, отец Константина, влюбился в одну молодую гречанку, которой родители переехали в Константинополь. Он последовал за ними, женился и поселился в Пере. Он жил там со своими детьми в богатстве и благополучии, как вдруг в соседнем доме одного турка вспыхнул пожар. Через неделю после того распространились обыкновенные в этих случаях слухи, стали говорить, будто дом подожгли греки, и турецкая чернь, радуясь предлогу, нахлынула ночью в этот квартал и разграбила дома греков. Фортунат и Константин защищались несколько времени, но, видя, что Дмитрий пал, они с некоторыми родственниками захватили сколько могли золота, покинули свой дом и товары и ушли заднею дверью. Им удалось добраться до Мраморного моря, потом до Архипелага, и они сделались пиратами. С тех пор они разъезжали по морю, так же грабили и жгли корабли, как их дома и товары были сожжены и разграблены, и в отмщение за смерть Дмитрия умерщвляли всех турок, которые попадались им под руку.
— Любопытство твое нам очень понятно, — сказал Фортунат, когда отец его окончил рассказ свой, — но и ты, конечно, понимаешь наше беспокойство. Ранив меня, ты сам, как Ахилл, вылечил мою рану. Ты нам теперь брат; а мы для тебя все еще пираты, разбойники. Нам нечего бояться своих земляков-греков: в душе они все желают нам добра; нечего бояться и турок: их корабли никогда не нагонят наших фелук, как филины — ласточек, а в нашей крепости они нас атаковать не посмеют. Но ты, Джон, принадлежишь к народу могущественному; у ваших кораблей такие же быстрые крылья, как у наших самых легких судов. Обида, сделанная одному англичанину, считается у вас оскорблением для всего вашего народа, и король ваш никогда не оставит ее без наказания. Ты не будешь иметь причины жаловаться на нас; поклянись же нам, Джон, что ты никогда не откроешь нашего убежища, в которое мы введем тебя. Мы не требуем твоей дружбы: ты не захочешь быть другом пиратов, но мы просим тебя не выдавать нас; этим ты обязан всякому, кто введет тебя в свой дом, в свое семейство. Если ты не дашь нам этого обещания, мы останемся здесь, пока я не оправлюсь, а потом мы исполним свое обещание, отпустим тебя. Мы дадим тебе золота и драгоценных каменьев, сколько ты потребуешь; у нас их здесь столько, — прибавил Фортунат, толкнув ногою сундук, — что было чем заплатить самому Эскулапу. Потом ты можешь ехать, куда тебе угодно, можешь жаловаться своим консулам, и, может быть, мы когда-нибудь снова сойдемся с оружием в руках. Или, если хочешь (он снял с шеи четки и положил их на стол), поклянись мне на этих четках, которые дал моему деду константинопольский патриарх, что ты не станешь жаловаться, не донесешь на нас, то мы сегодня же снимемся с якоря; завтра ты наш друг, наш гость, наш брат; наш дом будет твоим домом, и мы ничего не станем скрывать от тебя.
— Разве ты не знаешь, — отвечал я, — что я теперь такой же изгнанник, как ты, и, вместо того, чтобы искать покровительства своей нации, должен скрываться, чтобы избегнуть мести законов?.. Ты говоришь мне о награде?.. Посмотри, — сказал я, раскрывая пояс, наполненный золотом и векселями, которого я никогда не скидал, — ты видишь, что мне награда не нужна. Я происхожу из богатой и знатной фамилии: здесь столько денег, сколько дохода у богатейшего из ваших примасов, а мне стоит только написать к отцу, и он пришлет вдвое против этого. Но мне надобно исполнить один священный долг, ехать самому объявить матери и сестре Апостоли об его смерти, отдать одной его волосы, а другой кольцо. Обещай мне, что вы отпустите меня, когда я захочу исполнить этот священный долг: тогда я дам клятву, которой ты требуешь.
Фортунат посмотрел на отца своего, и тот кивнул ему головою в знак согласия. Тогда он взял четки, прочел про себя молитву, поцеловал их, встал и, протянув над четками руку, сказал:
— Клянусь за себя и за отца моего и призываю Пресвятую Богородицу в свидетельницы моей клятвы, что, как скоро ты захочешь уехать от нас, мы тебя отпустим и доставим тебе средства отправиться в Смирну или куда тебе угодно.
Потом я встал.
— А я клянусь тебе могилою Апостоли, брата, который нас сделал братьями, что я не скажу ни слова, которое бы могло повредить вам, не открою вашей тайны до тех пор, пока вам нечего уже будет бояться или пока вы сами не снимете с меня этого обещания.
— Хорошо, — сказал Фортунат, протянув ко мне руку. — Ты слышал, батюшка, так вели же готовиться в путь; тебе, верно, как и мне, хочется поскорее обнять тех, которые ждут нас, успокоить тех, которые не знают, что сталось с нами, и за нас молятся.
Константин отдал приказ на греческом языке, и через несколько минут по движению фелуки я заметил, что мы уже идем.
На другой день утром, когда я проснулся и вышел на палубу, мы шли на парусах и на веслах к большому острову, который протягивал к нам, как руки, два свои длинные мыса, образующие порт. За портом виднелась гора, которая показалась мне ярдов в шестьсот вышиною. Матросы работали с необычайным усердием и весело распевали, а между тем народ, завидев судно, начал собираться в порте и отвечал криками на песни наших гребцов. Ясно было видно, что наше возвращение — праздник для всего острова.
Фортунат был еще очень слаб и бледен, однако же вышел на палубу, и оба они с отцом явились в самых богатых своих платьях. Наконец мы вошли в порт и бросили якорь перед прекрасным домом, построенным на склоне горы, посреди тутовой рощи. В эту минуту женская рука просунулась сквозь решетку одного окна и начала махать платком, вышитым золотом. Фортунат и Константин отвечали на это приветствие выстрелами из своих пистолетов: то был знак благополучного возвращения. Радостные крики усилились, и мы вышли на берег посреди всеобщих восклицаний.
XXV
Дом Константина, как мы уже говорили, стоял одиноко посреди рощи маслин, терновых и лимонных деревьев, на северо-западном склоне горы Святого Илии. С площади, на которой он был выстроен, видны не только порт и деревня, расположенная полукружием, но и море, от Эгины до Негропонта. Перед северным фасадом, в восьмидесяти верстах, цепь парнасская, за которою прячутся Афины, оканчивается у мыса Сунион. К дверям дома вела тропинка, которую очень легко было защищать и которая круто шла за домом до самой вершины гор. Там, как орлиное гнездо, возвышалась крепостца, совершенно неприступная, в которой можно было, в случае опасности, укрываться; в обыкновенное время там были только часовые, которые с этого возвышенного места могли видеть верст на шестьдесят в море малейшую лодку, приближающуюся к берегу. В доме Константина, как во всех домах, принадлежащих людям зажиточным, был передний двор, окруженный высокими стенами, нижний этаж, а над ним балкон, который шел во всю длину второго этажа: потом другой, внутренний двор, куда можно пройти только по лестнице, ключ от которой всегда был у хозяина: там стоял павильон, окна которого были на турецкий манер заделаны решетками из камыша. Камыш, оставаясь долго на воздухе, принял розовый цвет, который прекрасно согласовался с блестящим белым цветом каменных стен. Наконец, за этим таинственными павильоном был большой сад, окруженный высокими стенами так, что снаружи никто не мог видеть гуляющих в саду.
Нижний этаж составлял собственно один огромный портик; там помещались люди Константина, которые одевались, как майнотские клефты. Они жили тут совершенно как в лагере: днем играли, ночью спали. Стены и столбы, поддерживающие свод, были увешаны ятаганами с серебряною насечкою, пистолетами с богатыми прикладами и длинными ружьями с перламутром и кораллами. Воинственная передняя придавала могуществу Константина дикое величие, напоминавшее феодальную пышность баронов пятнадцатого столетия. Эти люди встретили своего начальника не как лакеи господина, а как солдаты командира, в покорности их заметно было нечто добровольное и независимое: это было не рабство, а преданность.
Константин каждому из них сказал по нескольку слов, всех их называл по именам и, сколько я мог понять, спрашивал об их женах, детях, родственниках. Поговорив таким образом с каждым особо, он сказал им, что я избавил Фортуната от смерти. Один из них тотчас подошел ко мне и почтительно поцеловал мою руку. Фортунат еще с трудом ходил: четыре человека схватили его на руки и понесли во второй этаж по наружной лестнице, которая вела на балкон.
Этот второй этаж составлял совершенную противоположность с первым. Он состоял из трех комнат, окруженных диванами, светлых, свежих и покойных. Одно только в убранстве этих комнат напоминало нижний этаж, — великолепные оружия, трубки с янтарными мундштуками и коралловые четки, висевшие по стенам. Как скоро мы сошли в большую среднюю комнату, два мальчика в бархатных куртках и сапожках, вышитых золотом, подали нам трубки и кофе. Мы выпили по несколько чашек кофе и выкурили по несколько трубок; потом Константин повел меня в комнату, составлявшую восточный угол дома, и указал мне лестницу, которая вела прямо в нижний этаж так, что я мог выходить во двор, никого не беспокоя.
Наконец он ушел в свои комнаты и запер за собою дверь.
Я остался один и тут только мог свободно пораздумать о своем странном положении. В несколько месяцев со мною было столько приключений, что по временам все это казалось мне сном. Я воспитывался под надзором моих добрых родителей, потом вступил в школу и оттуда прямо на корабль; следственно, провел большую часть молодости своей в некоторого рода рабстве, а теперь вдруг сделался совершенно свободным до того, что не знал даже, что делать со своей свободою, и остановился в первом месте, куда судьба занесла меня, как птица, которая, поднявшись на воздух, тотчас садится, не чувствуя в себе довольно силы, чтобы лететь далеко. И где же я теперь? В разбойничьем вертепе, довольно похожем на пещеру атамана в Жиль-Блазе. Но куда же мне отсюда ехать? Сам не знаю: все двери для меня отперты, но одна заперта — дверь в отечество.
Не знаю, сколько времени провел я в этих размышлениях и особенно сколько времени еще бы промечтал, если бы луч солнца не пробрался сквозь решетку и не засветил мне прямо в глаза. Я встал, чтобы избавиться от этого докучного посетителя, подошел к окну и забыл, зачем пришел. По двору шли две женщины из дома к павильону, из окна которого нам махали платком, когда мы причаливались; этих женщин невозможно было различить под длинными и широкими покрывалами, но по легкой и твердой походке незнакомок нельзя было не угадать, что они молоды. Кто же эти женщины, о которых ни Константин, ни Фортунат никогда мне не говорили? Незнакомки вошли в павильон, и дверь за ними затворилась. Я стоял у окна и, вместо того, чтобы закрыть отверстие, сквозь которое пробирались лучи солнца, пытался расширить его, чтобы видеть, а может быть, чтоб меня увидели; но тут мне пришло в голову, что если Константин хоть немножко придерживается восточных обычаев да узнает об этом, то он, пожалуй, переведет меня в другую часть дома. Рассудив таким образом, я решил смирно стоять за решеткой, все думая, не увижу ли хоть которой-нибудь из моих соседок. Через несколько минут две горлицы сели на окно павильона; решетка приподнялась, оттуда высунулась беленькая, розовая ручка и загнала обоих венериных птиц в комнату.
О, Ева, общая наша прародительница, как могущественно любопытство, которое ты оставила в наследство потомству, когда оно через столько тысяч лет в минуту заставило одного из детей твоих забыть и родных, и отечество! Все это скрылось и пропало при появлении женской ручки, как в театре по свистку машиниста исчезают и мрачный лес, и страшная пещера, и вместо них является волшебный замок. Эта ручка сдернула покров, который скрывал от меня настоящий горизонт; Кеа была уже для меня не жалкая скала, заброшенная посреди моря; Константин не пират в борьбе с законами всех народов, и я сам не бедный мичман без будущности и без отечества. Кеа сделалась Кеосом, где Нептун построил храм; Константин превратился в Идоменея, основателя нового Салента, а я стал изгнанником, который, подобно сыну Анхизову, ищет какой-нибудь страстной Дидоны или целомудренной Лавинии.
Я вполне наслаждался этими золотыми мечтами, как вдруг дверь отворилась, и мне пришли сказать, что Константин ждет меня обедать. Я очень рад был, что ему не вздумалось самому прийти, потому что он застал бы меня перед окном, где я стоял неподвижно, как статуя, и Константин, верно, догадался бы, что я тут поджидаю. К счастью, пришел один из мальчиков его, и как он говорил только по-гречески, то принужден был объяснить мне причину своего посольства жестами, но я легко его понял и тотчас пошел за ним, в сладостной надежде, что увижу за столом и ту, которой принадлежит хорошенькая ручка, загонявшая горлиц.
Я ошибся. Константин и Фортунат одни ждали меня за столом, убранным по-европейски, хотя обед был совершенно азиатский. Когда мы сели, на столе стояло блюдо, на котором горка рису образовала уединенный островок посреди моря кислого молока; по сторонам красовались две тарелки яичницы и два блюда вареных в воде овощей. Затем поставили на стол вареную курицу с каким-то тестом, похожим на наш пломпудинг, жареную телятину, потроха семги и каракатицу с чесноком и корицею, любимое здешнее блюдо, которое сначала показалось мне отвратительным, но к которому, однако же, я скоро привык. Потом принесли десерт, состоявший из апельсинов, фиг, фисташек и гранатов, прекраснейших и самых вкусных, какие только я едал. Наконец, нам подали кофе и трубки.
За обедом мы разговаривали о разных вещах, и ни Константин, ни Фортунат ни разу даже не намекнули на то, что меня так занимало. Когда мы выкурили по три или по четыре трубки, Константин спросил, не хочу ли я поохотничать за зайцами и перепелками, которых на острове очень много, или осмотреть развалины. Я избрал последнее, и он велел оседлать мне лошадь, приготовив конвой и проводника.
Приказание оседлать лошадь показалось мне довольно странным на острове, каких-нибудь в двадцати миль в окружности. Я удивлялся, что люди, по-видимому, столь здоровые и привычные к трудам, как Константин и Фортунат, не могут обходить своих владений. Несмотря на это, я принял предложение Константина и сошел с ним на первый двор: Фортунат был еще слишком слаб и с трудом мог выходить из комнаты. Через несколько минут привели лошадь. Это был один из тех красивых элидских коней, которых порода, прославленная Гомером, водится и поныне. Но конюх ошибся: не зная, кто поедет на этой лошади, он надел на нее седло женское, алое, бархатное, вышитое золотом. Тут я все понял: лошадей держали для моих таинственных соседок. Константин сказал конюху несколько слов по-гречески и тот мигом надел на лошадь седло паликарское.
Тогда было уже два часа пополудни: объехать всего острова я не успел бы, и потому мне оставалось только обозреть развалины четырех могущественных городов, которые некогда здесь возвышались, Картеи, Песса, Кореза и Були; я отдал преимущество Картеи, родине поэта Симонида.
Кеа славится во всей Греции своим шелком; притом остров весьма хорошо разделан и полуденные его склоны покрыты виноградниками и плодовыми Деревьями. Впрочем, кеоты наследовали от своих предков отвращение к движению, отвращение, которое некогда до того размножило народонаселение, что в Древности существовал закон, по которому все люди, старее шестидесяти лет, были умерщвляемы.
Вечер был прелестный, и последние лучи солнца придавали атмосфере такую прозрачность, что я мог рассмотреть малейшье подробности скалы Гиарос и острова Андроса; а передо мной возвышалась гора Святого Илии, которая своею зеленью и скалами резко отделялась на первом плане от великолепной дали, образованной с одной стороны Негропонтом и его фиолетовыми горами, с другой Салоникским заливом. Наконец, я обогнул подошву горы и поспел вовремя, чтобы видеть, как солнце садится за хребтом Парнасса.
Константин и Фортунат ждали меня ужинать. Движение возбудило во мне страшный аппетит, а между тем ужин был так умерен, что я стал жалеть даже о потрохах семги и каракатице с чесноком, на которых за обедом и не глядел; мягкие каштаны Виргилиева пастуха составляли самое сытное блюдо, потому что кроме этого были только кислое молоко и плоды. К счастью, оба мои товарища, воздержные как все жители Востока, ели очень мало, и потому я, по крайней мере, мог вознаградить себя за качество количеством. После этого мы выпили по чашке кофе, выкурили по несколько трубок; наконец, Константин встал, и я ушел в свою комнату.
Я давно этого ждал; мне страх хотелось посмотреть, нет ли какой перемены в положении решетки у моих соседок, а луна светила так ярко, что видно было как днем, но я напрасно глядел и ждал: решетки были опущены и не поднимались. Тут мне вздумалось обойти кругом стен, чтобы посмотреть, нет ли где другого входа, и я сошел на первый двор. Сначала я боялся, не такая ли же у нас дисциплина, как в военных городах, и не запирают ли в восемь часов дверей; но нет: везде было отперто, и я спокойно мог исполнить свое намерение.
Однако же, как я ни торопился, я не мог не остановиться, чтобы полюбоваться на прекраснейшую картину, которая представилась глазам моим и которой луна своим светом придавала еще более дивный характер. Прямо под моими ногами были город и порт; далее море, столь спокойное, что его можно было принять за огромное синее покрывало, натянутое так, чтобы на нем не было ни складочки; все звездочки небесные отражались и сверкали в нем трепетным огоньком, а за морем, на мрачном склоне берегов Аттики, которые казались облаком, вилось и расстилалось огромное пламя: видно, горел лес.
Несколько минут стоял я неподвижно, любуясь на эту картину, которой луна придавала необыкновенную таинственность; потом начал свою прогулку вокруг жилища Константина, долго искал двери, какого-нибудь отверстия, бойницы, сквозь которые бы глаз или голос могли учредить сообщение между внутренностью и внешностью, но не нашел ничего: все было окружено и совершенно закрыто стенами в пятнадцать футов вышиною. Я побежал на гору, думая, что, может быть, сад оттуда виден, но обманулся и в этой надежде и печально возвратился в свою комнату, горюя о том, что мне не удастся кого-нибудь увидеть, разве только подкараулить в решетку, как я уже и подкараулил хорошенькую ручку.
Я только хотел было броситься на диван и заснуть, в надежде увидеть хотя во сне то, чего не удалось увидеть наяву; вдруг мне послышались звуки, и, кажется, звуки гуслей, но сначала так тихо, что я не мог понять, где это играют. Я отворил дверь на лестницу, потом окна, которые выходят к порту, и те, которые во двор, но звуки нисколько не делались явственнее; наконец, я подошел к дверям, ведущим в комнату Константина, и тут было несколько слышнее. Я остановился и стал прислушиваться: ясно было, что поют не в комнате Константина, подле моей, потому что звуки слишком слабы, но в следующей, то есть в комнате Фортуната. Но кто же это поет? Фортунат или одна из женщин, которых я видел? Этого я не мог угадать, потому что до меня долетали одни звуки гуслей. Я пытался было отворить дверь, но она была заперта из комнаты Константина.
Я, однако же, продолжал прислушиваться, удерживая дыхание, и вскоре мое терпение или, лучше сказать, мое любопытство, было награждено: дверь из комнаты Фортуната в комнату Константина на минуту отворилась; звуки сделались громче, и я услышал голос такой нежный, что это не мог быть голос мужчины. Даже слова были так явственны, что я бы понял их, если бы знал по-гречески. Я узнал, однако же, одну из народных легенд, в которых новейшие греки утешаются воспоминаниями. Наши гребцы не раз певали эту балладу, и я узнал ее, как узнаем в Ватикане или палаццо Питти головку Рафаэля или Гвидо-Рени, потому что видели прежде гадкую гравюру с нее, на стенах какого-нибудь трактира.
Впрочем, я слушал недолго; дверь, сквозь которую долетала до меня жалобная и дикая гармония далматского инструмента, затворилась, и я различал уже только одни глухие звуки, которые сначала возбудили мое внимание, да и те скоро замолкли. Из этого я заключил, что певица, которая, верно, пришла к Фортунату в то время, как я ходил вокруг стен, скоро воротится в свой павильон. Я подошел к окну, и точно, вскоре потом две женщины, закутанные в белые покрывала, прошли по двору и скрылись в павильоне.
XXVI
На другой день досадная дверь была отперта и, когда позвали завтракать, я прошел через комнаты Константина и Фортуната. Прежде всего поразили меня гусли, звуки которых я накануне слышал; они висели на стене между ятаганами и пистолетами. Я спросил Фортуната с самым равнодушным видом, разве он играет на гуслях; он отвечал, что этот инструмент для греков то же, что гитара для испанца, что всякий более или менее играет на них, по крайней мере, умеет аккомпанировать себе. Я хорошо знаю музыку, а на гуслях играют почти так же, как на виоле или мандолине; я снял инструмент со стены и сделал несколько аккордов. Страстные к музыке, как все народы первоначальные или перешедшие от образованности к варварству, Фортунат и Константин слушали меня с восторгом; я сам находил странное, неизъяснимое удовольствие в игре на инструменте, который накануне утешал меня такими сладостными звуками; мне казалось, что в нем еще осталась частичка вчерашней мелодии и что ее-то я и пробуждаю. Рука моя дотрагивалась до тех же самых струн, которые говорили под другою рукою, и после нескольких попыток я вспомнил песню, которую вчера слышал так, что мог бы спеть ее, разумеется, без слов, с начала до конца. Но это значило бы донести самому на себя; нечего было делать, я затаил эту песню в душе и вместо того запел Pria che spunti Чимарозы.
Константин и Фортунат были в восторге потому ли, что пение мое отличалось мелодиею, не известною этим неученым любителям музыки, или что восторженное состояние ума моего придало особенную выразительность голосу; и я заметил, что восхищались мной не одни мои видимые слушатели, потому что решетка павильона шевелилась. После завтрака я просил позволения унести гусли в свою комнату, и Константин охотно на это согласился. Разумеется, я не стал тотчас играть на них; это значило бы возбудить подозрение моих хозяев, и они, под каким-нибудь предлогом или даже совсем без предлога, перевели бы меня в другую часть дома. Таким образом, я лишился бы единственной возможности удовлетворить желание, которое могло почесться еще только любопытством, но уже занимало меня, как чувство более нежное. Я решился снова погулять по острову, и как в этом отношении Константин предоставил мне совершенную свободу, то я сошел вниз и велел оседлать себе лошадь.
В этот раз мне привели другую лошадь, легче и красивее прежней. Я тотчас, не знаю почему, догадался, что это лошадь хорошенькой ручки. Не зная имени девушки, которая загоняла горлиц, я называл ее хорошенькою ручкою, потому что думал только о ней и даже не вспоминал о другой женщине, которую вместе с нею видел. Сначала я было стал обходиться с хорошенькой лошадкой очень снисходительно из уважения к хорошенькой хозяйке. Но лошадь, видно, приняла мою вежливость за неопытность, и я принужден был убедить ее хлыстиком и шпорами, что она грубо ошибается. Впрочем, когда я раза два-три объехал вокруг двора, она образумилась и доказала мне это своею совершенною послушностью, которая могла проистекать только из полного убеждения в моем искусстве.
В этот раз я не взял ни конвоя, ни проводника. Выехав из ворот, я предоставил Претли (так назвал я эту лошадку) идти куда ей угодно, в надежде, что она привезет меня куда-нибудь, где часто бывает ее госпожа. Претли тотчас пошла в гору по тропинке, которая вывела нас в долину, где с шумом катился поток, осененный гранатовыми деревьями и олеандрами. Бока долины были покрыты тутовыми и померанцевыми деревьями и диким виноградом, а по сторонам дороги росло прелестное полудеревце, которое древние ботаники называют альхаги; я думал прежде, что его нигде нет, кроме как в Персии. Что касается до скал, которые местами выставляли свои голые вершины из этой массы зелени, то они принадлежали к самым красивым геологическим породам: тут были блестящий слюдянистый сланец, белый и розовый полевой шпат, зеленый амфиболит и прекрасные образчики эвфотида. Все это пересекалось жилками железной руды, вероятно, такой же, какую древние добывали на Спросе и в Гиаре. Эта дорога вела в грот, вырытый природою и испещренный мхами и травами. Дойдя до грота, Претли остановилась, из чего я и заключил, что хозяйка ее часто тут бывает. Я соскочил с лошади и хотел привязать ее к дереву; но она начала рваться, и я догадался, что избалованная Претли привыкла в таких случаях пастись на свободе. Я разнуздал ее и вошел в грот. Там лежала забытая книга «I Sepolcri» Уго-Фосколо.
Я не могу выразить, как обрадовала меня такая находка. Эта книга, которая только что вышла в Венеции, без сомнения, принадлежала моей соседке; значит, она знает по-итальянски, и, следовательно, когда мы увидимся с нею, если только мы когда-нибудь увидимся, у нас будет общий язык, на котором мы можем разговаривать. Впрочем, «I Sepolcri» была и для грека книгою национальною, потому что автор родился в Корфу, и сетования его о памятниках могли относиться к унижению Греции точно так же, как и к падению Италии.
Я пробыл с час в этом гроте, то прочитывая несколько стихов вдохновенного поэта, то любуясь на море, которое, подобно синему озеру, было испещрено белыми парусами, то посматривая на пастуха, который, опершись на суковатую палку, рисовался, как идиллический пастушок, и наблюдал за своим стадом, бродившим по противоположному склону горы. Но что бы ни привлекло мои взоры, на чем бы ни останавливалась моя мысль, а сердце мое все влеклось к хорошенькой ручке, которая выставлялась из-под решетки и загоняла горлиц.
Наконец я спрятал книгу за пазуху и свистнул, чтобы позвать Претли, как делал конюх. Как будто из благодарности за доверенность, которую я оказал ей, она тотчас подбежала и протянула голову, чтобы я взнуздал ее. Часа через два она уже была в своем стойле, а я у окна, где провел целый день, за исключением только времени обеда, который показался мне ужасно длинным; но жестокая соседка ни малейшим знаком не обличала своего существования.
Вечером я услышал в комнате Фортуната те же звуки, как накануне. За несколько минут перед тем я с досады отошел от окна и сел читать; и, видно, соседки мои в это время перешли через двор. Я снова возвратился на свое место с намерением непременно дождаться их. И точно, они в то же самое время, как вчера, прошли в павильон, по-прежнему закутанные и таинственные; только мне показалось, что одна из них, поменьше ростом, два раза оглянулась в мою сторону.
На другой день я отправился в деревню, которую видел только однажды, когда мы прибыли на остров. Я вошел в лавку и, чтобы придать купцу словоохотливости, купил у него небольшой кусок шелковой материи. Он говорил по-франкски, то есть на испорченном итальянском наречии, и потому мы друг друга кое-как понимали. Я спросил его, кто живет у Константина в павильоне. Он сказал — его дочери. Я спросил, как их зовут: старшую Стефаной, а младшую Фатиницей; старшая повыше, младшая поменьше. Следственно, это Фатиница два раза на меня оглядывалась. Это меня обрадовало; в имени Фатиницы было что-то странное и милое, и мне весело было повторять его.
Купец прибавил, что одна из дочерей выходит замуж; я с беспокойством спросил, которая; но он больше ничего не мог сказать мне; знал только, что жених — сын богатого купца, торгующего шелковыми товарами, и что его зовут Христо Панайоти. Он не знал, на которой из сестер Панайоти женится, да и сам жених, вероятно, тоже. Я просил его объяснить мне это незнание, довольно странное в женихе, до которого дело близко касается, и купец рассказал мне, что греки, так же как турки, почти никогда не видят невест своих до самой свадьбы Они обыкновенно полагаются в выборе невесты на старух, которые видели ее в доме родителей или в бане и ручаются за ее красоту и доброе поведение. Христо Панайоти поступил точно так же и, зная, что у Константина две хорошенькие дочери, просил руки одной из них, предоставив отцу выдать любую: это ему было все равно, потому что он ни той, ни другой не видел.
Это меня нисколько не успокоило. Ведь могло случиться, что Константин вздумает выдать замуж младшую дочь прежде старшей, потому что права первородства на Востоке совсем не уважаются; а я чувствовал, — хотя это и странно, — что был бы в отчаянии, если бы Фатиница вышла замуж. Это, конечно, может показаться сумасбродством, потому что я тоже никогда не видывал ее в лицо, а она даже, может быть, не знала, что я существую на свете. Однако же это сущая правда: я чувствовал ревность, как будто точно был влюблен.
Больше мне не о чем было спрашивать; я расплатился и вышел. Хорошенькая девочка лет двенадцати или четырнадцати, которая долго любовалась на сокровища, разложенные в магазине, пошла за мною; с алчным желанием, с простодушным удивлением она посматривала на шелковую материю, которую я нес в руках, и твердила на франкском наречии: Bella, bella, bellissima. Мне вздумалось осчастливить бедняжку. Я не знал, что мне делать со своей покупкой, и спросил девочку, не хочет ли она взять ее. Она улыбнулась и с сомнительным видом покачала головою. Я положил материю к ней на руки и пошел к дому Константина. Отойдя уже довольно далеко, я остановился и увидел, что девочка все еще стоит на том же месте вне себя от удивления, не веря глазам своим.
В этот вечер я уже не слыхал гуслей. Фортунат до того поправился, что мог сойти вниз; и потому уже не Стефана и Фатиница пришли к брату, а Константин и Фортунат пошли к ним. Я видел, как они прошли через двор, и догадался, что с тех пор буду лишен и последнего счастья, не увижу даже и покрывала моих хорошеньких соседок. Ясно было, что они выходили, против обыкновения греческих женщин, из своего гинекея только потому, что Фортунат не мог быть у них; но как теперь он выздоровел, то им и не было никакой причины нарушать таким образом принятые обычаи, особенно когда у них в доме живет чужой.
На другой день не было ничего нового. Я с утра до ночи стоял у окна и не видел никого, кроме голубей, которые летали по двору. Я посыпал крошек на окно. Заметив мое доброе намерение, горлицы сели на под оконницу; но когда я хотел взять их, они спорхнули и уже назад не прилетели, как я их ни заманивал.
В следующие дни тоже не было никаких происшествий. Константин и Фортунат обходились со мною, один как с сыном, другой как с братом, но никогда не говорили о прочих членах своего семейства. Два или три раза был у них молодой человек, очень видный собою и в богатом, чрезвычайно живописном костюме. Я спросил, кто это, и мне сказали, что это Христо Панайоти.
Я истощил возможные средства, чтобы увидеть хоть кончик покрывала Фатиницы, но ни одно из них не удалось; ходил в деревню, чтобы опять поговорить с купцом, но он не знал ничего нового. Встретил я свою маленькую приятельницу; она гордо прохаживалась по улицам Кеа в платье, которое я подарил ей; я разменял гинею на венецианские цехины и дал ей два, чтобы довершить ее наряд. Она тотчас проткнула их и прицепила на висках и косах, которые висели по плечам ее. Потом я, по обыкновению, возвратился к своему окну, а окна Фатиницы все по-прежнему были завешены несносными решетками.
Я уже приходил в отчаяние, как однажды вечером Константин вошел в мою комнату и без дальних приготовлений сказал мне, что одна из дочерей его больна и что он на другой день поведет меня к ней. К счастью, в комнате было довольно темно, и он не мог заметить волнения, которое произвела во мне эта неожиданная весть. Сделав усилие, чтобы голос мой не дрожал, я отвечал, что всегда готов к его услугам, и сказал это тоном, в котором он, конечно, не разобрал ничего, кроме обыкновенного участия. Я спросил, не опасно ли больна дочь его, но он отвечал, что она только чувствует себя немножко нездоровою.
Я во всю ночь глаз не смыкал; раз двадцать вставал с дивана и подходил к окну посмотреть, не рассветает ли, и двадцать раз снова укладывался на диван; напрасно стараясь утишить свое волнение и заснуть. Наконец первые лучи солнца пробрались сквозь, решетку; давно желанный день наступил.
Я начал одеваться. Гардероб мой был не богат: только две пары платья, которые я купил в Стамбуле. Я достал народное: ливанский костюм из лилового сукна с серебряными вышивками. Я не знал, что, мне надеть на голову, тюрбан из белой кисеи, который обхватывает все лицо, проходя под подбородком, или красную шапочку с длинною шелковою кистью, но как у меня были довольно красивые светло-русые волосы, которые сами собою вились, то я решился надеть шапочку. Надобно, однако же, признаться, что я принял это важное решение после довольно продолжительного размышления, которое сделало бы честь любой кокетке. В восемь часов пришел за мною Константин. Я прождал его ровно три часа.
Я пошел за ним; лицо мое было спокойно, а сердце хотело выпрыгнуть из груди. Мы спустились с лестницы, от которой ключ был у хозяина, и я очутился на дворе, куда так часто с жадностью погружался взорами. Когда мы вошли в павильон, я чувствовал, что колени мои подгибались. В эту минуту Константин оглянулся на меня; боясь, чтобы он не заметил моего волнения, я собрался с силами и пошел за ним по лестнице, покрытой турецким ковром, в который ноги уходили как будто в мох. Уже на лестнице воздух был наполнен теплым благоуханием розы и бензоя.
Мы вошли в первую комнату, и Константин оставил меня тут на минуту одного. Она была убрана совершенно по-турецки: потолок резной, расписанный самыми яркими красками в византийском вкусе. Па белым стенам вились прихотливые арабески из цветов, рыб, киосков, птиц, бабочек, плодов; все это было с большим вкусом переплетено и перемешано. Вокруг всей комнаты шел диван, покрытый лиловою шелковою материей с серебряными цветочками; в углах диванов лежали одна на другой подушки из той же материи. Посередине комнаты был круглый бассейн, и сквозь прозрачный покров свежей воды виднелись индийские и китайские рыбки с голубою и золотистою чешуей; по краям сидели голуби, сизые с розовым отливом, такие хорошенькие, что даже у Венеры на острове Пафосе или Цитере лучше этих, верно, не бывало. В углу, на треножнике древней формы, горели алоэ и жасминная эссенция; нежный пар их вылетал в открытое окно, и в комнате оставалось только легкое благоухание. Я подошел к окну; оно было прямо против моего, следственно, из-под этой самой решетки выставлялась обворожительная ручка, которая меня с ума свела.
В это время Константин возвратился, извиняясь, что так долго заставил меня прождать, и сваливая вину на женские капризы. Фатиница, которая прохворала три дня, решилась накануне прибегнуть ко мне, а теперь ни за что на свете не хотела принять меня; но, наконец, кое-как согласилась. Я поспешил воспользоваться позволением и, боясь, чтобы она опять не передумала, просил Константина вести меня: он пошел вперед, я за ним.
Не стану описывать второй комнаты; здесь только один предмет приковал к себе все мое внимание: сама больная, в которой я тотчас узнал Фатиницу. Она лежала на шелковых подушках, опустив головку на спинку дивана, как будто не в состоянии была ее поддерживать; я остановился у дверей, а отец подошел к ней и стал говорить по-гречески, так что я между тем мог на свободе рассмотреть ее.
На лице у нее, как всегда у женщин в Турции, была маленькая вуаль, уголком, как бывает у масок, унизанная внизу рубинами; на голове шапочка с цветами, вышитыми по золотому полю; сверху, вместо-обыкновенной шелковой кисти, висела кисть жемчужная. Волосы на висках были завиты по-английски и лежали на щеках, а сзади, заплетенные и покрытые маленькими золотыми монетами в виде чешуи, висели до самых колен. На шее у нее было ожерелье из венецианских секинов, соединенных между собою колечками; пониже ожерелья, которое не доходило до груди, а обвивалось вокруг одной шеи, был шелковый корсаж, который так плотно охватывал плечи и грудь, что нисколько не скрадывал обворожительных форм. Рукава этого корсажа, начиная с локтя, были разрезные и с одной стороны завязаны золотыми шнурками, а с другой застегнуты жемчужными запонками; сквозь отверстия рукавов виднелись круглые и белые руки с множеством браслетов, а потом и восхитительные ручки с ноготками, выкрашенными вишневым цветом; одна из этих миленьких ручек небрежно держала янтарный мундштук паргилэ; богатый кашемировый кушак, сзади повыше, спереди пониже, придерживался застежкою из драгоценных каменьев; а на впадине желудка сквозь тонкую газовую сорочку просвечивало розовое тело. Под кушаком были шальвары из индейской кисеи, широкие, все в складках; они оканчивались у щиколотки, а из-под них выставлялись обнаженные ножки, у которых ногти были выкрашены так же, как на руках; но когда я вошел, эти беленькие ножки скрылись, как испуганные маленькие лебеди прячутся под крылья матери.
Я в минуту рассмотрел все это и догадался, что она с намерением оделась так, чтобы открыть все, что не принуждена была прятать. Тут Константин знаками подозвал меня к себе. Видя, что я приближаюсь, Фатиница, как лань, вздохнула и сжалась; глаза ее, единственная часть лица, которую я мог видеть сквозь покрывало, приняли выражение беспокойного любопытства, которому выкрашенные черные веки придавали что-то дикое. Я однако же не остановился, но приближался медленно и почти с умоляющим видом.
— Что вы чувствуете? — сказал я по-итальянски. — Где у вас болит?
— Ничего не болит; я здорова, — отвечала она с живостью.
— Дурочка, — сказал Константин, — ты уже целую неделю жалуешься, ты стала совсем не та; все тебе надоедает, горлицы, гусли и даже наряды. Полно капризничать, моя милая; ты говорила, что у тебя голова тяжела.
— О, да, очень тяжела, — отвечала Фатиница, как будто вспомнив о своей болезни и опустив головку на спинку дивана.
— Дайте мне вашу ручку, — сказал я.
— Мою руку? Это зачем?
— Иначе я не могу угадать вашей болезни.
— Не дам, — отвечала Фатиница, спрятав руку.
Я оборотился к Константину, как бы призывая его на помощь.
— Не удивляйтесь, — сказал он, как будто боясь, чтобы я не обиделся затруднениями, которые делала больная, — наши девушки не принимают никогда других мужчин, кроме отца и братьев, со двора они ходят пешком или ездят верхом, но всегда под покрывалом и со множеством провожатых; и они привыкли к тому, что все встречные отворачиваются, пока они не проедут.
— Но я здесь не мужчина, а врач, — сказал я. — Когда вы будете здоровы, я, может быть, ни разу вас не увижу; а вам надобно выздороветь поскорее.
— Это отчего?
— Да ведь вы выходите замуж?
— О, нет, сестра моя, — отвечала Фатиница с живостью.
Я отдохнул, и сердце мое радостно забилось.
— Все равно, — сказал я, — вам надобно выздороветь поскорее, чтобы быть на сестрицыной свадьбе.
— Да я бы и сама рада поскорее выздороветь, — сказала она, вздыхая. — Но на что вам моя рука?
— Чтобы пощупать пульс.
— Нельзя ли сквозь рукав?
— Никак нельзя; сквозь шелковую материю биение пульса будет казаться гораздо слабее.
— Нужды нет, — сказала Фатиница, — потому что он очень сильно бьется.
Я улыбнулся.
— Послушайте, — сказал Константин, — нельзя ли сделать так, чтобы помирить вас?
— Как же это? Я готов на все.
— Нельзя ли вам пощупать пульс сквозь газ?
— Очень можно.
— Ну, так и прекрасно.
Константин подал мне газовое покрывало, которое лежало на диване вместе со многими другими вещами. Я подал его Фатинице; она обернула им свою руку, и, наконец, я кое-как взял ее.
Руки наши, коснувшись, сообщили одна другой странный трепет, так что трудно было бы сказать, у кого из нас больше лихорадка. Пульс Фатиницы бил сильно и неровно; но это могло происходить и не от болезни, а от душевного волнения. Я спросил, что она чувствует.
— Да батюшка говорил вам, у меня голова болит и мучит бессонница.
Эта же самая болезнь была уже несколько дней и у меня; но теперь мне меньше, чем когда-нибудь, хотелось выздороветь. Я оборотился к Константину.
— Ну, что же у нее?
— В Лондоне или в Париже, — отвечал я, улыбаясь, — я бы сказал, что это мигрень, и посоветовал бы больной ездить почаще в театр или отправиться на воды; но здесь этого нельзя, и я только посоветую вашей больной сколько можно рассеяться и выходить почаще на воздух. Что бы вам не прогуляться верхом? — прибавил я, обращаясь к Фатинице. — Вокруг горы святого Илии есть много прелестных долин и, между прочим, одна, в которой течет ручей и есть грот, где очень приятно читать и мечтать. Вы знаете эту долину?
— Да, я прежде всегда там гуляла.
— Отчего же нынче не гуляете?
— С тех пор как я воротился, — сказал Константин, — она совсем не выходит; все сидит взаперти.
— Так завтра я вам советую прогуляться.
Но предписать вместо лекарства прогулку значило бы унизить в их глазах медицину, и потому я велел Фатинице поставить ноги в воду как можно погорячее. Мне очень бы хотелось остаться подольше; но, чтобы не навлечь на себя подозрения слишком долгим посещением, я встал и раскланялся. Затворив дверь, я заметил, что занавес насупротив зашевелился; это была Стефана; вероятно, она не смела быть при моем посещении и теперь бежала, чтобы узнать, что было на консультации. Но что мне до Стефаны? Я думал только о Фатинице!
Константин проводил меня до самой моей комнаты и все старался извинить Фатиницу; а я, право, и не думал на нее сердиться. Эта робость, стыдливость, чуждая нашим западным женщинам, казалась мне совсем не недостатком, а новою прелестью. Это придало нашему первому свиданию такую странность, что я, кажется, во всю жизнь свою не забуду ни малейшей из его подробностей. И точно, теперь уже прошло лет двадцать пять с тех пор, как я первый раз вошел в ее комнату, но мне стоит только закрыть глаза, и я снова вижу, как она лежит на своих подушках, вижу ее золотую шапочку, ее длинные волосы, унизанные золотыми монетами, ожерелье, шелковый корсаж, кашемировый кушак, широкие вышитые шальвары и маленькие беленькие ножки и обворожительные ручки; мне кажется, что стоит только протянуть руки, чтобы обнять ее.
XXVII
Я не в состоянии рассказать, что происходило во мне во весь этот день. Как скоро я воротился в свою комнату, горлицы вылезли из-под решетки и начали летать вокруг моего окна. В первой рождающейся любви все исполнено таинственной значительности: мне казалось, что горлицы посланы Фатиницею, и сердце мое трепетало от радости.
После обеда я взял книгу Уго-Фосколо, пошел в конюшню, сам оседлал Претли и пустил ее идти куда хочет, а она повезла меня прямо в грот, в который на другой день должна была приехать Фатиница.
Я провел тут два часа в сладостных мечтах, целовал страницы, до которых дотрагивались ее пальчики, где бродили глаза ее; мне казалось, что, открыв снова эту книгу, она увидит на ней мои поцелуи. Уезжая, я оставил книгу на том самом месте, где нашел ее, и заложил цветами дрока страницу, которую читал.
Я воротился домой уже под вечер, но мне не сиделось в комнате; все хотелось подышать свежим воздухом. Я снова обошел стены сада. Теперь они уже казались мне совсем не такими высокими, и мне пришло в голову, что если бы была веревочная лестница, то не трудно было бы перелезть через них. Я всю ночь не спал; впрочем, уже не в первый раз. Но есть сладостные грезы наяву, которые лучше крепкого сна восстанавливают силы человека.
На другой день в восемь часов Константин опять пришел за мною, чтобы идти вместе к Фатинице. Я, как и вчера, был совсем готов; я не ждал его, но надеялся, что он придет. Мы тотчас пошли в павильон.
Отворив дверь комнаты Фатиницы, я было остановился в недоумении. Они были тут обе со Стефаною, и обе совершенно одинаково одеты. Обе лежали, облокотившись на подушки; в этом положении по росту распознать нельзя, а лица их были закрыты; и потому даже Константин, по-видимому, не мог тотчас различить их. Однако же по блеску глаз сквозь отверстия маски я угадал, которая из них Фатиница, и прямо подошел к ней.
— Каково вы себя чувствуете? — спросил я.
— Лучше.
— Дайте мне вашу ручку.
Она протянула мне ее без всяких затруднений и не прикрывая ни шелковою материей, ни газом. Видно было, что Константин говорил с нею и что увещания его подействовали. Я не нашел никакой перемены в состоянии ее здоровья: пульс бил так же сильно и неровно, как и накануне.
— Вы говорите, что вам лучше, а мне кажется, что вам хуже, — сказал я. — Вам непременно надо прогуляться верхом: горный воздух и свежесть леса вам помогут.
— Я буду делать все, что вы велите; батюшка сказал мне, что он на время моей болезни передал вам все права свои надо мною.
— Поэтому-то вы и хотели сейчас меня обмануть, уверяя, что вам лучше.
— Я не обманывала вас, а говорила то, что чувствую. Мне, право, сегодня лучше; голова у меня не так уже болит, и я дышу свободнее.
То же самое чувствовал и я; видно, у нас была одна и та же болезнь.
— Если вам лучше, то надо продолжать то же лечение, пока вы совсем не оправитесь. Между тем, — продолжал я, обращаясь к Константину и говоря с печальным видом, составлявшим совершенную противоположность с доброю вестью, которую я сообщал ему, — между тем могу вас уверить, что болезнь не опасна и скоро пройдет.
Фатиница вздохнула. Я встал, чтобы уйти.
— Не уходите так скоро, — сказал Константин, — я говорил Фатинице, что вы мастер играть на гуслях, и ей очень хочется послушать, как вы играете.
Разумеется, что я не заставил дам просить себя. Что мне было до предлога, лишь бы только подолее оставаться у Фатиницы. Я взял прекрасные гусли, висевшие на стене, отделанные золотом и перламутром, и сделал несколько аккордов, чтобы вспомнить что-нибудь. Мне пришла в голову сицилийская песня, которую певали матросы «Прекрасной Левантинки» я которую я положил на ноты. Вот она: только, разумеется, в прозе она теряет всю свою прелесть.
«Пора, пора! Якорь поднимается, корабль уходит от берега, но серый парус висит вдоль мачты, ветер замирает, волны сглаживаются, и ни малейшее дуновение не рябит зеркальной поверхности безбрежного озера. Мы едва движемся на веслах, капитан спит на своей койке, а экипаж поет песни; но я не могу петь вместе с ними. Та, которую люблю я больше души, лежит при смерти. Я сорвал на берегу полевой цветок; он бледен, как лицо моей милой. Сорванный цветок всегда хиреет и засыхает. Так умрет и та, которая день и ночь меня призывает. Бедняжка! Она только и жила моей любовью».
Я пел с таким чувством, что при последнем куплете Фатиница приподняла свое покрывало, и я увидел нижнюю часть лица ее, нежную и пушистую, как персик. Я встал, чтобы уйти, но Фатиница сказала:
— Дайте мне!
— Что такое?
— Песню.
— Хорошо, я спишу вам ноты.
— И слова.
— И слова тоже.
— Мне точно, кажется, лучше; я тотчас поеду верхом.
Я поклонился, и мы с Константином ушли.
— Она девочка очень избалованная, — сказал мне Константин, — она думает, будто все должны делать, что она хочет, и сердится, если не исполняют ее прихотей. Мать-покойница ее избаловала, а потом и я тоже. Вы видите, что я довольно странный пират.
— Говорят, что в народах порабощенных законам не покоряются именно люди с самым могущественным и благородным характером; но, признаюсь вам, я до сих пор этому не верил.
— О, не надо судить по мне и о всех моих собратьях, — сказал, смеясь, Константин, — я поклялся в вечной ненависти только к туркам. Случается, что я нападаю на какое-нибудь несчастное судно, которое встретится мне на пути, как, например, на «Прекрасную Левантинку»; но только тогда, когда кампания была плоха и я не хочу воротиться домой с пустыми руками, чтобы экипаж не роптал. Зато, вы видите, я царь на этом острове; а когда день, назначенный пророчеством, настанет, все до одного пойдут, куда бы я ни повел их; крепость, с помощью Пресвятой Богородицы, оборонят и женщины.
— И верно, в таком случае, — сказал я, смеясь, — вы назначите генералами Стефану и Фатиницу.
— Не смейтесь, — отвечал Константин, — моя Стефана — Минерва, которая в случае нужды очень может, как Паллада, надеть шлем и латы; а Фатиницу я скорее сделаю капитаном какого-нибудь маленького бригантина.
— Вы счастливый отец.
— Да, в моем несчастии Бог благословил меня детьми. Зато, когда я с моими дочерьми и с Фортуна-том, я все забываю, и свое ремесло, и турок, и обещанную будущность, которая все еще не наступает.
— Но вы теперь же расстаетесь с одною из них?
— Нет, потому что Христо Панайоти живет здесь на острове.
— А позвольте вас спросить, скоро ли свадьба?
— Через неделю или дней через десять. Греческая «свадьба будет для вас очень любопытна.
— А разве я увижу ее?
— Да разве вы нам чужой?
— Я сделался вашим потому только, что ранил вашего сына.
— И сами его вылечили.
— Но как же женщины могут обедать с гостями, когда им запрещено снимать покрывало?
— О, в важных случаях они его снимают; впрочем, они и носят покрывала не потому, чтобы мы, мужчины, принуждали их к этому из ревности, но больше по привычке, а отчасти и из кокетства. Дурные очень рады прятаться под покрывалом, а хорошенькие всегда найдут возможность показать свое лицо. Вы едете с нами гулять?
— Благодарю вас; вы знаете, что мне дано поручение. Ежели бы я не списал тотчас же песни, которую Фатинице хочется иметь, она, я думаю, никогда бы мне этого не простила; а мне бы не хотелось, чтобы меня у вас вспоминали лихом.
— О, нет, я уверен, что мы друг о друге будем вспоминать с удовольствием, и надеюсь, что эти воспоминания приведут вас снова к нам, когда Греция возвратит, наконец, свою независимость. Греция, можно сказать, прабабушка всех других стран, и у кого в сердце есть родственные чувства, тот должен поспешить к ней на помощь. Между тем прощайте; я пришлю вам тотчас от Фортуната все, что нужно для письма. Вы знаете, что без меня вы здесь полный хозяин.
Я поклонился Константину, и он ушел. Я тотчас побежал к окну, зная, что Стефана и Фатиница должны скоро выйти из своего павильона. И действительно, через несколько минут они обе прошли по двору; но ни одна не подняла головы. Так, видно, Фатиница, так же, как и я, боялась возбудить подозрения. Дивная вещь — рождающаяся любовь: она толкует в свою пользу поступки, которые привели бы в отчаяние любовь уже давнишнюю! Фатиница была совсем не больна: она выдумала это только для того, чтобы видеться со мною; если бы ее привлекло ко мне одно любопытство, она после первого свидания сказала бы, что уже здорова. Напротив, на другой день ей было только немножко получше, и, следовательно, мне надо было прийти в другой раз. Таким образом, я могу надеяться увидеть ее еще раз или два; а там настанет свадьба Стефаны, а там — все кончено. Но до свадьбы Стефаны оставалось еще десять дней, а любовь рассчитывает только на сутки.
Мне принесли бумаги, чернила и перьев, и я принялся списывать романс. Занимаясь этой работою, я увидел на своем окне тень горлицы; я приподнял решетку линейкою, привязав к ней шнурок, конец которого положил подле себя, а на окно посыпал хлеба; через минуту горлица прилетела, я дернул шнурок, и она очутилась в плену.
Это меня чрезвычайно обрадовало. Я видел ее на коленях, на руках Фатиницы; горлица принесла мне благоухание уст Фатиницы, которые так часто к ней прикасались; это была уже не книга, безмолвная и безжизненная, которая передает совсем не то, что ей вверили; а существо живое, трепещущее, эмблема любви и само полное любви, которое некоторым образом передавало мне поцелуи Фатиницы. Я долго продержал горлицу у себя и выпустил тогда уже, когда услышал, что мои хозяева возвратились с гулянья. Но горлица, уже привыкнув ко мне, сидела на окне; а потом, когда Фатиница проходила через двор, она слетела прямо к ней на плечо, как будто для того, чтобы тотчас передать ей слова любви, которые слышала от меня.
Через час пришли спросить, готова ли песня.
Вечером, гуляя вокруг стен, я услышал в саду звуки гуслей. Фатиница училась песни, которую я ей дал; но, чтобы я не знал, что она мной занимается, ушла играть в такое место, где, как она думала, я не могу ее слышать.
На другой день Константин не приходил за мною в обыкновенное время. Я спросил о нем: он ушел с утра к отцу Христо Панайоти, чтобы условиться о свадьбе. Я думал уже, что во весь день не увижу Фатиницы, и был в отчаянии, как вдруг дверь отворилась и явился Фортунат.
Впрочем, в этот раз меня призывали только для того, чтобы поблагодарить. Фатиница выздоровела; вчерашняя прогулка сделала ей большую пользу. Она вполне меня послушалась: была в гроте, потому что поэма Уго-Фосколо лежала уже подле нее. Я искал глазами ветку дрока, но ее уже не было.
Фатиница благодарила меня за сицилийскую песню. Я спросил, выучила ли она ее, и Фортунат тотчас отвечал, что она вчера вечером пела ее ему и отцу. Я просил ее спеть эту песню, которая в ее устах должна быть еще милее. Она отказывалась сначала со всем кокетством лондонской или парижской виртуозки; но я сказал, что требую этого в награду за мои посещения, и она начала петь.
Голос ее был очень обширный меццо-сопрано, с какими-то неожиданными, дикими трелями, которые, конечно, учитель запретил бы, но которые придавали ее пению, тихому и приятному в средней части голоса, раздирающее сердце выражение в верхних нотах. Начиная петь, она принуждена была приподнять нижнюю часть своего покрывала, и я видел ее хорошенькие губки, похожие на вишни, и зубки, маленькие и беленькие, как жемчужины.
Пока Фатиница пела, одна из горлиц уселась у нее на коленях, другая на плече. Последняя была ее любимица и та самая, которую я накануне заманил к себе. Избалованная горлица перешла с плеча на грудь, и когда Фатиница, кончив песню, протянула ручку, чтобы положить гусли, она засунула маленький свой клюв в отверстие корсажа и вытащила оттуда не масличную ветвь, которую другая горлица принесла в ковчег, а ветку дрока, которую я напрасно искал глазами в книге.
Я чуть не вскрикнул. Фатиница поспешно опустила вуаль, потому что, хотя лицо ее было в три четверти закрыто, однако она до того покраснела, что даже на нижней части щек и на подбородке я видел как бы отблеск пожара. Стефана и Фортунат, не зная ничего этого, не заметили ни моей радости, ни смущения сестры. Фатиница, как будто в наказание за то, что я открыл ее тайну, тотчас встала и, опершись на руку Стефаны, сказала мне «прощайте». Но, видно, подумав, что это слово слишком жестоко, потому что не оставляет надежды, она прибавила:
— То есть до свидания; батюшка мне сказывал, что вы будете на сестрицыной свадьбе.
Она ушла в комнату Стефаны, а мы с Фортунатом вышли в противоположную дверь.
Свадьба назначена была через неделю; эти дни показались мне ужасно долгими, однако же довольно приятными, потому что исполнены были надежды. Каждое утро прилетала ко мне горлица-обличительница, которую я любил еще больше с тех пор, как она провинилась перед своею госпожою. Мне удалось сделать сколько можно похожий портрет Фатиницы; я изобразил ту самую минуту, когда она играла на гуслях, глаза ее были видны сквозь отверстия покрывала и нижняя часть лица из-под него. Я хотел было, при помощи глаз и того, что видел, сделать и остальное; но это показалось мне неуважительным, и я бросил свою попытку.
Бесконечная неделя прошла, и настал день, назначенный для свадьбы.
XXVIII
Рано утром весь дом был разбужен шумною музыкою, которая раздавалась на первом дворе; я проворно оделся и подбежал к окну. На дворе была толпа музыкантов, а за ними длинный ряд мужчин; двое первых несли на плечах козленка и барашка с вызолоченными рогами и копытами, остальные баранов и овец, которые должны были составлять стадо молодой. За ними двенадцать слуг несли на головах закрытые корзинки с разными тканями, нарядами, драгоценными вещами и деньгами. В заключение процессии шли мужчины и женщины, поступающие в службу к молодой. Константин и Фортунат отворили им ворота, и они перешли с первого двора на второй, а потом в павильон, где и поднесли Стефане подарки, присланные женихом. Вскоре потом пришел и он сам со своими родственниками. Женщин ввели к Стефане, мужчины остались вместе. Через час пришли звать нас к невесте; она ждала нас, сидя на софе в одной из нижних комнат, в которых я еще не бывал; они были расположены так же, как в квартире Константина, только лучше убраны.
В это время невесту нарядили, и к чести будущих горничных Стефаны надобно сказать, что они сделали все, что могли, чтобы скрыть красоту госпожи своей под множеством самых странных украшений. Прежде всего в этом удивительном наряде поразил меня головной убор: он был в три этажа и походил на то, что в военных оркестрах называют китайскою шляпой; фундамент пирамиды составляли волосы, а убранством служили золотая бумага, цехины и цветы; на щеках был толстый слой белил и румян, а руки расписаны продольными красными и голубыми полосками, и на всех пальцах было по нескольку колец и перстней.
Впрочем, я принялся рассматривать невесту тогда уже, когда оглядел всю комнату и тщетно искал Фатиницу в группах женщин, которые тут стояли; не найдя ее, я подумал, что она еще одевается. Через несколько минут явилась и она.
Маски на ней не было, румян и белил тоже, и, против обыкновения, никакое постороннее украшение не скрывало, не портило ее восхитительного личика. О, как благодарил я ее в глубине сердца за то, что она показалась мне в первый раз такою, какою создала ее природа, и не заставила отыскивать себя под странными уборами, которые обезображивали большую часть бывших тут женщин. Она окинула глазами всю комнату, и взоры ее на минуту остановились на мне. Никакими словами невозможно высказать того, что выразил мне этот взор. В руках у нее была множество золотых ниток разной величины, но все парами. Нитки, которые были у нее в правой руке, она подавала мужчинам, а из левой женщинам. Каждый взял по нитке; молодой человек и девушка, у которых нитки были ровные, проводили все время свадьбы вместе, потом кавалер должен был отдать нитку своей даме. Если он ей понравился, она связывает обе нитки узелком и кладет под образ Богоматери в надежде, что и на небесах будет связано то, что связано на земле, то есть две жизни, которых эмблемою служат эти золотые нитки. Когда очередь дошла до меня, Фатиница не дала мне времени выбрать, и сама подсунула мне нитку. Потом мужчины пошли отыскивать своих пар и, разумеется, что случай и любовь мне благоприятствовали, что моею дамою была Фатиница.