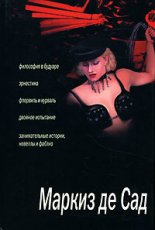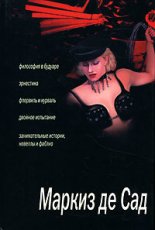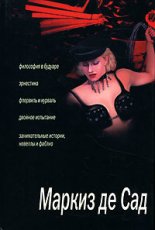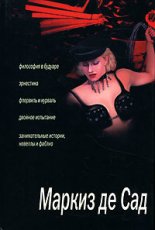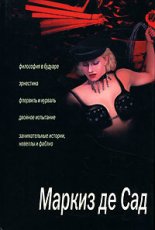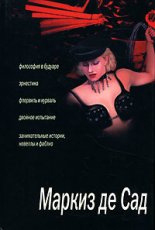Приключения Джона Девиса. Капитан Поль (сборник) Дюма Александр

Все в минуту умолкли, ожидая моих приказаний.
— Подшкипер, — сказал я, обращаясь к штурману, который отправлял обе эти должности на «Прекрасной Левантинке», — разглядите, как далеко от нас пират?
Подшкипер сделал свой расчет и сказал:
— В двух милях ровнехонько.
— Точно так. Теперь мы посмотрим, каково «Прекрасная Левантинка» ведет себя во время опасности. Слушай! Поднять парус грот-брамстенги, малый крюйсель и лисели; по крайней мере у нас не останется ни лоскутика, который бы не был на ветру.
Экипаж повиновался с проворством и точностью, которые доказывали, что он понимает важность этой меры. Действительно, это были уже последние усилия корабля: если он и при такой прибавке парусов не уйдет от фелуки, то нам оставалось только готовиться к битве. Даже судно как будто понимало опасность, которая ему угрожала. Почувствовав давление новых парусов, оно еще более погнулось по ветру, до того, что с другой стороны показалась уже медная обшивка, и глубоко рассекало носом волны, которых пена попадала даже на палубу. Между тем, полагаясь на штурмана, я снова взял зрительную трубу и навел ее на фелуку; она тоже выставила все свои паруса, и по волнению воды около бортов видно было, что и гребцы не без дела. Весь наш экипаж и все пассажиры были на палубе, никто не шевелился, повсюду царствовала такая тишина, что слышен был даже малейший треск мачт, которые как будто предуведомляли меня, что опасно накладывать на них такую тяжесть; но я заранее решился не обращать внимания на эти предостережения и рисковал всем, чтобы спастись. Это тревожное состояние продолжалось уже с час, и никакого несчастного случая еще не было. Потом я опять велел штурману сделать расчет: мне казалось, что фелука немножко подальше от нас.
— Слава Тебе, Господи! — вскричал с радостью штурман, — ведь она отстает!
— На много ли? — спросил я тоже, начиная отдыхать.
— Правду сказать, больно не много. Он проверил свой расчет и прибавил:
— Около четверти мили.
— И это вам кажется мало! Четверть мили в час! Вы, право, ненасытны; я бы доволен был и половиной. Господа, теперь вы можете спокойно идти спать; завтра утром вы уже не увидите пирата… если только…
— Если только что? — повторил Апостоли.
— Если только, как иногда случается, ветер не стихнет часа через два после восхода солнца.
— А что же тогда? — спросили пассажиры.
— Тогда дело другое; тогда уже нечего думать о бегстве, а надо будет готовиться к битве. Во всяком случае, до четырех часов утра бояться нечего. До тех пор можете спать спокойно.
Пассажиры разошлись; Апостоли хотел было остаться со мною, но я упросил его уйти в каюту; душевное волнение было для него очень вредно, и у него началась сильная лихорадка, хотя сам он того не замечал. Поспорив немножко, он повиновался, как ребенок; так всегда кончалось сопротивление этого кроткого молодого человека, которого душа нисколько не лишилась своей юности, хотя он быстрыми шагами приближался к гробу.
— Теперь, — сказал я шкиперу, когда мы остались одни, — я думаю, можно послать половину экипажа спать; если ветер будет дуть все так же, то ребенок может управлять кораблем; а если ветер стихнет, то все люди понадобятся, а тогда не худо, чтобы они прежде хорошенько отдохнули.
— Все вахтенные под палубу! — закричал шкипер.
Минут через пять на палубе оставались уже только те, которые необходимо были нужны для работ.
«Прекрасная Левантинка» продолжала разрезать волны, как морская ласточка, потому что в то время дул береговой ветер, такой, какого только мог бы пожелать капитан, чтобы маневрировать кораблем. Что касается до фелуки, то в полчаса она отстала еще на четверть мили: поэтому можно было надеяться, что, если в атмосфере не произойдет никакой перемены, на другой день мы будем уже в каком-нибудь порте Архипелага.
Таким образом я быстро повысился в морской иерархии: из мичманов попал прямо в капитаны, и такова суетность человеческая, что я радовался этому повышению, забывая, что удостоился его на бедном купеческом судне, и что оно будет продолжаться только до тех пор, пока не пройдет опасность. Между тем новая моя обязанность сильно меня занимала, по крайней мере, прогоняла мрачные мысли, которые меня тяготили. Мне пришло в голову, почему бы мне не завести свой корабль, или просто яхту, чтобы путешествовать для своего удовольствия, или трехдечного судна, чтобы торговать с Индией и Новым Светом; таким образом я бы мог утолить жажду к деятельности, которая, как лихорадка, мучит молодых людей, и забыть изгнание, на которое добровольно обрек себя; притом, как мы тогда были в войне с Франциею, то, может быть, мне посчастливилось бы каким-нибудь блистательным подвигом заслужить прощение в моем преступлении, я вступил бы во флот в звании, приобретенном на поприще отца моего, сделался бы каким-нибудь Гоу или Нельсоном. Дивная вещь воображение! Оно строит мост через невозможное и наяву гуляет по садам таким очаровательным, каких и во сне никогда не привидится.
Я мечтал таким образом еще несколько времени; потом, увидев, что уже два часа за полночь и что мы идем скорее фелуки, предоставил управление судном лоцману, поставил подшкипера на вахту и, закутавшись в плащ, улегся на каменомете.
Не знаю, сколько времени я спал крепким сном юности; потом я услышал, что кто-то меня называет по имени, но как я, видно, не скоро просыпался, то меня стали толкать. Наконец я открыл глаза; передо мной стоял подшкипер.
— Что нового? — спросил я, вспомнив, что велел себя разбудить, если случится что-нибудь неприятное.
— Да то, что вы угадали. Ветер стих, и мы стоим на месте.
Весть была очень нерадостная; но тем более нельзя мешкать, надобно помочь беде. Я бросил плащ на палубу, уцепился за бакштаги бизань-мачты и долез до рея малого крюйселя. На этой высоте ветер по временам был еще заметен, но такой слабый, что едва надувал верхние паруса и развевал наш вымпел. Потом я поглядел на фелуку: она уже виднелась только как белая точка на горизонте, однако же еще виднелась; ясно было, что она надеялась на то, чего мы боялись, и не замедляла своего хода, так как мы оставили ее в трех милях за собою. Наконец я посмотрел кругом по всему горизонту: перед нами на восток-юго-востоке виднелись Митилен, горы которого ясно виднелись, и Скирос, колыбель Ахиллеса, могила Тезея; но первый из этих островов был в семи, второй в десяти милях от нашего корабля. Если бы тот же береговой ветер подул еще часа три, мы были бы спасены; но он уже находился при последнем издыхании и скоро должен был совсем затихнуть.
Однако же, чтобы после ни в чем не упрекать себя, я спустился на палубу, велел убрать все нижние паруса, поднять грот и фор-марсели, паруса крюйсель и лисели. «Прекрасная Левантинка» как будто отдохнула от того, что ее избавили от тяжести больших парусов; потом, как нимфа, которая плывет, скруглив над головою шарф, она прошла еще с полмили, но тут остановилась, и паруса печально повисли по мачтам; ветер совершенно утих.
Я велел убрать паруса так, чтобы их тотчас можно было опять поднять. Подшкипер пришел ко мне за приказаниями.
— Найдите мне юнгу и барабан и велите бить тревогу.
XXII
Как скоро раздались звуки этого инструмента, весь экипаж и пассажиры выбежали на палубу; от этого произошел некоторый беспорядок, и я увидел, что надобно учредить строгую дисциплину. Я велел экипажу перейти на носовую часть, а пассажиров повел на корму и сказал им, что ветер, как я предвидел, утром упал; я указал одной рукой на наши паруса, которые полоскались, а другою на фелуку, которая начинала расти, потому что шла не на парусах, а на веслах. Ясно было, что нам оставалось только готовиться к битве, что если фелука будет все идти также скоро, то часа через четыре нам никак не миновать абордажа. Конечно, береговой ветер мог снова подняться и доставить нам возможность уйти, но это было невероятно. Если бы честные купцы, с которыми я говорил, должны были опасаться за жизнь свою, то они, верно, охотнее сдались бы, чем решились драться, но им надобно было защищать свои товары, и потому они казались храбрыми, как львы. Положено было предоставить мне полную власть и сложить со шкипера всю ответственность. Я тотчас воспользовался их добрым расположением: выбрал тех, которые казались мне мужественнее других, и назначил их сражаться, а остальным, под командою одного матроса, который был прежде канониром на сардинском корабле, велел делать фитили и патроны, чтобы во время сражения не было недостатка в боевых припасах. Но я напрасно уговаривал Апостоли идти с последними под палубу; он в первый раз упорно мне воспротивился и объявил, что ни за что на свете не расстанется со мною, пока опасность не пройдет. Делать было нечего, я оставил его при себе вместо адъютанта.
Разделив таким образом пассажиров и отправив их вниз, я взял рупор и, чтобы посмотреть, каково приказания мои будут исполняемы, поднял его ко рту и закричал:
— Слушать!
В ту же минуту шум утих, и всякий приготовился к работе. Я продолжал:
— Люди на реи! Караулить ветер! Вещи и койки в сетки по бортам! Оружие на палубу!
В ту же минуту два человека бросились с быстротою и ловкостью обезьян по бакштагам грот-мачты на брамстенги; прочие сбежали по трапам и снова явились с койками, положили их под сетки и прикрыли насмоленным холстом; подшкипер, которого я произвел в сержанты, поставил ружья в козлы, а топоры и сабли поклал в кучи. Конечно, все было сделано не так проворно, как на военных кораблях, но, по крайней мере, без суматохи. Это подало мне надежду на будущее, и я поглядел на Апостоли, который, сидя у подножия бизань-мачты, отвечал уже мне своей кроткой и печальной улыбкой, когда еще я не выговорил ни слова.
— Ну что, храбрый сын Аргоса, — сказал я, — видно, приходится драться грекам против греков, братьям против братьев, Аттике против Мессении?
— Да, что делать! — отвечал он. — Так всегда будет, пока все дети одной матери, все поклонники одного Бога не соединятся против общего врага.
— И ты думаешь, что это когда-нибудь будет? — сказал я с видом сомнения, которого не мог скрыть.
— О, я в этом уверен! — вскричал Апостоли. — Невозможно, чтобы Пресвятая Панагия совсем покинула детей своих, и когда великий день настанет, эти самые пираты, теперь стыд и поношение Архипелага, сделаются его честью и славою, потому что их довела до этого не склонность, а нищета.
— Ты очень снисходителен к своим землякам, Апостоли.
Потом, видя, что экипаж ждет приказаний, я закричал:
— Сержанту выбрать и приставить людей к орудиям и прикрепить к реям с обоих бортов крюки.
Отдав эти приказания, я снова обратился к Апостоли.
— А ты слишком строг, Джон, и именно потому, что, как обыкновенно франки, судишь о всех народах, как будто они были на одной степени образования с европейцами; ты знаешь, что мы уже четыреста лет терпим; ты знаешь, что уже четыреста лет мы ничего не можем сохранить надежно: ни достояния отцов, ни чести наших дочерей; ты знаешь, что… Послушай, Джон, что я скажу тебе, — продолжал Апостоли, взяв меня за руку. — Если ты будешь долго в изгнании, сделайся сыном Греции; она милосердна, как всякий, кто страдал, великодушна, как всякий, кто был беден. Со временем, и это время наступит скоро, ты услышишь, как крик независимости прокатится с горы на гору, с острова на остров; тогда ты будешь другом, братом, товарищем людей, с которыми теперь станем сражаться, будешь жить с ними под одной палаткою, есть один хлеб, пить из одной чаши.
— А скоро ли наступит этот день? — спросил я предсказателя, который с такою уверенностью возвещал мне его.
— Это один Бог знает! — отвечал Апостоли, подняв глаза к небу. — Но, конечно, скоро…
— Готово, капитан, — сказал мне подшкипер. — Не будет ли еще каких приказаний?
— Велите плотнику или главному конопатчику, если он у вас есть, обвязать весь корабль веревками с петлями, чтобы было за что зацепиться; приготовить деревянных затычек, пучков пакли и свинцовых дощечек, чтобы заделывать проломы корзин и мешков, чтобы было чем вытащить, если кто упадет в море.
Тут снова воцарилось молчание, пока исполняли это приказание. Между тем фелука росла с минуты на минуту, а мы все лежали в дрейфе. Видя, что все готово, я закричал:
— Эй, вахтенный! Есть ли ветер?
— Ни крошки! — отвечал он. — Если облачко, которое выходит из-за Скироса, не принесет нам ветра, так, видно, придется прогулять без него целый день.
Я оглянулся в ту сторону, куда указывал вахтенный, и, точно, увидел на горизонте облачко; с того места, где я стоял, оно казалось подводным камнем на втором море, которое называется небом. Это возбуждало надежду. В нашем положении буря была для нас гораздо выгоднее, и я бы рад был купить ветер за какую угодно цену. Между тем все было еще тихо; море выровнялось, как скатерть, и на небе не мелькало ни пятнышка, кроме этой черной точки, которую только глаз моряка мог различить.
— Как вы думаете, — спросил я штурмана, — скоро ли они могут прийти в наши воды?
— Часа через три.
— Я так и думал. Приготовьте на палубе бочки с водою, чтобы освежать экипаж во время битвы; и чтобы никто не трогался с места, потому что у нас народу не много, велите двоим разносить воду чарками.
— Слушаю.
— Мне что-то кажется, брат, — сказал Апостоли, — что фелука переменяет свое намерение. Может быть, она и не думает о нас.
Я схватил зрительную трубу и навел на фелуку. Действительно, по новому направлению, которое она приняла, надобно было полагать, что она пройдет позади нас в миле или в двух.
— Ведь и точно! — вскричал я. — Ну, брат Апостоли, я бы очень рад был повиниться перед твоими соотечественниками.
Увидев, что штурман, слыша это, покачивает головою, я сказал ему:
— А вы что думаете?
— Я думаю, капитан, что они, так же как и мы, видят это черное облачко, чуют ветер, как морские свинки, и хотят отрезать нас от Митилена.
— Ваша правда!.. Я не понимаю, как это сейчас не пришло мне в голову: да, да, намерение их очевидно. И ветерка все нет?
— Ни малейшего! — сказал штурман.
Мы ждали таким образом четыре часа, потому что круг, который пираты сделали, отнял у них много времени. Они прошли почти в миле за нашею кормою, и, описав полукружье с правого борта, где мы их сначала видели, шли на нас с бакборта, но они еще были милях в трех, как вдруг вахтенный матрос закричал:
— Эй! Порыв ветра!
Я вскочил со своего места.
— С какой стороны?
Он подождал немножко, чтобы отвечать вернее, и, после второго порыва, сказал:
— С запада-юго-запада.
— Ну, что? — спросил Апостоли.
— Хуже нельзя быть, любезный друг, видно, сам черт за них.
— Не говорите таких вещей в опасные минуты, любезный друг.
— Вы слышали? — спросил я штурмана.
— Слышал, капитан.
— Я думаю, нам останется только одно: при первом ветре поворотить овер-штаг и бежать по ветру, хоть бы даже туда, откуда пришли.
— Этого маневра не сделаем так скоро, капитан, чтобы они не попотчевали нас двумя или тремя ядрами, а ведь при малейшем повреждении в снастях они со своими проклятыми веслами тотчас нас настигнут.
— А вы знаете какое-нибудь другое средство?
— Никакого, — отвечал штурман.
— Так нечего делать, надобно держаться этого. Эй, на брамстенге! — закричал я вахтенному. — Верно ли ты знаешь, что ветер начинается?
— Да, да, вот он несется.
— Джон, — закричал Апостоли, — посмотри-ка, фелука опять переменила свое направление!
Действительно, она при помощи весел и руля поворотила овер-штаг с легкостью шлюпки и, как будто угадывая наше намерение, готовилась обгонять нас.
— Вы мастер своего дела, — сказал мне штурман, — да и капитан этой фелуки, видно, тоже не промах.
— Нужды нет: мы, я надеюсь, обгоним его. Слушай!.. Готовы?
— Есть! — закричал весь экипаж в один голос.
— Бизань и крот-парус на гитовы! Крюйсель и грот-марс держи круто! Вот «Прекрасная Левантинка» повертывается и сейчас пойдет чинно и плавно, как хорошенькая девушка перед маменькой. Идем ли?
— Идем! Идем! — закричали матросы в один голос.
И точно, корабль сначала катился, но теперь пошел вперед носом на Абидос назад, по тому же пути, по которому мы шли. Я поглядел на фелуку: во время нашей эволюции она тоже сделала свой маневр и покрылась парусами. Оба судна шли к одной и той же точке, следственно, вопрос был только в том, кто обгонит, но, во всяком случае, избежав абордажа, мы должны были пройти под огнем фелуки.
Мы были тогда так близко к ней, что могли рассмотреть простыми глазами, что делается на неприятельском корабле. Это было настоящее хищное судно, длинное, как байдара, с двумя мачтами, нагнутыми градуса на три вперед; треугольные паруса его были привязаны широким краем к реям, длиннее мачт. На носу было два орудия и двадцать четыре каменомета в бортах. Гребцы, красные шапочки которых явственно виднелись, сидели не на лавках, а на поперечных перекладинах, упираясь ногами в другие перекладины. Ветер был еще очень слаб, и потому весла давали им большое преимущество перед нами. Ясно было видно, что нам придется пройти на пистолетный выстрел под их пушками. Я отдал последние приказания: велел перетащить на правый борт все наши орудия; раздать экипажу и пассажирам ружья, мушкеты, топоры и сабли; принести на палубу несколько зарядных ящиков и перевернуть песочные часы на три или на четыре часа. Сверх того, я велел двенадцати человекам взлезть на марсы, чтобы стрелять сверху вниз.
Во время этих приготовлений царствовало страшное и торжественное молчание; между тем тучка, вышедшая из-за Скироса, растянулась по всему горизонту и грозила нам бурею. Тяжелый, удушливый ветер дул прихотливыми порывами и по временам совершенно утихал так, что паруса наши висели вдоль мачты; огромные валы, как будто образуясь на дне моря, поднимались на поверхность и покрывались пеною; в другое время мы бы тщательно наблюдали эти признаки, но теперь не обращали на них ни малейшего внимания, потому что готовились к опасности страшнее этой. Оба корабля постепенно сближались, не опережая заметно друг друга; между нами было около мили. Мы очень ясно видели, что экипаж фелуки, по-видимому, вдвое многочисленнее нашего, тоже готовится к битве. Теперь ясно было, что это пираты, и что они намереваются напасть именно на нас; впрочем, если бы и оставалось какое-нибудь сомнение, то оно уничтожилось бы, потому что борт фелуки покрылся дымом, и, когда звук, относимый ветром, еще не долетел до нас, град картечи посыпался в нескольких шагах от корабля: пиратам так хотелось поскорее добраться до нас, что они не разочли расстояния и начали стрелять слишком далеко.
— Так как эти господа первые нас приветствовали, капитан, то не худо бы, я думаю, отвечать им учтивостью на учтивость, — сказал штурман. — Вот, — продолжал он, указывая на восьмифунтовую пушку, — благовоспитанная девица, которая только изредка вымолвит словечко, да поважнее всей этой болтовни.
— Ну, так позвольте же ей поговорить, мне тоже хотелось бы ее послушать. Я думаю, она ваша воспитанница, и уверен, что в теперешних обстоятельствах не пристыдит своего наставника.
— Только позвольте, капитан, она ждет приказаний.
— Цельтесь в борт, это всего лучше.
Штурман прицелился, огонь вылетел из бока «Прекрасной Левантинки», вестник смерти понесся прямо на гребцов и, по беспорядку, который произошел между ними, ясно было видно, что удар не пропал.
— Браво! — закричал я. — Ваша воспитанница толкует славно, но она, надеюсь, на этом не остановится.
— О нет, капитан! — отвечал штурман, развеселившись. — Розалия… Я назвал ее Розалией в честь покровительницы Мессины… Розалия, как покойница жена моя, уж как разговорится, так не уймешь. Эй вы, что вы глазеете? Какая вам надобность, что там делается! Пороху в затравку!
Между тем как клали порох в затравку, с борта фелуки снова поднялся дым, и как суда сблизились, то по всему нашему кораблю застучали картечи. В ту же минуту один матрос свалился с грот-марса на бакштаги грот-мачты, а оттуда упал на палубу. Пираты, увидев это, испустили радостные крики.
Но смерть, которая посетила «Прекрасную Левантинку», воротилась на фелуку с ядром Розалии, и за радостными кликами последовали проклятия. Это ядро пролетело сквозь стену и унесло двух канониров.
— Еще лучше! Славно, штурман! Да вот у вас два каменомета! Неужто и они тоже не заговорят!
— Сейчас, сейчас, капитан, теперь еще рано: pazienza, терпение, как говорят у нас в Сицилии, и все придет в свой черед. Эй вы, за борт! Видите, что еще град посыплется.
Вслед за тем новый огненный ураган упал на палубу, убил одного матроса, двоих или троих ранил.
Снова раздались на фелуке радостные восклицания, но они прерваны были выстрелами наших трех орудий. Три гребца упали и были заменены другими, и бег наш: продолжался еще сильнее прежнего. Капитан пиратов, замечая, что не поспеет вовремя к абордажу, стоял на корме и понуждал гребцов своих. Мы тоже были уверены, что уйдем от абордажа, и это придавало нам новое мужество. Тут и буря вступила в дело; загрохотал гром, вслед за ним налетел порыв ветра и сильно двинул нас вперед.
— Радуйтесь, ребята! — закричал я. — Вы видите, что небо нам помогает, и буря толкает нас, как рукою. До сих пор они еще нам большого вреда не сделали: дерево нам дороже мяса.
— Всему будет свой черед, капитан, — сказал штурман. — Настоящая пляска начнется тогда, когда они примутся играть на своих передовых пушках. Эй, ребята, пали!
Выстрелы обоих судов раздались вместе, но я, думая о том, что сказал штурман, не следил уже за их действиями. Я слышал только стон и, взглянув на палубу, увидел, что два человека корчатся в предсмертных судорогах. Подозвав двух матросов, я сказал им вполголоса:
— Поглядите, нет ли мертвых. Не надобно загромождать палубы, да притом и не весело смотреть на них; стащите трупы в кубрик и бросьте в море с бак-борта, чтобы пираты не видали.
Матросы тотчас принялись за дело, а я опять обратился к фелуке.
Мы уже почти достигли до конца нашего бега и, по моему расчету, прежде фелуки, но тут мы были так близко от нее, что сильный человек мог бы бросить камень с одного судна на другое.
Теперь пора было приняться за ружья, и я велел стрелять; тот же приказ отдан был в ту же минуту и на фелуке, и ружейная стрельба началась с обеих сторон.
Несколько времени гребцы фелуки работали так сильно, что опередили нас; но ветер стал крепчать и мы снова их обогнали. Тут они дали по нас на каких-нибудь сорока шагах ужаснейший залп, на который мы отвечали, как могли, из орудий и ружей; потом они погнались за нами. Через минуту раздались выстрелы двух больших орудий, и ядро ударило у самой подводной части в нашу корму, а другое пролетело по парусам, не сделав нам, впрочем, большого вреда: оно продырявило только три малых паруса.
— Вот и шары стали покатываться, — сказал штурман. — Теперь наш брат только береги кегли.
— Да нельзя ли перевезти Розалию на корму и дать им сдачи? — сказал я.
— Сейчас, сейчас, капитан, везут. Ну, ну, лентяй, — сказал он матросу, которому раздавило палец. — Берись, что ли, за колесо, после успеешь понежиться со своим пальцем. Ну, вот так-то!
Но нашу пушку еще не успели зарядить, как раздался выстрел и за ним последовал ужасный треск. В ту же минуту со всех сторон закричали:
— Берегись, капитан!
Я взглянул кверху и увидел, что варенг, часть бизань-мачты, переломленная немножко повыше марса, зашаталась и падает с парусами. В ту же минуту вся корма покрылась деревом, парусами и веревками, и корабль, лишившись двух парусов, важнейших для успешного хода с попутным ветром, тотчас пошел тише.
— Руби все! — закричал я. — Руби, и в море!
Матросы, понимая всю важность этого приказания, как тигры бросились на веревки и с помощью топоров, сабель и ножей в минуту перерубили и перерезали до малейшей все веревки, которыми брамстенги были связаны с бизань-мачтою; потом все это побросали за борт.
Несмотря на быстроту этого маневра, корабль пошел медленнее, и я видел, что уже не останется никакого средства избежать абордажа. Я посмотрел вокруг себя, потери наши были еще не очень великие. Убито трое или четверо матросов, столько же тяжело ранено, несколько других человек получили легкие раны; считая с пассажирами, у нас оставалось еще двадцать пять или тридцать человек в состоянии защищаться. Я велел позвать тех, которые с утра давали патроны и, нагнувшись к Апостоли, который не отходил от меня ни на минуту, сказал ему, потихоньку:
— Послушай, брат, мы уже дрались. Сдаваться поздно. Что, ты думаешь, будет с нами, если нас возьмут?
— Нас зарежут или повесят, — отвечал спокойно Апостоли.
— Но ты грек. Земляки, может быть, пощадят тебя.
— Именно потому-то и не пощадят. Побежденный никогда не получит помилования, если просить его на том же языке, на котором говорит победитель.
— И ты в этом уверен?
— Как нельзя более.
— Ну, так спроси у штурмана зажженный фитиль и, когда я закричу «Пора!», сбеги по кормовому трапу, брось фитиль в пороховую камеру, и все будет кончено.
— Хорошо, — отвечал Апостоли со всегдашнею своей печальною улыбкою, как будто бы я дал ему самое обыкновенное приказание.
Я подал ему руку; он бросился ко мне на шею. Потом я схватил одною рукой рупор, другою топор и закричал изо всей силы:
— Держи круче к ветру малыми парусами. Людей на нижние реи! Руль на ветер весь, и готовься к абордажу!
Маневр был в ту же минуту исполнен. «Прекрасная Левантинка», вместо того чтобы идти с попутным ветром, замедлила ход свой и повернулась к фелуке бортом. Пираты, идя на парусах и на веслах, зацепили своим бугспритом за бакштоги нашей бизань-мачты, и суда так сильно стукнулись, что часть нашего борта обломилась. В ту же самую минуту, как будто суда воспламенились от столкновения, поднялось облако дыму, раздался ужаснейший гром, и «Прекрасная Левантинка» дрогнула до самого киля: пираты выпалили из своих двенадцати орудий. К счастью, я успел закричать: «На земь!» Все те, которые бросились ничком, остались в живых, прочие были поражены картечью. Потом, вставая посереди дыма, мы увидели, что пираты, как демоны, спускаются со своих реев, с бугсприта, перескакивают со своей палубы на нашу. Тут уже нечего было командовать; я бросился вперед и разнес череп топором первому, кто мне попался.
Невозможно изобразить подробностей этой страшной сцены; всякий дрался сам по себе и насмерть. Я отдал свои пистолеты Апостоли, потому что он был слишком слаб, не мог действовать ни топором, ни саблею, и два раза противники мои падали от ударов, которые не мною были нанесены. Я бросился вперед, как безумный, чтобы не пережить нашего поражения, которое легко было предвидеть; но, по какому-то чуду, дравшись с четверть часа, опрокинув все, что представлялось мне на пути, я не получил еще ни одной раны. В это время два пирата вдруг на меня бросились: один из них был юноша лет восемнадцати, другой человек лет в сорок. Махая топором, я задел молодого человека по ляжке: он вскрикнул и упал. Избавившись от этого, я бросился на другого, чтобы раскроить ему голову. Но он одною рукою схватил мой топор, другою нанес мне в бок удар кинжалом, который, к счастью, попал прямо в пояс мой, наполненный золотом. Боясь, чтобы он не повторил своего удара, я схватил его поперек тела; окинул быстрым взором корабль наш, и, видя, что пираты везде побеждают, закричал: «Пора!», Апостоли побежал к кормовому трапу.
Пират был ужасный силач, но я искусен в борьбе, как древний атлет. Никогда братья, встретясь после долгого отсутствия, не обнимались так крепко, как мы, чтобы задушить друг друга. Борясь, мы дошли до того места, где стена обломилась, когда суда столкнулись; ни один из нас этого не видал, и мы оба упали в море так, что никто не заметил.
Как скоро мы очутились в воде, я почувствовал, что руки пирата разжимаются. Я тоже, увлекаемый врожденным чувством самосохранения, которого человек преодолеть не в состоянии, выпустил своего противника, нырнул, и вынырнул уже в нескольких шагах за кормою «Прекрасной Левантинки». Я удивился, что она еще не взлетела на воздух. Зная Апостоли, я нисколько не сомневался в том, что он исполнит мое приказание. Подождав несколько минут, и, видя, что ничего нового нет, я подумал, что, верно, с бедным моим приятелем что-нибудь случилось. Пираты овладели всем судном. Тогда уже начиналось смеркаться; я воспользовался этим, чтобы укрыться от них, уплыв подальше. Я плыл, не зная сам куда и повинуясь безотчетному инстинкту, по которому человек всегда старается отдалить минуту смерти, хотя и не надеется остаться в живых. Но потом я вспомнил, что в ту минуту, как у нас переломило мачту, мы находились почти прямо против островка Нео, который, как мне казалось, должен быть милях в двух к северу. Я обратился в ту сторону, и, чтобы пираты меня не видали, плыл сколько можно под водою, выставляя по временам голову только для того, чтобы перевести дух. Однако, несмотря на все мои предосторожности, две или три пули, взбрызнув подле меня воду, доказали, что пираты обратили на меня свое внимание. К счастью, все эти пули пролетели мимо, а вскоре я был уже вне выстрелов.
Положение мое было очень незавидное. Я проплыл бы две мили, если бы море было спокойно, но буря разыгрывалась; волны росли и росли, гром грохотал над моей головою, по временам молнии, как огромные змеи, озаряли гребни волн голубоватым светом, который придавал им страшный вид. Притом мне ужасно мешало платье, и моя греческая юбка, широкая фус-танелла, напитавшись водой, так и тянула меня ко дну. Через полчаса я почувствовал, что начинаю ослабевать и непременно погибну, если не освобожусь от этой тяжести; я повернулся на спину и, после ужаснейших усилий мне удалось кое-как разорвать шнурок, которым фустанелла была привязана; потом, спустив ее с ноги, я ободрился и поплыл скорее.
Еще с полчаса я плыл довольно свободно; но море более и более волновалось, и я очень чувствовал, что не в состоянии буду выдержать усталости. Тут нельзя было перерезывать волн, как в обыкновенное время; надобно было предаваться им и всякий раз, как я спускался вместе с волною, казалось, что меня тянет в бездну. Однажды, как я был на вершине водяной горы, молния блеснула, и я увидел справа скалу Нео, но в огромном расстоянии от меня. В темноте не по чем было направлять своего пути; я сбился: теперь остров был так же далеко от меня, как с самого начала. Это привело меня в уныние: я чувствовал, что мне не добраться до земли. Я попробовал было отдохнуть, плавая на спине, но меня поражало ужасом всякий раз, как я устремлялся вместе с волною головою вниз в страшные долины, которые делались глубже и глубже. Дыхание мое стеснялось, в ушах шумело, члены коченели, движения становились неправильными; мне хотелось закричать, хотя я хорошо знал, что посереди моря никто, кроме Бога, криков моих не услышит. Воспоминания толпою носились передо мной, как в сновидении. Мне представлялись отец, мать, Том, Стенбау, Джемс, Боб, Борк; вспоминал я такие вещи, которые давно изгладились из моей памяти, и видел такие, которые как будто приносились с того света. Я уже не плавал, но, без воли, без сопротивления, перекатывался с волны на волну. Тут я делал отчаянное усилие, от которого искры тысячами сыпались у меня из глаз, я выбивался на поверхность воды, видел снова небо, и мне казалось, что оно совсем черное с красными звездами. Я испускал крики, и мне чудилось, что будто кто на них отвечает. Я чувствовал, что силы мои истощаются, приподнялся до пояса над водою и с ужасом посмотрел вокруг себя. В эту минуту блеснула молния: мне показалось на вершине одной волны что-то черное, как будто скала, которая катилась в ту же пропасть, где я был. Вдруг я слышу, что кто-то произносит мое имя и уже так явственно, что я не мог принять этого за мечту. Я хотел отвечать, но рот мой наполнился водою. Мне казалось, что меня ударило по лицу веревкою; я схватился за нее зубами, потом руками. Что-то тянуло меня к себе; я не противился: у меня уже не было ни силы, ни воли; потом я уже ничего более не чувствовал, был в обмороке.
Очнувшись, я увидел, что лежу в каюте «Прекрасной Левантинки» и подле моей койки сидит Апостоли.
XXIII
Увидев, что я пришел в себя, он объяснил мне, каким чудом я спасся от смерти; он не мог взорвать корабль, потому что шкипер, угадав мое намерение, затопил порох. Идя назад по трапу, он встретился с пиратами: овладев всем судном, они несли в капитанскую каюту молодого человека, которого я ранил топором; бедняк истекал кровью и просил, чтобы позвали хирурга. Тогда Апостоли пришло в голову выдать меня за врача и таким образом спасти меня. Он закричал, что на «Прекрасной Левантинке» есть доктор и чтобы прекратить резню, если еще не поздно. Два человека тотчас бросились на палубу и объявили от имени капитанского сына, что кто нанесет хоть еще один удар, тот будет казнен. Апостоли с беспокойством следовал за ними, везде искал меня и не находил; в это самое время радостно вскрикнули: капитан их, который во время битвы исчез, взобрался по канату на палубу и закричал: «Победа!» Апостоли тотчас узнал, что это тот самый человек, с которым я боролся, и подбежал к нему, спрашивая, куда я девался. Пират отвечал, что я, вероятно, утонул. Апостоли сказал, что я врач и что один я могу спасти капитанского сына. Тут огорченный отец начал спрашивать, не видел ли кто меня; двое пиратов отвечали, что они стреляли по человеку, который плыл к острову Нео. Капитан тотчас велел спустить баркас и не знал, что делать, спешить ли на помощь ко мне или идти к сыну. Апостоли сказал, что мы с ним друзья, и вызвался отыскать меня. Капитан пошел в каюту, а Апостоли бросился в шлюпку. Люди, которые отправились за мною, увидели при блеске молнии что-то белое, и достали мою фустанеллу. Это подало им надежду, и, думая, что я, верно, поплыл к острову, они стали грести в ту сторону. С полчаса спустя они увидели при блеске молнии человека, который боролся со смертью, и вытащили меня в ту самую минуту, когда я уже готов был навсегда погрузиться в море. Апостоли только кончил рассказ свой, как дверь отворилась и вошел капитан. Я с первого взгляда узнал человека, с которым мы дрались; между тем физиономия его совершенно изменилась: тогда на лице его изображалась свирепость, теперь уныние: он явился передо мной уже не врагом, а просителем. Увидев, что я уже пришел в себя, он бросился к моей койке и закричал на франкском наречии:
— Ради Бога, доктор, спасите моего сына, моего милого Фортуната, и требуйте от меня, чего хотите.
— Не знаю, удастся ли мне спасти твоего сына, — отвечал я, — но прежде всего я требую, чтобы ни один из твоих пленных не был умерщвлен; сын твой отвечает мне своей жизнью за жизнь последнего матроса.
— Спаси только Фортуната! — закричал опять пират. — И я своими руками задушу первого, кто осмелится тронуть ваших людей; но поклянись же и ты мне.
— В чем?
— Что ты не покинешь Фортуната, пока он не выздоровеет или не умрет.
— Клянусь!
— Так пойдем же со мною.
Я соскочил с койки и пошел с пиратом и с Апостоли в каюту к больному.
Я тотчас узнал молодого человека, которого ранил топором. То был прекрасный юноша, лет восемнадцати или двадцати, черноволосый, со смуглым лицом. Губы его были сини; он едва мог говорить, по временам только жаловался и просил пить, потому что у него была лихорадка. Я подошел к нему, поднял покрывало и увидел, что он плавает в крови. Рана была продольная с верхней наружной части правой ляжки; около пяти дюймов длиною и в полтора дюйма в самой большой глубине своей. Я увидел с первого взгляда, что она не могла повредить артерии, и это подало мне надежду вылечить его; притом я знал, что продольные раны не так опасны, как поперечные.
Я поворотил больного на спину, чтобы нога лежала в горизонтальном положении, и обмыл рану самою свежею водой, какую только могли найти. Очистив ее от крови, я положил корпию во всю длину и перевязал так, чтобы разверстые края раны сошлись. Потом я велел поднять больного на полотенцах, чтобы переменить под ним тюфяк и простыни, обагренные кровью; велел смачивать рану свежею водою и предписал самую строгую диету. Надеясь, что больной проведет ночь хорошо, я просил позволения уйти, потому что после такого тягостного дня мне самому необходим был покой. Капитан согласился на это с тем, что, если с больным что-нибудь случится, то меня тотчас разбудят.
Я ушел в каюту, и мы остались одни с Апостоли. Тут я вполне оценил его преданность и присутствие духа. Без него труп мой носился бы по волнам, был бы выброшен на какую-нибудь скалу и достался в добычу хищным птицам. Мы снова обнялись, как люди, которые расстались было навеки и каким-то чудом снова сошлись; потом я спросил о нашем экипаже. В живых осталось только тринадцать матросов и пятеро пассажиров; всех раненых, с обеих сторон, побросали в море, и в числе их был и несчастный штурман. Шкипер наш был помилован: он рассказал, что драться положено было без его согласия и что в решительную минуту он спас всех, затопив порох. Апостоли подтвердил его показание. Успокоившись на счет всех наших, я лег и заснул крепким сном.
Часа в два я проснулся; вспомнил о раненом, и хотя меня не будили, следовательно, с ним ничего дурного не случилось, однако же я встал и пошел в каюту капитана. Он совсем не ложился, сидел подле своего сына и беспрестанно смачивал его рану. Лицо его, столь свирепое и страшное в минуту битвы, приняло выражение удивительной нежности и заботливости: это был уже не грозный атаман пиратов, а отец, трепещущий и покорный. Увидев меня, он подал мне руку и просил знаками, чтобы я как-нибудь не разбудил больного.
Молодой человек спал спокойно, без лихорадки, потому что его ослабила сильная потеря крови. Я прислушался к его дыханию: оно было слабое, но ровное; никогда не видывал я ничего прекраснее этого бледного лица, окруженного черными волосами: та была одна из тех благородных головок, которые видим на картинах Тициана и Ван-Дейка и всегда считаем произведениями художнического воображения. Все было хорошо: я успокоил отца, но, несмотря на мои советы, он никак не согласился отойти от постели больного.
Я опять ушел в свою каюту и спокойно проспал до восьми часов. Потом возвратился я к Фортунату. Он уже не спал, страдал лихорадкою: это всегда случается при значительных ранах и потому нисколько меня не тревожило; я велел давать ему прохладное питье, а сам пошел к моему больному.
Увы, тот был совсем не в таком положении! Во время битвы его поддерживали восторженность, потом пламенное желание спасти меня, и он превозмогал свою слабость; но это усилие истощило его. Сейчас после того, как я вечером ушел от него, с ним сделался сильный кашель; потом рвота кровью; затем началась лихорадка, и утром он был так слаб, что уже и не попробовал встать.
Сведения мои в медицине так далеко не простирались, и я не смел уже более лечить его. Я советовал только разные невинные средства, которые обыкновенно предписывают отчаянным больным, чтобы показать им, будто есть еще некоторая надежда. Я остался с ним, потому что рассеяние было для него полезнее всего.
Тут только вполне выказалась мне эта ангельская душа, в которой не было еще ни одной дурной мысли. Как обыкновенно бывает в смертельной, неизлечимой чахотке, он нисколько не предчувствовал опасности своего положения и воображал, что у него лихорадка, которая очень часто случается в Греции, приходит Бог знает отчего и проходит без всякой видимой причины. Я но отходил от него целый день: во все это время он говорил мне только о своей матушке, сестре и отчизне: никакая другая любовь еще не вытеснила из его юного сердца этих чистых чувств. Душа его была подобна прекрасной лилии, которая только что распускается, разливая вокруг себя благоухание.
Вечером я вышел на палубу. Оба судна, сколько можно исправленные, шли рядом милях в двух от берега, который я тотчас узнал, потому что уже видел его, когда мы заходили в Смирну за лордом Байроном: это был остров Хиос. Сколько странных происшествий случилось с тех пор, и мог ли я ожидать их тогда, как месяцев пять назад проходил по этим самым местам на «Трезубце»!
С первых шагов на палубе я заметил, что на меня смотрят с большим почтением: дело в том, что пираты, считая меня искусным врачом, питали ко мне глубокое уважение, как это всегда бывает на востоке. Я не видал ни одного из матросов или пассажиров «Прекрасной Левантинки» и догадался, что их перевели на фелуку.
Проходив с час на свежем воздухе, я воротился к Апостоли. Он был немножко спокойнее и даже не спросил меня, где мы. Разумеется, я не сказал ему, что мы миновали Хиос и, следовательно, Смирну. Казалось, что душа его, сбираясь на небеса, и не заботилась о том, куда везут тело, в котором она еще заключена.
Ночью поднялся шквал, весьма обыкновенный в архипелажском море. Я беспрестанно переходил от койки Апостоли к койке Фортуната. Качка обоих очень беспокоила. Я сказал Константину — так звали пирата, — что больных надобно бы перевести на землю. Он посоветовался на греческом языке с сыном; потом пошел на палубу, вероятно, посмотреть, где мы. Увидев, что мы огибаем южную оконечность Хиоса и находимся почти на высоте Андроса, пират объявил, что завтра мы пристанем к острову Никарии. Я принес эту весть Апостоли; бедный принял ее с обыкновенною печальною улыбкою и сказал, что ему на земле, верно, будет получше.
На третий день после того, как Фортунат получил рану, я хотел перевязать ее; но Константин удержал меня и просил, чтобы я дал ему выйти. Этот кровожадный разбойник, этот человек, вся жизнь которого протекла в битвах, не мог видеть, как перевязывают рану его сына: странное противоречие между чувствами и привычкою! Он ушел ждать на палубу, а я остался с Фортунатом и одним молодым негром, которого Константин прикомандировал ко мне для прислуги.
Я снял перевязки и увидел, что в ране есть небольшое воспаление; поэтому я положил на новую корпию спуску, обвязал рану с прежними предосторожностями и велел смачивать слизистою водою. Потом я пошел на палубу сказать Константину, что сын его начинает выздоравливать.
Он стоял на носу с Апостоли, который, чувствуя себя получше, захотел подышать свежим воздухом. Оба они смотрели на горизонт, где начинал выходить из воды, как скала, остров Никариа, к которому мы шли теперь. Налево от него был Самос, который, по густой зелени своих оливковых деревьев, почти сливался с морем. Услышав от меня радостную весть, Константин тотчас побежал к сыну, и мы остались одни с Апостоли.
Я в первый раз еще со времени сражения увидел его днем, и хотя был приготовлен к этому, однако же испугался, заметив, какую странную перемену произвели в нем трое суток. Правда, что в эти три дня он вытерпел столько сильных ощущений, сколько обыкновенно не бывает с человеком в целый год. Скулы его еще более обтянулись и побагровели; глаза как будто стали больше, и беспрерывный пот светился каплями на лбу.
Мы долго стояли на палубе, не спускали глаз с Самоса и разговаривали о Древней Греции; наконец, суда наши вошли в небольшой порт, где было очень хорошее якорное место.
Пираты тотчас перенесли на берег две палатки и поставили их в некотором отдалении одну от другой, первую на берегу ручья, вторую под тенью небольшой рощи. Они убрали эти палатки коврами и подушками, и обратили отверстие к земле, чтобы больные могли видеть со своих постелей Самос, за Самосом голубую вершину горы Микале, а по сторонам Самоса Эфес и Милет, или лучше сказать места, где были некогда эти города. Потом пираты расположили вокруг палаток свой лагерь.
Когда все было готово, Фортуната понесли в одну из палаток, а другую предоставили Апостоли; потом заставили меня еще раз поклясться, что я не покину Фортуната, пока не вылечу его, и оставили меня на воле. Эта клятва была совершенно бесполезна, потому что я ни за что в свете не покинул бы Апостоли.
В этом бесподобном климате, в тех самых местах, где Афиней видел, как виноград два раза в год цвел и созревал, нечего было бояться ночного холода. Однако же я хотел убедиться в этом собственным опытом и лег спать в палатке Апостоли, а Константин ночевал в палатке Фортуната. Что касается до пиратов, то половина из них расположилась вокруг нас, а прочие остались на судах.
Утром на другой день Константин отправил шлюпку на остров Самос за свежими съестными припасами и плодами. Я просил, чтобы мне привезли козу для Апостоли, и с тех пор не давал ему уже ничего, кроме молока.
Я во второй раз перевязал рану Фортунату, и ему было заметно лучше. Рана начинала уже сходиться в середине, и по всему надобно было полагать, что она заживет скоро. Об нем я нисколько не беспокоился. Но состояние Апостоли было совсем не таково. Всякий вечер лихорадка у него была сильнее прежнего, и всякое утро он был слабее, чем накануне. В первые дни пребывания нашего на Никарии мы всходили на вершину одного небольшого холма, высшей части острова, смотреть на восхождение и захождение солнца; но вскоре и эта небольшая прогулка сделалась слишком утомительною для него. Всякий день он делал несколькими шагами менее и садился отдыхать ближе прежнего к своей палатке. Наконец он уже не мог выйти из дверей и тогда только стал понимать свое положение.
Апостоли был из тех людей, которые возбуждают в сердцах всех его окружающих чувства кроткие и нежные: все его любили и жалели. Я был уверен, что Константин охотно бы согласился отпустить его в Смирну, чтобы он мог умереть на руках родных. Я не ошибся: как скоро я сказал ему об этом, он не только не отказал, но даже предложил перевезти Апостоли в своей шлюпке на остров Теос, потому что оттуда ему уже легко будет добраться до Смирны. Я побежал к Апостоли, чтобы сообщить ему эту приятную весть, но он, к удивлению моему, принял ее довольно холодно.
— А ты? — сказал он.
— Что, я?
— Поедешь со мной?
— Я не спросился.
Апостоли печально улыбнулся, и я поспешил прибавить:
— Уверяю тебя, я не просился от того только, что он, без всякого сомнения, не пустит меня.
— Да попросись же сначала, а там посмотрим, что нам делать.
Я пошел к пирату: тот опять начал советоваться с сыном. Потом Константин сказал мне, что я дал ему слово не покидать Фортуната, пока он не выздоровеет, что он еще лежит в постели, и потому меня никак нельзя отпустить.
Я сообщил этот ответ Апостоли. Он подумал с минуту; потом взял меня за обе руки, посадил подле себя у дверей палатки и сказал:
— Послушай, любезный друг, если бы я мог, прощаясь с матерью, оставить ей вместо себя сына, а сестре брата, я был бы уверен, что они скоро утешатся, потому что будут вполне вознаграждены за потерю. И тогда бы я поехал. Но как это невозможно, то лучше избавить их от горести смотреть на умирающего. Я видел, Джон, как умирал отец мой, и знаю, каково сидеть у постели больного и ждать со дня на день, с часу на час выздоровления, которое все не начинается, или смерти, которая не приходит. Расставание с жизнью ужаснее для того, кто на это смотрит, чем для самого умирающего. Горесть матери и сестры и меня лишила бы бодрости. Там я умер бы под слезами матери, здесь умру под Божией улыбкою. Притом, — прибавил он, — это доставит ей несколько лишних покойных часов. Я даже думал было вот что: хотел скрыть от нее смерть свою; пусть бы она воображала, что я путешествую; я бы оставил тебе несколько писем, и ты пересылал бы их к ней по временам, как будто я еще жив. Матушка женщина старая и хворая; быть может, это счастливое незнание продолжалось бы до самой ее смерти, и тогда только, на смертном одре, она узнала бы, что ей предстоит не разлука, а соединение со мною. Но я не посмел и бросил эту мысль: мне казалось, что мертвому странно было бы лгать. Я обнял его.
— Но скажи мне, ради Бога, Апостоли, откуда ты берешь такие мрачные мысли? Ты молод, живешь в прекраснейшем климате, где воздух тепл и приятен, природа прекрасна. Твоя болезнь была бы смертельна у нас на Западе; а здесь она совсем не опасна. Мы должны думать не о смерти твоей, а о выздоровлении. Когда ты поправишься, мы поедем к твоей матушке, и у нее вместо одного сына будет два.
— Спасибо тебе, любезный друг, — сказал Апостоли с обыкновенною кроткою улыбкой, — но ты напрасно стараешься обмануть меня. Ты говоришь, что я молод, — он попробовал встать и, обессилев, упал, — ты видишь! Что в моей молодости, когда я слаб, как старик! Ты говоришь, что воздух здесь так приятен, природа так прекрасна: этот приятный воздух жжет мне грудь, и я всякий день хуже и хуже вижу эту прекрасную природу… Глаза у меня, любезный друг, как будто завешены каким-то покровом; он всякий день становится гуще и гуще, всякий день окружающие меня предметы теряют постепенно свои цвета и формы. Скоро уже самое яркое солнце будет освещать их для меня как бы сумраком, а от сумрака я незаметно перейду к вечной ночи. Так послушай же, любезный Джон, и обещай мне, что ты в точности исполнишь мою последнюю волю. (Я кивнул ему головою, потому что не мог говорить от слез.) Когда я умру, остриги мне волосы и сними с руки это кольцо. Волосы матушке, кольцо сестре моей. Ты должен объявить им о моей смерти: ты сделаешь это осторожнее, нежнее всякого другого. Войди к ним в дом, как древние вестники, с веткою железняка в руке, и так как они уже давно не будут иметь обо мне никаких известий, то поймут, что я умер.
— Я сделаю все, что ты хочешь, — отвечал я, — но, ради Бога, не мучь меня такими мрачными мыслями.
Я встал и хотел уйти: боялся, что зарыдаю.
— Не уходи же, — сказал Апостоли, — и не печалься так. Ты знаешь, что мы умираем для новой жизни. Мы, греки, всегда были и будем людьми верующими. И, право, брат, тот, кто умирает веруя, счастливее того, кто живет без веры!
— Это до меня не относится, Апостоли, религии наши различны между собою в некоторых догматах, но я воспитан матерью, верующею и набожною, с которой я, к несчастью, разлучен, по всей вероятности, навеки. Я, так же, как и ты, верую и надеюсь.
— Ну, так послушай же, — сказал Апостоли, — мне бы хотелось священника. Позови ко мне Константина; мне надобно попросить его об этом и еще о многом другом.
— Чего ты хочешь просить у него? Не забывай, что мне будет обидно, если ты станешь просить другого о чем-нибудь таком, что я мог бы сделать для тебя.
— Я хочу просить, чтобы он освободил пленных матросов и пассажиров в день моей смерти, чтобы они и все, кто их любит, благословляли тот день и молились за меня, как за своего избавителя.
— И ты воображаешь, что он на это согласится?
— Помоги мне только воротиться в палатку, Джон, потому что мне холодно, и поди, приведи его.
Я уложил Апостоли в постель, потому что он был так слаб, что сам уже не мог ходить, и потом привел к нему Константина.
Они проговорили с полчаса на греческом языке, которого я не понимал, но по выражению голоса Константина я догадался, что пират соглашается на все, о чем Апостоли его просит. На одно только он, казалось, не решился; наконец сказал несколько слов с умоляющим видом, и Апостоли, по-видимому, перестал настаивать.
— Ну, что? — спросил я, когда Константин ушел.
— Завтра приведут мне священника; в день моей смерти все пленные будут освобождены; одного только тебя, Джон, он, именем моей матери, просил оставить у него, пока Фортунат не поправится. Извини меня, он просил именем моей матери, и я не в силах был отказать. Я обещал за тебя, что ты поедешь с ним на остров Кеос.
— Я исполню твое обещание, Апостоли. Изгнанному все равно, где жить. Только скажи, ради Бога, какими же судьбами он согласился на такое пожертвование?
— Мы оба принадлежим к обществу гетеристов, основанному для возрождения Греции, — отвечал Апостоли, — и по нашим правилам каждый член общества обязан исполнять все, о чем другой просит на смертном одре… Я на смертном одре просил его освободить своих пленников: он согласился.