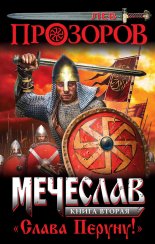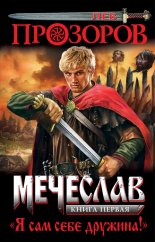Убийство под аккомпанемент Марш Найо

— Давай! Да донеси же! Донеси! — Морри за дверью поднялся на ноги. Его голос опять сорвался на фальцет: — Но рассказывать-то буду я. Я! Если я сяду, то сотру ухмылочки со всех ваших лиц. Ты еще главного не знаешь. Только попробуй меня подставить. Это мне-то конец?! Да я только начал. Вы все услышите, как я раскроил сердце проклятому даго!
— Вот оно, — сказал Аллейн и толкнул дверь.
Читать бесплатно другие книги:
Неугомонная и отважная сыщица Франческа Кэхил перебирается из своего уютного мирка на Пятой авеню в ...
В эту книгу вошли наиболее известные работы великого ученого – «Мышление и речь», «Воображение и тво...
Новый языческий боевик от автора бестселлеров «Святослав Храбрый», «Евпатий Коловрат» и «Русь язычес...
Он рожден с благословения Бога войн и наречен в честь отцовского меча. Он убил первого врага в девят...
Три бестселлера одним томом! Лучшие современные романы о Сталинградской битве, достойные войти в «зо...
Апокалипсис давно наступил. Люди не живут, а выживают. Но есть еще те, кому не писаны законы нового ...