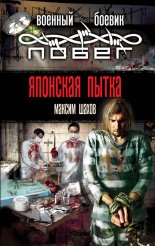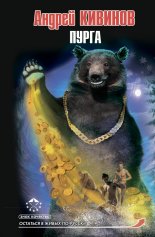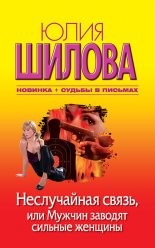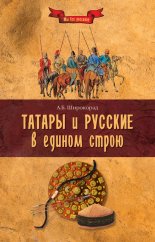Налог на Родину. Очерки тучных времен Губин Дмитрий
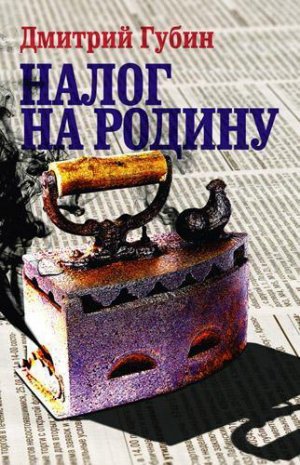
Я даже думаю, что строительство и ремонт в России – это одно из средств уничтожения памяти, чтобы ничто не напоминало о прошлом и чтобы ничто не заставляло думать о будущем.
Все должно продержаться десять лет (ну, максимум двадцать), а потом все равно мы все полностью переделаем, потому что придет время проклинать старых правителей и курить фимиам новым. Так было всегда – во времена пышного Штакеншнейдера с большой охотой уничтожали нежные интерьеры Камерона, – и так было всюду, от дворца до простейшей квартирки, причем и дворцы, и старые дома сносились и сносятся с одинаковой легкостью, а ценностью ЮНЕСКО объявляется то, что чудом выпало из этих жерновов.
Потому-то сейчас и невозможно обставить в духе эпохи квартиру в «сталинском» стиле (обстановка тех лет практически полностью уничтожена) и уже почти невозможно в «хрущевском», а скоро нельзя будет и в «брежневском».
Противостоять этому можно, но ужасно трудно, – желание разрушить до основания нынешний порядок вещей сродни желанию уничтожить старый декор, дабы создать новый все в той же тюрьме: революция, кроме конца любви, – как справедливо замечал Достоевский, – ни к чему не приводила.
И я в этом смысле не за революцию, но за кризис, который есть не столько потрясение устоев, сколько встряска сознания.
Мне все-таки хочется верить, что тряханет – и пойдут вдруг забытые в чулане прабабушкины жестяные ходики с кукушкой, и владелец чулана вдруг осознает, что именно они, а не современная имитация создадут уют на его даче.
Или что люди потеряют работу, потеряют деньги – зато обретут свободное время и свежим взглядом окинут свое жилье, и сами возьмутся за шпатель и кисточку и, допустим, вместо дорогущего модного кафеля (размер 20x40, цвет черно-коричневый металлизированный) поклеят туалет старыми газетами, пустив затем под лак с серебряными разводами, – и будут счастливы от того, что создали стиль, напоминающий о смене времен.
Много есть вариантов, как жизнь логичнее, разумнее, грамотнее, душевнее устроится после того, как ее вдруг тряхнет, и русские усвоят урок этой встряски.
Хотя честно скажу: у меня надежда на усвоение хилая.
Просто ничего, кроме надежды, нет.
2009
Господа, вы – звери!
Вы не ловили себя на мысли, что нелюди, измывающиеся над нами в каждом казенном присутствии, сами по себе – милые и симпатичные люди?
Л не думали, почему в нелюдей они превращаются так быстро?
Не знаю, одному ли мне присуща мимикрия, но каждый раз, пересекая границу РФ, я невольно меняю выражение лица, – правда, если верить маркизу де Кюстину, такое было свойственно русским еще в 1839 году.
То есть, отправляясь за границу, я расслабляюсь и начинаю изъясняться посредством того, что французы называют formule de politesse, – «будьте добры!», «спасибо!», «благодарю!» и так далее. Хотя впереди, допустим, меня ждет не рай, а изнурительная очередь на паспортный контроль в аэропорту Хитроу.
А возвращаясь под сень родимых осин, я внутренне сжимаюсь и подогреваю в себе то, что лучше всего назвать «готовностью к хамству» (и тут я себя не обеляю: стыдно признаваться, но я готовлюсь не только к тому, что будут хамить мне, но и к тому, что в ответ буду хамить сам), – хотя еще ничего плохого не случилось, пограничники во мне не засомневались и таможенники не стали перетряхивать чемодан (они, кстати, потрошат багаж в основном на миланских рейсах).
То есть я веду себя как битый пес – который, когда его подзывает хозяин, поджимает хвост и виновато опускает морду. Хотя его, возможно, хотят погладить, а не шлепнуть тапкой.
Потому что шансы огрести тапкой весьма велики.
Я даже составил краткий список шлепков, которые моя семья в последнее время получала.
Вот жена в очередной раз проснулась в пять утра, чтобы спозаранок выехать из Петербурга за 130 километров в Выборг. В Выборгском районе у нас участок в садоводстве, на приватизацию которого в ходе разрекламированной «дачной амнистии» мы подали два года назад документы. И с тех пор тянем арестантскую лямку: документы не готовы, по телефону разговаривать никто не желает и раз в месяц в Выборге нужно с песней жаворонка занимать живую очередь. В девять утра комитет по землепользованию начинает работать, и, коли повезет, к полудню очередь подойдет, и моя жена услышит в очередной раз, что «вас много – я одна, документы не готовы, приезжайте через месяц» (я с женой по этой причине в Выборг не езжу: боюсь сорваться и устроить скандал).
Я так сорвался недавно в миграционном отделе, который ныне вместо ОВИРа ведает выдачей загранпаспортов: отстоял с утра полтора часа в очереди на выдачу талончиков на стояние в очереди на подачу документов, после чего час отсидел в основной очереди, наблюдая, как ждущие сносят унижения, а принимающие – их унижением наслаждаются. Кульминация случилась, когда из кабинета вышла заплаканная женщина: они с дочерью подали документы на загранпаспорта одновременно – и вот мама паспорт получила, а дочь нет, хотя прошло полтора месяца, и теперь пропадает отпуск… «Значит, ФСБ вашу дочку проверяет! – отчитывала женщину миграционная тетка. – Нам тут не сообщают, когда ваши документы будут готовы!» «Мою дочку – ФСБ? Но ведь ей 14 лет!» – содрогалась заплаканная, и вот тут я, каюсь, взорвался, продекламировав вслух: «Россия – великая наша держава!» Но в ответ на исполнение гимна предсказуемо услышал, что если еще раз пикну – окажусь в милиции…
Кстати, о милиции. Последняя взятка, которую мне пришлось дать гаишнику, была совершенно прелестна. Я делал левый поворот на шоссе, где делал этот поворот всегда и где даже есть знак, разрешающий поворот. Однако там нанесли новую разметку, исключающую поворот, – и, понятно, в местные кусты поселили гаишника, целью которого было взятки брать. (Ну ведь не радеть же о безопасности движения, верно? Я даже порой думаю о том, что гаишники не вполне люди, то есть не вполне мужчины, ибо не обладают ни одним качеством, делающим млекопитающее мужчиной, то есть ни честью, ни совестью, ни ответственностью, ни благородством: ответственность предполагала бы изменение либо разметки, либо знака.) Гаишник даже объяснять ничего не стал, а с ходу спросил: «Ну что, желаем отдать через Сберкассу полторы тысячи родному государству или как?» Я спешил на поезд; экономия времени (и средств) заключалась в «или как».
Я, впрочем, не стремлюсь разжалобить никого списком несправедливостей. Тем более что пополняется он ежедневно – нужно бы добавить в него и поликлинику, к которой я приписан (там недавно появились два компьютера, на обоих распечатывают талоны статистического учета, без которых к врачу не попасть; а попасть к врачу можно, только отстояв очередь за талоном, – и надо ли говорить, что ведает талончиками злобнейшая мегера?).
Я просто хочу обратить внимание, что вполне себе милые, симпатичные, знающие страдание и сострадание люди (да, я уверен, что мегера из поликлиники дома – добрейшая бабушка, обожающая внука и дивно варящая компоты из ревеня) мгновенно превращаются в сволочей там и тогда, где и когда они начинают выступать от имени государства.
А когда они отрешаются от своей государственной ипостаси – с ними вновь вполне можно иметь дело: с теми же гаишниками у меня порой случались задушевные разговоры. Да и тот, последний, что хотел слупить с меня тысячу наличными за неправильный поворот, оказался несравненным болтуном. Сначала заявил, что считает всех журналистов виновными в развале СССР, однако потом выяснилось, что и развал России считает делом решенным (гаишник здраво рассуждал, что развал начнется с Дальнего Востока, где запрещают иномарки с правым рулем, вместо того чтобы вводить левостороннее движение), – в итоге сумма сократилась до пяти сотен.
И тетка в миграционной службе, которая угрожала милицией, – она, приняв документы, вдруг припомнила, что видела меня по телику вместе с Дибровым, и в итоге оказалась никакой не фурией, а симпатичной девушкой, которая рассказала мне, что «биометрические» загранпаспорта на самом деле никакие не биометрические, но что их делают в Москве, откуда и такие очереди, и что у четырнадцатилетней девочки с ФСБ действительно могли случиться проблемы, – если, например, у нее папа «по линии ФСБ» проходил. Словом, она честно пожаловалась на жизнь, покритиковала службу и даже успела состроить глазки.
И этому феерическому российскому перевоплощению, рядом с которым отдыхает чеховский надзиратель Очумелов, есть объяснение.
Студенту, изучающему социальную психологию, обычно уже на первом курсе рассказывают о так называемом стэнфордском тюремном эксперименте, проведенном в 1971 году американским ученым Филиппом Зимбардо. Эксперимент этот знаменит среди психологов примерно так же, как среди физиков – яблоко, упавшее на Ньютона (или как среди стрелков – яблоко, поставленное Вильгельмом Теллем на голову сына). Но даже если вы никогда не изучали социальную психологию, то, возможно, видели фильм «Эксперимент» Оливера Хиршбигеля – это о том же.
Суть эксперимента в том, что группу добровольцев, никогда не имевших проблем с законом, посредством жребия поделили на заключенных и надсмотрщиков и поселили в условную тюрьму, устроенную прямо на психфаке. Все участники эксперимента отдавали себе отчет, что это игра, все знали, что игра ограничена во времени, все были психически здоровы – и тем не менее практически мгновенно сделали сказку былью.
Перед началом эксперимента Зимбардо сделал для «тюремщиков» лишь одно заявление (прошу, прочитайте внимательно!): «Создайте в заключенных чувство тоски, чувство страха, ощущение произвола, того, что их жизнь полностью контролируется нами, системой, вами, мной, и у них нет никакого личного пространства… Мы будем разными способами отнимать их индивидуальность. Все это в совокупности создаст в них чувство бессилия. Значит, в этой ситуации у нас будет вся власть, а у них – никакой».
При этом Зимбардо не объяснял «тюремщикам», какие конкретно действия нужно предпринимать: они до всего дошли своими мозгами, начав на полную катушку и безо всякой условности кошмарить «заключенных» в камерах (и даже, если ничего не путаю, мочить в сортирах).
То есть абсолютно условная тюрьма на глазах наблюдателей превратилась в тюрьму безусловную. Более того, когда стэнфордский эксперимент повторяли, результат был неизменен. Те, кто назначался в тюремщики, начинали изводить тех, кто назначался в заключенные, потому что это давало им власть.
Или, наоборот, получение власти требовало издевательств.
Судите как хотите: важно, что эта штука работает с прогнозируемым результатом.
А вот теперь надо возвращаться из Стэнфорда на родину.
Я в развитии чувств к своей стране всякие фазы проходил.
И брежневского отчаяния, и горбачевских надежд, и революционного настроя, и – довольно часто – желания изменить систему путем локальных технических перемен (а вот хорошо бы, например, заменить гаишников видеокамерами или отменить вообще внутренние паспорта).
А теперь вижу, что дело не в плохих законах, не в садистских наклонностях правителей и уж точно не в коррумпированности госслужащих, с которой сейчас ведется столь же беспощадная борьба, что и при Екатерине II (и с тем же примерно результатом).
Теперь я понимаю, что изменить невозможно ничего: при этих размерах, при этих пространствах, при этих миллионах населения, при этой генетической (для интеллектуалов: меметической, то есть от слова «мем») памяти. Все равно: из деталей швейной машины, вынесенных с местной фабрики, собрать получится только автомат Калашникова, а другого производства в нашем городе нет.
То есть вариантов жизни под родными осинами существует три: либо быть надсмотрщиком, либо заключенным, либо – такое порой тоже дано – убраться из игры прочь, выкатиться на волю «трамвайной вишенкой» (по определению Мандельштама) и «жить в глухой провинции у моря» (по определению Бродского).
То есть свести свои контакты с системой к минимуму: не лечиться в больнице, не ездить на машине, не бывать за границей, вообще не высовываться, – уйти в вечное поколение «дворников и сторожей». Потому что в первых двух случаях выбор роли палача или казнимого, заключенного или надзирателя есть не результат личной воли, а дело случая, как и в стэн-фордском эксперименте: это подметил еще Галич, спев о том, как вчерашние вохровец и зэк пьют вместе водку. Раз никто ни в чем не виноват, то и каяться не в чем. И я даже думаю, что пресловутая русская душевность, большей частью выказываемая во хмелю, когда любой круг ада становится ближним, – это какая-то отчаянная компенсация за то, что даже и грех здесь совершаешь не по своей воле.
Вот так оно есть, и так оно идет, и так оно будет идти – нравится нам или нет, и если я пишу этот текст с определенной целью, то она такова: к этому надо быть готовым. К этому вполне кафкианскому и абсолютно русскому превращению людей в нелюдей – и наоборот.
И не спрашивайте, бога ради, можно ли этот порядок вещей изменить.
Про стэнфордский тюремный эксперимент, про его ход и результат я слышал и читал много раз.
Про эксперименты же по выходу из стэнфордского эксперимента мне ничего не известно.
Хотя, конечно, ужасно хотелось бы этот второй эксперимент наконец провести.
Моя трехгрошовая опера
Весь фокус не в том, что кто-то поднимает цены, а в том, что они сами растут. А растут потому, что знают: маленьких в России не уважают
– Люди-и-и-и! Вы что, сдурели-и-и-и? У-у-у-у-у-у-у-у-У-У-У!
Я ведь давно чувствовал, что однажды начну писать в тональности чуть истеричных нотаций Татьяны Москвиной.
Татьяна Москвина, если кто не знает, – петербургский публицист, или, по нынешней моде, колумнист, пафос колонок которой сводится, грубо говоря, к тому, что, в то время как жулики раскатывают на стометровых яхтах и жрут омаров, интеллигентный человек не может позволить себе чашки чая в кафе. Эта чашка ныне в Москве-Петербурге стоит примерно 100–150 рублей при себестоимости в трешку.
По деталям заметно, что Москвина разницу между пятидесятиметровыми и стометровыми яхтами представляет слабо (как и разницу между омарами и лангустинами), зато цены на чай и кофе в кафе – хорошо. Таков вообще удел многих журналистов, не связанных с миром глянца. Однако, в отличие от прочих журналистов, Москвина печет, как горячие пирожки, еще и книги своей публицистики, и – невероятное дело! – эти книги именно как горячие пирожки и расхватывают. Об этом мне шепнул ее издатель. Он же шепнул, что главная аудитория Москвиной – интеллигентные дамы из бывших. То есть предпенсионного возраста врачихи, училки, библиотекарши, оставшиеся доживать в советском логоцентричном мире, не принявшие эстетику глянца, но сохранившие представления о добре и зле. А Москвина так громко, кликушески вещает о добре и зле, что ее читают порой даже те, кто иметь бы яхты мог. И в этой правде, брат, – сила. Скажем, утверждение: для покупки стометровой яхты надо 100 раз продать душу дьяволу и спуститься ниже девятого круга ада – тоже кликушество, но, положа руку на сердце, разве вы не согласны?
Меня же перейти на интонацию популярной писательницы заставили две банальные вещи: утренний набег в московский гастроном да визит в фирменный автосервис, где на моем средних лет «ситроене» по причине царапин предполагалось кое-что подкрасить.
То есть утром я беззаботно швырнул в магазинную тележку пару пачек обезжиренного творога, литр кефира, филе замороженной американской индейки и еще кое-что из низкокалорийных мелочей, рассчитывая уложиться рублей в триста-четыреста. И решил, что кассирша обсчиталась, объявив сумму под тысячу. А когда глянул в чек, то ахнул. Кефир стоил 60 рублей («Я вам всем русским языком объясняю: это же биокефир!» – сказала кассирша таким голосом, что стало ясно, что ее этим кефиром уже достали. Не исключаю даже, что доставала заскочившая на день в Москву Москвина). Каждая худющая пачка творога – еще под 100. Мороженая индейка – 380 за кило, как вырезка на рынке.
«Слушайте, это же недавно было вдвое дешевле!» – сказал я кассирше. «Всюду все дорожает», – ответила она.
Я прикусил язык. Не будешь ведь возражать, что недавно встречался с главой компании «Русские фермы» Андреем Даниленко (выросшим, кстати, в Америке; у него и подданство американское): Андрей жаловался, что оптовые цены на сельхозпродукцию идут вниз. И не будешь ведь говорить, что в питерском магазинчике я точно такую же индейку покупаю вдвое дешевле.
Потому что кассирша абсолютно права: в кризис падают только доходы (включая гонорары журналистов). Цены же прут вверх с необъяснимым, я бы даже сказал (о, Москвина, Москвина!) – с торжествующим хамством. Хамство – это ведь не когда экономический резон. Хамство – это когда уверенность, что тебе не ответят, потому что нечем отвечать.
В чем я убедился днем того же дня в фирменном автоцентре, расположенном в тени неоапмирной высотки «Триумф-Палас», – как блондинка держится в тени спонсора. Вышедший злобный мастер, едва глянув на мою машинку, с ходу сказал, что покрасить одну деталь – скажем, крыло – будет стоить 15 тысяч, а если придется в целях рихтовки стукнуть крыло раз-другой киянкой, то тогда и все 20. А поскольку у меня царапины и тута, и тута, и тама, то перекрашивать мою бандуру надо бы целиком, это встанет тыщ в триста, причем запись на три месяца вперед, а если я не хочу, то и не надо, ему на такую мелочевку плевать.
Мастер, отдаю должное, был психологом.
Он с ходу вычислил, что я «не хочу», хотя я не проронил ни слова, ибо потерял дар речи.
Во-первых, мне казалось, что моя бандура стоит немногим дороже 300 тысяч, – а ведь она, помимо окрашенных поверхностей, содержит еще и стекла, колеса, кресла и даже работающий мотор.
А во-вторых, мастер не производил впечатление человека, которому плевать на 300 тысяч рублей. Он производил впечатление человека, которому плевать на чужие 300 тысяч, причем потому, что никак не может скопить свои, – и отметить это мне кажется важным.
То есть отметить, что рост российских цен в условиях нынешнего кризиса (когда падает не рубль, а доход) происходит не по взмаху руки невидимого дирижера. Он – совместный заговор всего театра: от солистов до хора, от первых скрипок до кордебалета (при соответствующих ожиданиях зала). Заговор состоит в том, что все теряют (или боятся потерять) доходы, а потому взвинчивают цены, не обращая внимания на завтрашний день и здравый смысл, не говоря про уважение к профессии или совесть.
Потому что ничем другим это сумасшествие нельзя объяснить, правда.
Милая Москвина, давайте покричим вместе: лю-ди-и-и, вы сошли с ума-а-а-а-а-а-а!
Или сошел с ума я.
Потому что никак не могу взять в толк: отчего дорожает бензин, если нефть дешевеет, а налоги и акцизы не меняются?
Отчего на железной дороге мне втюхивают прозрачную коробку с невкусным йогуртом и жирной колбасой, причем это навязанное трехгрошовое безобразие, называемое жеманным словом «ланчик», прибавляют к цене билета примерно 400 рублей – стоимость двух бизнес-ланчей на Тверской?
Отчего цены на железную дорогу растут каждый год и почему на обычном поезде от Москвы до Питера ехать уже давно дороже, чем от Парижа до Биаррица – на скоростном?
Почему, когда я затеваю ремонт, мне в первой попавшейся компании, не моргнув глазом, оценивают доставку новых подоконников в 55 тысяч рублей (да-да, именно доставку: за изготовление – отдельная цена)?
Отчего в магазине люстр мне на голубом глазу предлагают «монтаж изделия с гарантией два года» за 4800 рублей – это что, повесить лампу на крюк и соединить два провода равно пенсии моей тещи, причем через два года лампа имеет право упасть?!!
Почему в Питере и Москве цены на обувь начинаются с суммы, с которой они заканчиваются в Барселоне или Риме?!!
Как может в распивочной рюмка «Путинки» стоить 150 рублей за 40 граммов?!!
Отчего в любой кофейне «Кофе Хауз» полдюжины заполошных официантов замечают клиента не раньше чем через четверть часа, а потом за 120 рублей приносят эспрессо, за которое любой итальянский бариста набил бы всему персоналу морду?!!
Это они сошли с ума или я?!!
Люди-и-и-и-и-и!!!
Ей-богу, я знаю только один пример, когда в условиях кризиса снизились цены. Во Франции сейчас во многих ресторанчиках цена на блюда демонстративно перечеркнута и снижена на евро-полтора. В меню – приписка: «Нам снизили НДС, мы вам снизили цены».
Если бы у нас НДС отменили, цены бы только подпрыгнули.
Вон, у меня под окнами шалман «Плов» переименовался в «Барбарис».
Официанты все те же, интерьер тот же, и стряпня та же, и даже тарелки.
Но цены в секунду выросли вдвое.
Люди-и-и-и-и-и-и-и!
Я ведь действительно в этой вакханалии вижу общую вину.
Потому что как-то так в современной России сложилось, что принято уважать не деньги, а большие деньги, – а маленькие деньги принято презирать.
И по этой причине продавщица в вокзальном ларьке смотрит на меня с презрением, когда я прошу дать мне самую дешевую минеральную воду, а самую дешевую я прошу дать потому, что платить полета рублей за пол-литра «Святого источника» считаю глупостью, даже если бы ее исторгал из скалы лично Моисей.
И с еще большим презрением она смотрит на меня, когда я забираю до копейки сдачу, а окончательно испепеляет взглядом, когда нагибаюсь за упавшей мелочью. Но без мелочи мне не купить в автомате (так дешевле) утренние газеты: недостающий рубль может лишить меня «Ведомостей» или «Коммерсанта». Кстати, «Ведомости» месяца три назад подорожали разом с 15 рублей до 20, хотя, спрашивается, с чего?! Ведь цены на бумагу все те же, а зарплату в издательском доме – знакомые жаловались – урезали на 10 процентов…
Люди-и-и-и-и-и-и-и-и! Соседи по палате! Совместно больные!
Мне порой кажется: это не торговцы, забыв стыд, приличия и уважение к себе подобным, повышают цены в немыслимом прыжке.
Это сами цены, зная, что маленьких у нас не уважают и слабеньких у нас бьют, – растут, не обращая ни на кого внимания. Потому что совесть и честь от процесса добычи денег в современной России отделены примерно так же, как избиратель от выборов.
Только предчувствую я, что мы загоняем себя в угол и в тупик.
Я тут улетал как-то из аэропорта Внуково. И, пройдя спецконтроль, на котором, как известно, заставляют выкидывать в мусорное ведро прихваченную воду, остановился у буфета. А цены там были примерно таковы: чай – 230 рублей, минералка – 180, бутерброд – 400. И другого буфета и других цен не было. А рядом со мной таращилась на эти ценники замордованная провинциальная мамаша, которую дергали за подол трое шумных, громких, бесцеремонных детей, готовых немедленно зареветь, если им не купят шоколадку, бутерброд и кока-колу.
И я подошел к буфету, чтобы проделать то, что порой делал в начале девяностых, когда в стране не было денег, а у меня появились: то есть купить детям попить.
Но, глянув в кошелек с несколькими жалкими сотнями, понял, что помогать надо мне, – ведь карточек они не принимали.
Исторический круг замкнулся.
Я снова был унижен, как во времена СССР.
Люди-и-и-и-и-и-и-и-и-и!
Москвина-а-а-а-а-а-а-а-а-а!
2009
Подзаборная философия
Растет благосостояние народа.
Раньше, гуляя по садоводству, мы с женой разглядывали, у кого что в хозяйстве прибавилось, кто соорудил баньку, а кто тепличку, – теперь же невинному вуайеризму приходит конец.
Нечего пялиться на чужие караваи. Участки стремительно обрастают заборами. И дешевая сетка «рабица», натянутая на столбиках, и сооружения вроде калиток из спинок от железных кроватей (воспетые Иосифом Бродским – «Ты забыла деревню, затерянную в болотах…») – все это остается в бедном советском и в перестроечном прошлом.
Любопытен в загородных привычках новый зверь – приподнявшийся финансово россиянин. То есть любопытно, на что он тратит свои кровные – те, что остались после покупки иномарки. Весьма примечательно, что эти деньги идут не на создание удобств, недостаток которых так характерен для русской жизни за городом. То есть разбогатевший русский дачник не спешит объединяться с соседями ради асфальтирования дороги, устройства капитального водопровода, ночного освещения или – что вообще из разряда фантастики – нормальной канализации. (У одной нашей родственницы, вон, коллективный доступ к воде в садоводстве вообще исчез: колонки заилились, трубы сгнили, и все выкручиваются поодиночке. Кто-то роет колодец, а родственница возит воду на себе в бутылях.)
Но этот новейший садовод и дачник с лихостью и размахом тратит деньги на новый забор. Причем лишь один из появившихся в нашем поселке заборов имеет европейский – то есть прозрачный – вид. Все остальные – глухие, мощные, грозные.
На заборы даже появилась местная мода. Скажем, вдоль главной улицы выкупила участки компания военных моряков: у них столбы сложены из силикатного кирпича, а заборные доски сбиты внахлест и крашены в коричневый цвет. Теперь прогулка по поселку неуловимо напоминает поход по средневековому городу, хотя полному сходству мешают, конечно, торчащие над забором на флагштоках военно-морские флаги, запах шашлыка и радио, во всю дурь уверяющие, что шашлычок под коньячок – вкусно очень.
В другом, примыкающем, садоводстве половина дачек огорожены заборами из кровельного железа: впечатление, как будто у всех съехала крыша.
В третьем поселке повырастали одинаковые заборы из литых железобетонных секций: литье было высокохудожественным, то есть с пущенными для красоты поверху балясинами, – однако цемент оказался, увы, не столь добротным. За пару сезонов балясины раскрошились, явив миру ржавую арматуру: ужасно напоминает заброшенное кладбище.
Ну и прямо у озера самый наглый длиннющий забор откусил кусок воды. Недавно он покрылся граффити с руганью в адрес Госнаркоконтроля – подозреваю, что именно в этом ведомстве получают зарплату (и, судя по размерам домища, немалую) укрывшиеся за забором земле– и пляжевладельцы.
Впрочем, я вовсе не собираюсь сетовать на нарушение природо– и водоохранного законодательства, которое на Карельском перешейке под Питером, где озеро на озере сидит, нарушается сплошь и рядом. Что время тратить? Да прямо в центре Петербурга, на Крестовском острове, судьям перебравшегося в Северную Пальмиру Конституционного суда выстроили виллы, оттяпав кусок набережной, чтобы никто мимо шастать не смел, – и ничего, пипл схавал.
Я так подробно описываю российское заборное дело, потому что хочу провести маленький эксперимент. Пожалуйста, прямо сейчас, ни на секунду не задумываясь, дайте ответ: для чего надо вообще возводить вокруг несчастных шести или даже, черт с ним, двадцати соток забор, а?
Ну, глупости, что забор защищает «от больных бешенством лис» (я такое слышал), мы в расчет принимать не будем. Скажем, на Аландских островах, что между Финляндией и Швецией, зверья обитает такое количество, что ночью от топота вздрагивает арендованный коттедж, – однако ж заборов я там не видел (и покусанных лисами – тоже).
Защита от лихих людей? Тоже глупость, потому что лихим людям – и даже бомжам, шляющимся, как медведи-шатуны, по оставленным на зиму дачкам, – никакие заборы не помеха. У нас на том же озере, что захвачено наркоконтрольщиками, появился лет десять назад поселок с каменными домами, тут же прозванный «поселком миллионеров». Самый большой домина (имитирующий, понятное дело, замок) был обнесен и самым богатым забором с ковкой и литьем. И что? Когда владеющее замком семейство ужинало, в окно швырнули гранату. И уже который год обгоревший остов замка стоит пустой среди бурьяна: владельцев убило взрывом.
Забор как показатель статуса? Это тоже версия на «троечку». То есть да, одна знакомая девушка, чьи родители обитают в поселке с каким-то номенклатурно-секретным названием, не то в Жуковке-2, не то в Горках-11, как-то объяснила разницу между слугами народа: «Понимаешь, Дим, у этих забор всего в три метра, а у этих полноценные пять. Но мой папа скромный, у нас четыре». Однако и в садоводстве «Лебедевка», и в садоводстве «Лесник», и в садоводстве «Энергетик» высотой заборов мериться пока что ума (не) хватает…
Как видите, простой вопрос оказывается не прост.
И пока вы над ним размышляете, я прерву на время этот сюжет, чтобы начать следующий.
В этом году, в один из благостных солнечных апрельских дней, мы веселой компанией ехали по Альпам. Люди среди нас были разного возраста и достатка, но нас объединяла любовь к горным лыжам, заставлявшая ловить последние дни сезона. Дорога вилась по прекраснейшей, нежнейшей – когда еще и снег, но уже первая зелень – Нижней Савойе. Монблан сверкал сахарной головой. На оттаявших лужайках паслись овечки. Одним словом – пастораль.
И, разумеется, мы говорили о том, о чем всегда говорят русские за границей. А они всегда говорят о том, почему Россия не Европа. Но наша тема обрела вот какой поворот. Любые жизненные блага человек получает из двух источников. Первый – это лично заработанные деньги, которые он волен потратить на квартиру, машину, мебель и отдых в Альпах. Второй – источник общественный, из которого человек получает, допустим, вылизанные леса, сады, парки, прекрасные дороги, чистый воздух, пекущихся о безопасности полицейских и аккуратненькие дома соседей, которые не портят, а, напротив, украшают вид из окна. И в Европе совершенно понятно, что этот общественный, общий источник, что эти, например, Альпы с овечками и скоростными подъемниками, отельчиками и промаркированными трассами – результат труда множества поколений. Это такое общее наследство, причем столь богатое, что черпать из него может не только житель Евросоюза, а любой понаехавший тут, как мы. Более того, этот источник общественных благ (принимающий порой удивительный вид – например, бесплатных государственных музеев в Великобритании или питьевой воды из-под крана в Скандинавии) столь велик, что обычный европеец оказывается богаче российского миллионера. Потому что, к сожалению, Россия действительно не Европа: наше наследство – брошенные деревни да загаженные леса.
И вот тут в разговор вступил молодой человек по имени Кирилл. Он был юн, энергичен, неглуп и невероятно горд тем, что только что стал одним из топ-менеджеров российской компании, имя которой у всех на слуху. Кирилл сказал, что мы несем чушь. Что Россия – крутейшая страна в мире, развивающаяся так, как дряхлой (хотя и чистенькой, да, это Кирилл признавал) Европе не снилось. Что в Европе парень в 26 лет никогда и ни за что не сможет стать топ-менеджером, объездить весь мир, отужинать в лучших ресторанах и отметиться в лучших отелях. Что человек с энергией и мозгами сегодня в России может заработать такие деньги и в такие сроки, какие не снились ни французам, ни швейцарцам, ни немцам. Что глупо рассчитывать на какое-то коллективное наследство и общественный источник благ – нужно рассчитывать на себя и устраивать персональные Альпы прямо в личном саду. А ныть, стонать, жаловаться и мечтать о жизни как в Европе – удел лузеров.
Мне даже показалось, что Кирилл был готов сказать «не нравится – так валите отсюда» и не сказал только потому, что уж слишком странно звучала бы эта фраза на полпути между Женевой и Межевом.
И то поколение, которое постарше, конечно, кинулось в спор и ответило, что Кирилл нас абсолютно не понял. Что мы говорим о богатстве как о кормлении от двух пирогов. И что богатство страны (то есть богатство людей) определяет все же общий пирог. И что в Европе каждый от него получает огромный жирный кусище, а в России – дай бог, если корочку.
Но в том-то и дело, что Кирилл все правильно понимал. Просто он был уверен, что сильные – это те, у кого больше денег. А потому – к черту нытиков и неудачников: покупай свой «мерседес» и встраивай в свою ванную джакузи, закладывай на стапелях свою яхту и строй свой дом – богатство твоей страны прирастет твоим богатством.
Что мы могли ему возразить? Что к яхт-клубу все равно придется добираться по разбитой узкой дороге, увешанной венками в память разбившихся до тебя? Что в городской квартире будет невозможно распахнуть окна по причине пыли и выхлопных газов? Что за забором виллы или охраняемого паркинга тебя все равно будут ждать неизбывно пьяные мужички у сельпо? Мы не могли ему даже сказать: «Посмотрим, Кирилл, что ты заговоришь, когда тебя уволят», – потому что, разумеется, тогда еще не знали, что через три месяца это случится.
И вот тут я возвращаюсь к главной причине, которая, на мой взгляд, и определяет рост российских заборов, подобно тому, как тепло и дожди определяют рост грибов.
Дело в том, что забором в России отгораживается не человек от внешнего мира, со всеми его угрозами, некрасивостями и неприятностями. Забором в России отделяют внешний мир от себя. Забор – это манифест и позиция: я не отвечаю ни за что, что вне моего персонального участка. Ни за лес, ни за озеро. Ни за настоящее, ни за будущее. Ни за жизнь соседей, ни за безопасность прохожих. Ни за всеобщее потепление, ни за политическое похолодание. Ни за судьбу своей страны, ни тем более за судьбу страны чужой. Размер моей ответственности ограничен моими сотками, и вот внутри их я буду строить свои Версаль и Кенсингтон-гарденс (в том представлении, в каком они существуют у живущих за забором). Я наконец-то разбогател – пшли все вон!
То есть забор в России – это показатель полным ходом идущей приватизации того, что приватизации не подлежит, поскольку формы частной собственности не имеет: времени, истории, природы, общей судьбы. Но те, кто возводит заборы, рассчитывают, что будет иметь: если кто-то оттяпал себе кусок пруда или реки, то почему бы не приватизировать, скажем, итоги Второй мировой, огородив эту территорию и запретив всем прочим странам тут шастать? Я не слепой – вижу, какое количество заборов в России находится в стадии строительства.
Впрочем, Кирилл бы, наверное, сказал, что чем серьезнее, мощнее и дороже забор, тем выше имперская мощь державы.
Он такой молодой новейший русский, что его совершенно не интересует, каково не обзаведшимся заборами в такой прекрасной державе жить.
2009
Воспитание чувств
Нельзя унижать родителей на глазах детей: когда вырастут, они отомстят не обидчикам, а эпохе в целом
Петербург, октябрь 2009-го, воскресенье, день, дождь, стынь, хлад и мрак (плюс ветр). Я иду вдоль Кронверкской протоки у Петропавловки, кутаясь в шарф в надежде не заработать простуду, которую к тому моменту, когда сяду за этот текст, все равно подхвачу. Сбоку от Артиллерийского музея, что в пяти минутах от закрытой станции метро «Горьковская», гаишные эвакуаторы цепляют кранами и увозят запаркованные машины. Без передыха: одну за другой, одну за другой.
В этой картинке все крайне важно.
Артиллерийский музей – бывший цейхгауз, основанный еще Петром, нашпигован военной техникой всех времен: без малого миллион экспонатов. Гулять по нему – мечта любого мальчишки, но для взрослого – страшная вещь: видишь, как инструментарий смерти от века к веку теряет гравировку, украшения, романтические финтифлюшки и становится функционален, как топор палача. В такие места в такие дни только и приезжать – с сыном, с сыновьями, чтобы показывать то, что уже видит твой, но пока еще не видит их глаз.
Метро «Горьковская», которую собирались переделать в многоэтажный шопинг-центр (но из-за кризиса, по счастью, обломались), закрыта на ремонт второй год. Обещали пустить к 1 сентября, но не пустили – и значит, папам с детьми добраться сюда можно лишь на машине, на семейной иномарке, объекте тайной гордости владельца. Да, и еще: парковок рядом нет, и объявлений, где запарковаться можно, тоже нет, но мы же ведь отцы, и нам куда важнее, чтобы наши сыновья не простужались, тем паче что в воскресенье движение в городе свободное и наши всеволожские «форды-фокусы» никому не мешают.
Я хорошо представляю, как в теплом чреве цейхгауза папаши важно разъясняют своим отпрыскам, что пандусы вместо лестниц устраивались для подъема лошадей и пушек, или объясняют, чем гаубица отличается от мортиры. Это такой детский счастливый возраст, когда твой папа – бог. И счастливый отцовский возраст, когда еще нетрудно быть богом. А потом они, папы и дети, выходят на улицу, где ветер и дождь, но где нет их машины, и папа суетливо начинает звонить туда и сюда, и хватает ребенка, и мчит на штраф-стоянку, с которой машину не забрать, потому что надо сначала в ГАИ и платить штраф, а банки, понятно, закрыты, и семейное воскресенье убито прямым попаданием, и папа в отчаянии кричит те самые слова, которые запрещает произносить сыну.
Представили это?
Отлично.
Унижение – это ведь не тогда, когда ты проигрываешь в карты или, нарушая правила, напарываешься на штраф. Унижение – это когда тебя вынуждают играть с заведомым шулером или штрафуют лишь потому, что у тебя нет сил ответить.
И не надо возражать, что «нигде в мире нельзя оставлять машины там, где парковка запрещена»: в Москве и в Питере в центре она запрещена почти что везде. Я проехал на машине пол-Европы и поколесил по Америке и знаю, как проблемы с парковкой решают там – а они решаются всюду одинаково. Во-первых, за местными жителями закрепляются парковочные места под окнами. Во-вторых, для «понаехавших тут» вдоль дорог стоят паркоматы, позволяющие оплатить стоянку на пару часов (как раз хватит походить по музею). В-третьих, и в Риме, и в Париже, и в Монте-Карло, и в Хельсинки, и в каком-нибудь Фигерасе (это там, где музей Сальвадора Дали) устроены огромные подземные паркинги, на которых почти всегда место найдешь. В-четвертых, после 7 часов вечера и до 9 утра, а также на праздники и выходные в городах разрешено парковаться бесплатно. В-пятых, за неправильную парковку тебя штрафуют, но не эвакуируют, – если только ты не мешаешь движению. В-шестых, если и эвакуируют, то на месте оставляют адрес штрафстоянки и телефон.
В России же за последние годы, которые принято называть «тучными путинскими», произошло что угодно – подъем с колен, удвоение ВВП, рост патриотизма, становление монополии «Единой России», отмена выборов губернаторов – но для водителей не сделано ни-че-го. Ни депутатами, ни безвыборными губерами, ни премьерами, ни их преемниками. Нам просто разрешили ездить на машинах, но запретили их парковать. Нас стали эвакуировать отовсюду. И, по-моему, запрещающих просто прет от того, как мы перед ними ползаем на брюхе и суем подобострастно синие купюры в их и без того жирные лапы. А попробуй не сунь, когда с утра везти в школу детей, а потом тещу в больницу. Они – боги, мы к ним в очереди на поклон и готовы принести жертву.
Современная Россия вообще все больше выстраивается так, что тебя из примерного гражданина непременно сделают нарушителем и унизят даже не тем, что сделают нарушителем, а тем, что начнут читать мораль про то, что закон один для всех и что его нарушать никому не позволено («вот, подванивая, низколобая проблядь / Канта мне цитирует и Нагорную проповедь», – читайте Льва Лосева).
Нас все больше унижают не где-то в укромном уголке, на заседании парткома, профкома, месткома: нас унижают публично, на глазах у наших семей.
В Питере власть недавно грозно заявила, что будет бороться с самопально замененными окнами в старых домах на то, что называется в народе «стеклопакетами». Будет, то есть, беспощадно штрафовать и добиваться возвращения первоначального исторического облика.
О господи, да я бы поцеловал эту власть в уста! Когда б не попробовал в этом году не заменить, нет! – отреставрировать в своем питерском «сталинском» доме слегка облупившиеся деревянные окна. Сотни фирм предлагали мне заменить их на пластмассу (по цене от 400 долларов окно) или на металл с деревом (от 3000 долларов). С трудом, через месяцы поисков, я все же нашел контору, производящую реставрацию, – и вышвырнул ее мастеров вон после первого же изуродованного окна. В дореволюционном доме моей тещи тем временем из превратившихся в труху рам чуть ли не вылетали стекла, но доступный пластик я ей ставить теперь боюсь, а на металл и дерево, при нестандартном размере и профиле, стоимость маленькой иномарки тратить не хочу.
Слышите, граждане Санкт-Петербурга? Это не за бизнесменами, имеющими особые отношения с властью и нефтью, это не за чиновниками, имеющими особые отношения с деньгами, – это за вами идут. Потому что цель нынешней власти – покуражиться, видя, как вы ползаете на брюхе, а вовсе не убрать с лиц домов заплаты стеклопакетов. Потому что если бы заботились о виде, то сняли бы налоги с бизнеса, способного производить деревянные «исторические окна», или платили бы дотацию каждому, кто был бы готов самостоятельно стеклопакеты убрать. Но этого не будет – просто прижмут к ногтю тех, кто сначала, мучаясь, расселял коммуналки, потом делал в них ремонты, потом радовался, что у детей есть детская (с евроремонтом и, само собой, стеклопакетами), каковой никогда не было у него. Давай теперь ползай, целуй ноги!
В Москве скоро прижмут не с окнами – прижмут с кондиционерами, которые, согласен, тоже вида не озонируют: главный архитектор столицы только что заявил, что установку их надобно запретить. И так уже на две трети запретили: недавно Владимир Варфоломеев с «Эха Москвы» делился прелестной историей о том, как согласование установки ему обошлось вдвое дороже самого кондиционера. Но ведь опять же, обратите внимание, придут не к архитекторам или девелоперам, не скажут им: ребята, с завтрашнего дня мы утверждаем только проекты со специальными нишами под кондеры (потому что с этими-то они всегда договорятся), а к тем, кто слишком мал, чтобы договариваться, слишком безденежен. А нет денег – так танцуй, блин, и на пузе передо мной ползай!
Я, кстати, про «на пузе ползай» не придумываю. У меня есть давний приятель из питерских, скажем так, оборонщиков, успевший и разбогатеть, и походить в министерских чинах, и мирно уйти из правительства в частную жизнь. Он мне говорил: «Во власти, Дим, лишь процентов десять ставят интересы государства выше личных. Еще пятнадцать процентов ставят личные выше государственных, но это, поверь, тоже очень неплохо. А остальные считают, что они боги, сверхгерои, небожители, каким не писан закон, и что все остальные – быдло, пыль, по которой можно только ходить, давить и смотреть, как корчится».
Ну да, смотрят.
Вместе с детьми того, кто корчится: дети разве не видят, как их великие родители превращаются в ноль, в ничто после появления рядом мента с красной харей, цедящего сквозь губу: «Документ-т-тики, граждане, предъявим для проверочки!» (Я такую сцену, когда менты шмонали в Михайловском саду приезжую семью, в недобрый час вышедшую полюбоваться красотами Спаса-на-Крови и дома Адамини, – однажды наблюдал.)
Дети, взрослея, потом отыграются за унижения отцов, – только не на власти, которую они по мере взросления научатся природно, нутряно, инстинктивно бояться и забиваться от нее в щель, – отыграются на времени в целом.
Я очень долго не мог понять, почему нынешние тридцати-плюс-летние так терпеть не могут 1990-е, Гайдара-Чубайса-Ельцина, хотя, по идее, именно эта эпоха – с ее разрешением частной собственности, открытием границ, свободным хождением доллара, вообще свободой слушать, смотреть и жить – и сделала их теми, кто они есть?
А потом как-то разговорился с одним пареньком из числа, что называется, «манагеров среднего звена» (иномарка, ипотека в Люблине, жена ждет ребенка) и получил в ответ, что ельцинское время отобрало у их семьи все, что было. У него папа был уважаемый человек, председатель профкома, мама работала в НИИ-чего-то-там, ездили в Сочи по профсоюзной путевке, а еще пионерские горны, взвейтесь кострами, на «жигуленочка» прикопили, мебель из гэ-дэ-эр полированная, мама так счастлива была, а потом р-р-раз! – и все. Все украли Ельцин, Гайдар и Чубайс. Мама пошла торговать сигаретами у метро. Сейчас, говорите, беспредел? А ее менты и тогда у метро гоняли. Отец спился. Умер, а обещал свозить в Болгарию…
Я, признаться, этому пареньку хотел сказать, что за чаепития в НИИ и руководство советскими (кузница, блин, кадров!) профсоюзами тоже нужно держать ответ – но, признаться, не смог. Все по той же причине: родителей при детях унижать нельзя.
Дети забывают со временем многое, кроме этого пережитого в нежном возрасте унижения. Думаю, что на память о перенесенных семьей унижениях во многом опирается воспроизводство чеченских и прочих боевиков, непрерывное вот уже почти два десятка лет. Людей вообще унижать нельзя.
То есть, я думаю, нынешние «тучные нулевые» лет через пятнадцать в народе переименуют в «путинские беспредельные».
Дайте только деткам подрасти.
2009
Новый русский феминизм
Поведение наших женщин, усвоивших (по их мнению) идеи феминизма, ужасно напоминает поведение наших бизнесменов, усвоивших (по их мнению) идеи капитализма: доходы приватизировать, убытки национализировать
Я никогда не сажусь ни в питерском, ни в московском метро, даже если места есть.
Потому что если сяду, а затем набьется народ, буду мучиться под осуждающими взглядами: должен ли я уступить место подошедшей девушке? Или она сочтет это за флирт или за демонстрацию неравенства? А может, настоящий мужчина уступает место женщине, даже если сломал ногу? А может, «настоящий мужчина» – это из Византии, где настоящие мужчины дарят женщинам на 8-е Марта цветы, потом произносят в их честь тосты, а потом женщины моют посуду и продолжают укладывать шпалы?
Ей-ей, мне проще не париться стоя, чем париться сидя. Это в Париже или Лондоне я сижу, но там все прозрачно: для инвалидов, стариков, беременных зарезервированы особые места, а прочие занимают в порядке очереди, ибо это единственная справедливость, какую можно соблюсти, коль уж мы не в силах выяснить, кто больше устал, – и точка.
Но если у нас даже в метро Византия, то отчего бы ей не быть всюду – и в Кремле, и в семье?
Тему про семью мне подсказало общение с парой коллег, которых я недавно выслушал по причине их бегства из дома. У обоих были сходные истории, в которых семейные лодки разбивались даже не о быт, а о разно понимаемый семейный уклад. Для удобства объединю их в одну, тем более что коллегам плюс-минус тридцать пять и обоим я не близкий друг, но терпеливый слушатель, и вот я сижу на кухне свежеарендованной квартиры, и коробка от микроволновки еще не выброшена, и на мое «где у тебя вилки?» – мычание: все мужья, уходящие от жен, в наш век несчастливы одинаково.
В общем, мужчина ушел от женщины. Не потому, что нашел другую – или она нашла. А потому, что дос-та-ло. Достало приходить домой – а рубашки не выглажены, и на ужин опять замороженная пицца. Достало, что работал весь день – а она дома у телика, и налит стакан с вискарем, который планировал сам жахнуть с друзьями, и из пепельницы окурки через край, и вечно трубка прижата к уху («я тебя просила бросить мне денег на счет, ты опять забыл?» – но я же сто раз умолял ее научиться оплачивать через Интернет!). Опять до одури болтает с подругой. Хорошо, что ребенок у бабушек.
А начиналось все мило. Свадьба по страсти: после института встретил девушку, не из клух, не из шлюх, а о какой мечтал: джинсы, танцы, споры о первом (как раз начинался) Акунине, зимой оба на сноуборд. Презирал друзей, у которых жены, родив, расползались (пеленки, быт, живот, бока, халатики), – презирал именно друзей, потому как те гуляли и не скрывали. Перед ЗАГСом со Светкой сели, обсудили: все делим пополам, готовим и посуду моем по очереди. Поначалу так и шло, – и даже лучше, когда купили посудомойку. А трещины заметил, когда стал начальником: времени на дом оставалось меньше – как раз родился сынишка, – хотя денег прибавилось. Впопыхах и не заметил, как Светка после декрета сказала, что хочет наконец отойти от рутины и заняться творчеством.
Какие-то курсы дизайна, купил ей дорогущий фотоаппарат (и дорогущий ноутбук, себе купил дешевле).
Ребенка стали все чаще отвозить родителям («Мы хоть сходим в театр и в кино, милый!»), однако из дома выбирались все реже. Обижалась: у нее есть время искать билеты в театр? У нее есть деньги? Хотя у него времени было еще меньше, а денег он оставлял порядочно, к тому же сам оплачивал продукты и коммуналку (она объясняла: деньги ушли «туда-сюда»). Думал: надо потерпеть, когда она наконец начнет сама зарабатывать. А когда начала, стало хуже: «мои деньги – это мои, а твои деньги – наши общие, разве ты не мужчина, разве мы не семья?» А раз семья, ты мне обязан: шубу, туфли-столько-пар-сколько-нужно, сумочек-сколько-нужно и колечко-колье-перстенек, потому что «другие мужья покупают». Плюс косметолог и спортзал. Ты что, хочешь, чтобы я выглядела, как жена у Сашки? А я не обязана варить борщи и мыть полы, подоткнув подол, я не раба – или поищи себе дуру, или найди мне домработницу.
Когда «найди дуру» прозвучало раз в двадцатый, он в ярости хлопнул дверью и снял через Интернет однокомнатную квартиру, в кухню которой, в качестве способного выслушать дурака, притащил меня. И вот мой коллега разливает вино и говорит, что таких историй, как у него, в Москве каждая вторая, и коль уж я все равно пишу, не могу ли публично задать несколько вопросов касательно современного русского феминизма.
Первое: почему мы постоянно врем, а не говорим правду, что все эти галантные ухаживания и подавания пальто есть доплата по бартеру за неравенство в традиционной семье, где женщина сидит дома, растит детей и поддерживает огонь в очаге, а мужчина выходит из дома и обеспечивает плиту дровами (и да, целует женщине ручки)? А в равноправной семье мужчина обязан дарить цветы женщине не чаще, чем женщина мужчине (кстати, мужчинам получать цветы тоже приятно).
Второе: почему сегодня, когда традиционная семья вымирает даже в провинции, мы не говорим честно, что мужчина биологически более хрупок по сравнению с женщиной, примерно как чугун по сравнению с деревом: он быстрее устает и тяжелее переносит болезни, что есть медицинский факт, – и не просто не строим на этом отношения, но продолжаем от мужчины требовать именно работы на износ?
Третье: почему в России, при средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин 62 года и у женщин 74 года, мы отправляем мужчин на пенсию в 60 лет, а женщин в 55, хотя по всей логике и справедливости следует поступать ровно наоборот? Нет, ну хоть бы кто это смог объяснить, а?
И наконец, четвертое: почему, глядя на современных западных женщин, на всех этих, черт бы их подрал, тварей из «Секса в большом городе», наши женщины слизывают у них только равные с мужчинами свободы и права, легко обходя мужские обязанности, хотя бы оплату своей части ресторанного счета, – и именно это называют феминизмом?
«Вот ты, – тыкал в меня пальцем коллега, – неужели не видишь, что нашим враньем мы развращаем женщин, превращая их в тупых содержанок?!»
В увлажненных его глазах отражались все холостяцкие кухни мира.
И я промолчал.
Марш многостаночников, или Жизнь как проект
Здравствуйте: меня зовут Дуся и Маруся Виноградовы. Вместо 40 станков по норме я обслуживаю 70. А еще меня зовут Алексей Стаханов и Паша Ангелина. В общем, я ударник труда и многостаночник. Сейчас объясню
Дело в том, что я веду четыре программы на телевидении. И вдобавок – радиоподкаст на интернет-портале. А еще читаю лекции. Плюс пишу колонку в «Огоньке». Не считая сотрудничества с еще парой-тройкой журналов. Так что на подработку бомбилой у Казанского вокзала сил, увы, практически нет.
Помимо соображения, сформулированного, если не ошибаюсь, еще Львом Толстым – «как всегда, не хватало денег и еще одной комнаты», – мною движет наблюдение, поначалу дико меня напугавшее, но теперь воспринимаемое спокойно, как данность. Наблюдение в том, что смена эпох уничтожает целые профессии. И что эпохи сменяются все быстрее и быстрее.
Вот, например, на моих глазах исчезли из жизни линотипистки, метранпажи и прочий типографский свинцово-цинковый люд. Вряд ли все они сумели переключиться на компьютерный дизайн: где вы теперь, ребята?
Или машинистки. Помните, Джеймс Бонд заглядывал в машбюро, и автоматные очереди ремингтонисток сменялись убийственной тишиной? Все: ныне Бонду заглядывать некуда и незачем. Машинистки умерли как класс.
Или менее очевидное: уже в этом веке в России исчезла политическая журналистика, равно как и журналистика расследований, равно как и профессия ведущего ток-шоу в прямом эфире (а она, поверьте, сильно отличается от ведения эфиров в записи). Если бы я не менял регулярно профессию – то где бы, спрашивается, был сейчас? Со своим прежним единственным умением – писать очерки на двадцать машинописных страниц?
Даже если не обращать внимание на политику и те подводные камушки, про склизкость которых предупреждал опять же Толстой, только уже Алексей Константинович, – нынешний мир устроен так, что стабильность для него исключение, а нестабильность – правило. Потому что это во времена Толстых хорошим пальто почиталось пальто, обладавшее свойством носиться долго, а в наше время хорошим считается лишь то, что модно, а мода меняется каждый сезон, попутно сметая если не профессии, то рабочие места – потому как закройщик классических ковер-котов скорее переквалифицируется в управдомы, чем сгодится в закройщики пуховиков-бомберов, какие носили прошедшей зимой.
Обратите внимание: мир, насытив основные потребности, обратился к потребностям дополнительным, избыточным, виртуальным, а они выказали свойство меняться вдесятеро быстрее основных. Позавчера миру потребны меха, вчера – права животных, сегодня днем – социальные сети, а к вечеру – 3D-Teлевизоры. Попробуй тут единственной работой всю жизнь проживи.
Помните, при Горбачеве была компьютерная игра, Perestroyka, где лягушонок перепрыгивал с кочки на кочку, которые то появлялись, то исчезали, чтобы не утонуть? Вот и в нашем общемировом болоте то же самое.
Речки мелеют, озера превращаются в болота, ураган сносит Новый Орлеан, на Мадейре, вон, дожди смывают берега – больше нет тихих заводей, и каждый раз нужно искать новую большую воду. И прежде чем в нее сунуться, неплохо нащупать брод – хотя бы в виде второго или третьего приработка.
Кстати, я убежден, что все, кто сегодня заигрывает с Интернетом (включая меня) – то есть создает собственные сайты, ведет блоги и подкасты, тусуется в сетях социальных и файлообменных, причем в большинстве бесплатно либо же за небольшие деньги, – подстраховываются, нащупывают брод в будущее, подозревая смутно, что оно где-то там, в виртуальном пространстве.
У этого многостаночничанья поневоле, у непрерывной смены работ и профессий есть, впрочем, и солнечная сторона.
Дело в том, что пересыхание одного источника дохода для многостаночника не трагедия. Ну, накрылись твои двадцать ткацких станков – так ведь продолжают жужжать десять токарных и парочка фрезерных. Более того, ты к любой работе, даже к наилюбимейшей и наиперспективнейшей, начинаешь изначально относиться как к временному проекту. Который может быть прекрасен, но рано или поздно завершится, как завершается стройка, когда дом подводится под конек.
Был в моей жизни период, когда я работал главредом в глянце, имел кабинет за стеклянной стенкой, мешок поездок за границу и годовой бонус в половину оклада. А параллельно вел, понятное дело, утреннее шоу на радио и колонку в петербургской газете (и по вечерам еще немного шил). Прелестная, доложу вам, была жизнь. Как вдруг – бац! – журнал купил человек, которому руки подавать нельзя; радиостанция переформатировалась; в газете сменилась редактриса.
И все это в один месяц. И что? Я лишь с облегчением вздохнул: слава богу, появилось время прочитать те книжки, до которых все не доходили руки!
Я не кокетничаю, не красуюсь, а говорю вам чистую правду: эту серьезную потерю работ (и денег) я тогда пережил много спокойнее, чем когда-то первую в жизни потерю единственной работы, когда, казалось, на меня обрушилось небо.
И как же, спрашиваете, я выкрутился? Да очень просто. Забыл вам сказать, что еще у меня была подработка на одном маленьком телеканале плюс вложения в недвижимость, которой (и которыми) я давно понемножечку занимался.
Так что есть у нас, Дусь и Марусь, свои радости в жизни, помимо портретов на Доске почета.
Например, есть радость отношения к собственной жизни как к проекту.
Который, когда подойдет к завершению, не вызовет (надеюсь) отчаяния, но наполнит гордостью за хорошо сделанное дело.
Если, конечно, дело будет сделано хорошо.
2010
Дачное эхо прошедшей войны
30 ноября 2009 года исполнилось 70 лет с начала Зимней войны – той, в которой СССР напал на Финляндию. Вспоминать есть смысл не только потому, что погибло около 25 тысяч финнов и 125 тысяч советских солдат
Каждый раз, когда я еду на питерскую дачу (по скверной и опасной трассе «Скандинавия», до поворота на Гаврилово, далее до Лебедевки), то испытываю чувство без вины виноватого. Потому что еду (до поворота на Кямяря, далее до Хонканиеми) по украденной земле, пусть и не я украл.
Самая сладкая часть южной Карелии, что лежит к северо-западу от городка Сестрорецка и зовется ныне Выборгским районом Ленинградской области, не является исконно русской ни при каких трактовках. Это финские земли, под чьим бы протекторатом они ни пребывали – шведским (по 1721 год) или российским (по 1917-й, когда Финляндия провозгласила независимость, причем с 1808 года Финляндия была автономией).
К 1939 году в маленькой стране, едва ставшей независимой, пережившей кровавую гражданскую войну (да-да, в Финляндии такое тоже было, только там красные проиграли), все понимали, что новая война неизбежна: страна оказалась зернышком между жерновов Советского Союза и Третьего рейха. А поскольку по пакту Молотова-Риббентропа Финляндия входила в сферу интересов СССР, то даже выбора – с кем воевать – у финнов не было. Так что из приграничных районов эвакуировали население, формировали армию, строили укрепления. Расчет бы не удержаться, а сдержать наступление на полгода, до прихода союзников.