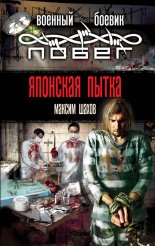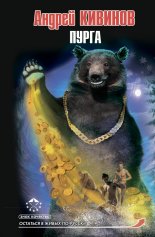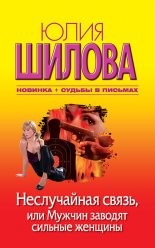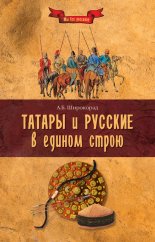Налог на Родину. Очерки тучных времен Губин Дмитрий
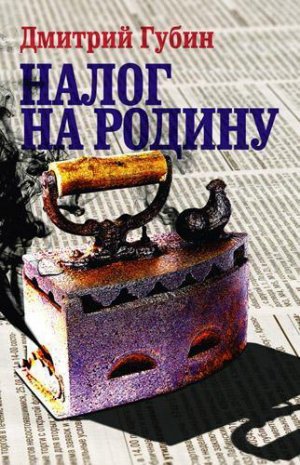
Общественный строй
Автодороги – конечно, частный случай инфраструктурного отставания. По моим ощущениям – я объездил 17 из 27 стран Евросоюза, был в Китае и США, в Англии жил – по развитию железных дорог мы отстаем лет на 30, по аэропортам и хабам – лет на 20, а по дорогам – навсегда.
Но куда больше, чем техническая инфраструктура, на показатель «плохо-дорого» влияет наш общественный строй. Который сложился не при Владимире Путине и даже не при Владимире Ленине, а в XVI веке, при Иване IV, и который в разное время назывался царизмом, империей, социализмом (сейчас – вертикалью власти), но европейцами всегда считался абсолютизмом. Лучше всего его описал (заранее прошу прощения у центра «Э» за скучный нарратив) в «Мыслях и заметках о русской истории» еще в 1866 году историк, правовед и перебежавший в славянофилы западник Константин Кавелин.
«Царь, по представлениям великорусского народа, есть воплощение государства… Русский царь, по народным понятиям, не начальник войска, не избранник народа, не глава государства или представитель административной власти, даже не сентиментальный Landesvater bon или рёге du peuple. Царь есть само государство – идеальное, благотворное, но вместе и грозное его выражение; он превыше всех поставлен, вне всяких сомнений и споров, и потому неприкосновенен; потому же он и беспристрастен во всем; все перед ним равны, хотя и неравны меж собою. Царь должен быть безгрешен; если народу плохо, виноват не он, а его слуги: если царское веление тяжело для народа – значит, царя ввели в заблуждение; сам собою он не может ничего захотеть дурного для народа… В самые трудные и тяжкие времена, когда приходилось чуть ли не сызнова начинать политическое существование, великорусский народ прежде всего принимался за восстановление царской власти».
То есть смысл существования России в том, чтобы ею управлял единственный богоподобный человек, а смысл существования царя в том, чтобы Россия была единой, и «Единая Россия» в этом смысле – очень точное название для царской партии, в отличие от названия страны. «Российская Федерация» – это оксюморон. Вроде Корейской народной демократической республики. Абсолютизм федераций не терпит. Федерация – это добровольный союз, который передает в ведение сообща выбранного администратора некий (не очень большой) набор функцией, которые глупо выполнять в одиночку, потому что в одиночку глупо содержать войско или печатать деньги (впрочем, в Шотландии печатают свой шотландский фунт). Федерация – это когда местные законы, местная полиция, местные налоги, порою довольно сильно отличающиеся меж собой. Федерация – это земли в Германии и кантоны в Швейцарии (впрочем, формально там вообще конфедерация, союз независимых государств), федерация – это когда в США сами штаты решают, разрешать ли однополые браки, а также смертную казнь и поворот направо на красный свет (да-да, в разных штатах в США, с их 4,2 миллиона километров дорог, на этот счет разные ПДД!).
Федерация – это гибкая и очень эффективная система, вроде многоядерного процессора по сравнению с арифмометром «Феликс», позволяющая максимально учитывать местную специфику. А абсолютизм – это когда единые строительные СНИПы от Сочи до Чукотки, один семейный кодекс от Чечни до Калининграда, и кодекс об административных (не говоря уж про уголовные) правонарушениях тоже един, от Владимира до Владивостока. А царь в ручном режиме то посылает Абрамовича править чукчами, то создает рабочие места в Пикалеве, а поскольку его на все не хватает, он обрастает боярами, которые, поскольку не цари, толкуют смысл существования государства в свою сугубо материальную пользу. Это в Лондоне местные советы, local councils, принимают решение, какому пабу до какого часа позволять работать (почему не всех под одну гребенку? Да потому что один в жилом квартале, а другой на отшибе), а у нас сейчас законом – то бишь волею царя – начнут велеть абсолютно всем регионам торговать спиртным по единому расписанию. Догадайтесь: в России или в Англии нынче пинта пива дешевле в полтора раза?
Централизация России – самая большая гиря для ее экономики. И самый весомый вклад в высокие цены. Как сказал один мой коллега, «есть цивилизации, в которых нет развития. У них все силы уходят на поддержание скреп, которыми они пытаются удержать себя от развала».
Не так давно во Владивостоке я пытался купить себе какой-никакой сувенир – хоть тарелку с картинкой, хоть магнитик на холодильник. Запредельными были и дизайн, и цена. Не смея спорить с местными представлениями о прекрасном (продукция была в том истеричном сочинском стиле, по сравнению с которым и Бова-королевич – почти что Малевич), я все же поинтересовался ценообразованием. И продавщица пояснила, что себестоимость три копейки, все сделано в соседнем Китае, однако растаможивать сувенирку гоняют из Владивостока в Москву. Я робко вскричал, что такого не может быть, но дама облила меня ледяным презрением и сказала, что точно знает, поскольку этот товар гоняет из Китая ейный хахаль.
Ну, в конце концов, если царь решает за Владивосток, на леворульных «жигулях» или на праворульных «японках» ему ездить, если царь решает, что в интересах империи импорт подержанных машин нужно перекрывать, если царь этим решением лишает тысячи людей работы, а когда они выражают недовольство, присылает через всю страну их отдубасить подмосковный ОМОН (за что? Да за то, что, дурни, не поняли – не может он ничего захотеть дурного для народа!) – почему бы тогда и не пропускать через подмосковную таможню дальневосточный товар?
Подумаешь, цена тарелки! Такие пустяки на фоне миллиардов, какие царь велел потратить во Владивостоке на саммит АТЭС – и которые все мы в итоге вернем царю из своих кошельков. Заплатим налог на Родину.
Национальная идея
Моя мысль проста: при существующих условиях Россия обречена быть экономически отсталой (ну хорошо: отставшей от Европы) страной, какой, собственно, она всю свою историю и была. Просто отсталость на бытовом уровне может принимать различные формы: неграмотного лапотного мужика (как до революции), тотального дефицита (как после революции) или, вот, «плохо-дорого» (как сейчас).
Мне идея экономического соревнования не кажется единственной из возможных. Те менеджеры, что перебрались в индийский штат Гоа курить бамбук, не соревнуются в доходах с теми менеджерами, что остались работать на Уолл-стрит, но, руку на сердце положа, – кто из них счастливее? То есть если б нация – сформированная при помощи абсолютизма, не исключая влияния последнего царя, – считала высшим смыслом нематериальные ценности, то говорить об экономическом соревновании с Европой было бы смешно. Но дело (и ужас) в том, что национальная идея, объединяющая в сегодняшней России абсолютное большинство населения, звучит так: «Деньги – самое главное. Они решают все». И эта идея цементирует общество как по социальной вертикали (от царя до бомжа), так и по возрастной. Последнее вообще совершеннейшая фантастика: в России вот уже второй десяток лет как исчез идейный конфликт отцов и детей. Идеалы вступающего в жизнь поколения (обычно революционного) и старшего поколения (обычно консервативного) ныне совпадают до смешного. Крутая тачка. Модные шмотки. Упакованная квартира. Дорогой дом. А конфликт если и возникает, то из-за способов достижения идеала: «Ты чо, мам, дура? Хочешь, чтобы я в нищете жила, как ты?»
Но даже это еще не так страшно, как абсолютная – и опять же сверху донизу существующая – уверенность, что точно таков же идеал Европы и США, то есть самых экономически развитых стран. Это русская фантазия продолжает сочинять мифы сродни мифам советских стиляг, напридумывавших себе, что такие же стиляги хиляют по Броду в Нью-Йорке.
На самом деле Европа – и, безусловно, США – сформированы идеализмом, идеями, а вовсе не погоней за деньгами. Европа, жестко схваченная тремя обручами (Древней Грецией, Римом и Римской церковью), в Новое время совершала великие открытия, переплывала океаны, устраивала войны и воздвигала грандиозные здания не потому, что жаждала богатства, а потому, что действовала во имя Христа, совершая в этом смысле сверхусилие.
Великие свершения вообще редко определяются деньгами. Невозможно за огромные деньги написать великие стихи или роман. Поэтом, писателем, ученым движет любовь к истине, а не гонорар. Научные открытия не совершаются за деньги, и меня каждый раз веселят разговоры об иннограде в Сколкове, где все талдычат об инвестициях, об особых экономических условиях, о необходимости инноваций, но я еще ни разу не услышал – а чем, каким направлением науки и техники там будут заниматься? Там будут доказывать реальность существования р-бранного мира и продвигать М-теорию? Выводить формулу «справедливой цены» сверхтоваров? Открывать закон изменения социальных законов после того, как эти законы открыты? Вести каталог мутаций в геноме?
Там, где деньги служат только деньгам, они, как правило, не приумножаются, а разворовываются.
Россия сегодняшней безумной верой в деньги и гонкой за деньгами загнала себя в тупик. Мы экономически равняем себя по Америке и Европе, полагая, что ими движут деньги, а в собственной стране функцию окончательного перераспределения делегируем царю – и в упор не желаем видеть, что экономического успеха добиваются лишь децентрализованные страны, видящие в деньгах инструмент управления, но отнюдь не смысл существования.
И коль уж я начал разговор с милой моему сердцу Франции (где я с каждым годом бываю все чаще), то ею и закончу. Французов многие считают нацией скупцов, однако в действительности это нация, движимая двумя идеалами: Belle France (прекрасной Франции) и art de vivre (искусства жизни). Француз, желая сэкономить, может пригласить в дешевый и вкусный ресторан, но и под страхом смерти не поведет в ресторан дешевый и плохой. Я был в сотнях французских заведений, дивно дешевых и отчаянно дорогих, я стоял в воскресной очереди за фалафелями у евреев в квартале Марэ и ужинал в «Лё сэнк» в отеле «Георг V», спорил о молекулярной кухне с трехзвездочным шефом Льежем в отеле «Крийон» и выслушивал нотации от знаменитого на весь Париж нервного сомелье Антуана в «Ля Трюфьер», где карта вин толщиной с Ветхий Завет. Ален Дюкасс, Эрик Фрешон, Ги Савуа – я пробовал творения выдающихся поваров, ни один из которых, однако, не занимался кухней затем, чтобы стать миллионером, но все занимались, чтобы сделать лучшую на свете кухню (и некоторые при этом стали миллионерами).
В этом – невероятный контраст с Россией, где главный ресторанный герой – Аркадий Новиков, действительно ловкий бизнесмен, миллионер (и владелец отличного замка во Франции), рестораны которого, однако, лично я обхожу за версту, потому что там делают деньги, а не еду.
Россия в ближайшее время не уйкнется, не развалится – даже если вдруг кончится нефть. Она, судя по всему, еще долго будет оставаться страной очередного застоя, на этот раз имеющего вид «плохо-дорого», где каждый, от мала до велика, платит налог на Россию, принимай он форму ресторана Новикова или взятки гайцу.
Ведь, чтобы было по-другому, Россия должна перестать быть Россией.
P. S.
Кстати, французский багет появился на свет благодаря постановлению Конвента от 26 брюмера 2-го года Революции. Тогда граждане Республики были обязаны есть одинаковый хлеб, состоящий в основном из корочки, воздуха и свободы. Нарезанный багет вам и сегодня подадут в любом французском ресторане в неограниченном количестве и никогда не выставят за него счет. Равно, кстати, как и кувшин с питьевой водой – который обязан быть бесплатным в соответствии с Кодексом Наполеона.
Владельцам булочной «Хлеб & Ко» остается поблагодарить богов, что их с Конвентом разделяют века и километры.
2010
Мы попали в запендю
Нарастающую в Интернете и медиа революционную фразеологию, учащающиеся тирады персналъно против Путина и Медведева революционной ситуацией не объяснить по причине отсутствия таковой. Быть сегодня против власти – попросту модно. Не больше. Хотя и не меньше
Если вы заметили, в последнее время, и особенно в последний год, градус нагрева того недовольства, которое принято называть «общественным», против того, что принято называть «властью», заметно повысился.
Рок-музыканты если не прямо зовут на баррикады, то поднимают на щит тех, кто на митингах пострадал от милиции и ОМОНа. И ладно бы Юрий Шевчук или Noize МС, потому как рок и рэп – генетически музыка протеста. Но что заставило гламурную Катю Гордон записать клип «Математика», посвященный тем, кого дубасили на московских митингах менты? И ладно бы издевательские блоги на «Эхе Москвы» – в конце концов, на то и «Эхо», чтобы продемонстрировать допущение оппозиции властями. Но как случилось, что вся оппозиция, от Эдуарда Лимонова до Евгения Киселева, ведет колонки в образцово глянцевом журнале GQ? А Ксения Соколова, обычно интервьюирующая для GQ мужиков-знаменитостей на тему, как они потеряли невинность, вдруг пишет репортаж из зала суда над Ходорковским, где называет Ходорковского настоящим мужчиной, а всех его экзекуторов вверх по вертикали – унылым говном? Когда это, скажите, глянец залезал в политику далее анекдотов? Но откройте последний номер Esquire – и через минуту обнаружите, что перед вами под эстетской личиной готовый сборник речей для Нюрнбергского процесса. Про вранье и коррупцию в армии, про вранье и коррупцию в «Газпроме», про вранье и коррупцию в ВТБ, про развал всей медицины, про неэффективность вертикали власти как системы, вообще про то, как все насквозь сгнило и что так жить нельзя. А в колонке главреда прочтете, что попытка интеллигенции говорить с Путиным – это попытка класть правду к подножию огромной каменной горы вранья. Ну а квинтэссенция всего этого общероссийского бодания с властью – нарисованный на Литейном мосту арт-группой «Война» член размером в 65 метров, показанный в ночи во всю мощь питерскому ФСБ.
В том, что я описал – а я описал даже не верхушку, а снежинку на верхушке айсберга, – некоторые склонны видеть признаки революционной ситуации. Однако я придерживаюсь иной, чуть более циничной точки зрения.
Дело в том, что любая мысль – оппозиционная, консервативная, либеральная или радикальная – есть товар. При Брежневе этот товар был запрещен наряду с хождением доллара, но уже при Горбачеве случился взрыв, и запрещенное выплеснулось на рынок. Миллионные тиражи газет и журналов, бешеный интерес к телевидению, прущее как на дрожжах книжное производство – все это определило, что первыми разбогатевшими новыми русскими, помимо удачливых кооператоров-торговцев, стали телеведущие, обозреватели, писатели и книгоиздатели. Продажи идей приносили неплохую прибыль.
Ситуация с тех пор во многом изменилась – и, как говорят в таких случаях англичане, изменилось dramatically, драматически.
Наиболее покупаемых нематериальных товаров на российском рынке сегодня два. Первый – насилие (или отказ от его применения). Второй – успокаивающий галлюциноген: «Все хорошо, прекрасная маркиза», «мы – русские, с нами Бог» или: «Россия – великая наша держава». Существуют варианты.
Это раньше информационный телеведущий уровня Евгения Киселева или Татьяны Митковой мог купить «мерседес» и пентхаус. Сегодня пентхаус могут купить либо прокурор с начальником ГАИ, либо Иван Ургант с Андреем Малаховым. Мысль как таковая не пользуется спросом. Поэтому в издательстве, где выпускаются и экономическая газета «Ведомости», и журнал Esquire, сразу после кризиса урезали на 10 % зарплаты – и, насколько я знаю, до сих пор не подняли. Кстати, ровно на тот же процент упали в 2009 году в России книжные продажи. И пентхаусом за 2 миллиона долларов из писателей владеет одна Юлия Шилова, сочинившая 80 дамских романов с названиями типа «Как я влюбилась в начальника», – а Эдуард Лимонов не имеет никакого жилья и не будет иметь: приставы отбирают все его невеликие гонорары в пользу Юрия Лужкова, которому он проиграл суд.
Да и кто будет материально поддерживать Лимонова, Сорокина, Пелевина или даже крайне фертильного Дмитрия Быкова? Может быть, мифический мыслящий тростник, то бишь российский средний класс?
Я знаком с кое-какими данными исследования «Средний класс в России», проводившегося Независимым институтом социальной политики с 2000-го по 2007 год. Один из выводов потрясает: несмотря на значительный рост материального благосостояния, средний класс в России как составлял в 2000 году 20 % населения, так и продолжал их составлять спустя семь лет. Динамики нет. И это понятно, потому что начальник следственного изолятора, принявший через священника в церкви при изоляторе кругленькое подношение за изменение условий содержания гражданина, которого заказал следователю через прокурора другой гражданин, – еще не делают начальника, попа, прокурора и следователя средним классом, видящим ценность в книге и мысли. Того незатейливого рассуждения, что в бабках сила, что надо быть при власти и не забывать делиться, им вполне хватает для того, чтобы заработать на фазенду с бассейном.
Что же до издевательских интенций главреда Esquire Филиппа Бахтина, или песенок Кати Гордон, или арт-акций Лени Е*нутого, или блогов Владимира Варфоломеева, не говоря уж про этот текст с его автором – то, полагаю, вертикаль власти нас искренне считает полными, то бишь неопасными, мудаками, которые в лучшем случае накопят за жизнь на BMW 3-й модели, тогда как прокурор, начальник и следак уже сейчас рассекают на каком-нибудь Х6, а со временем замутят и Maserati.
То есть перед нами никакое не преддверие социальной революции в России, а картина относительного обеднения той группы внутри среднего класса, которая зарабатывает на жизнь продуцированием и репродуцированием идей. С одновременной утратой ею общественного влияния. Компенсацией за что и выступает удовольствие от прямого – без компромиссов и фиг в карманах – выражения своего недовольства.
Опасности в этой ситуации для нынешнего госкапитализма нет. Да, ругать власть, ругать Путина и Медведева все более модно, но это всего-навсего мода. А мода развивается подобно эпидемии: она начинается благодаря немногим особо активным носителям, потом инфицирование становится массовым, но рано или поздно идет на спад. Эту механику недурно описал в книге «Переломный момент» американский журналист Малкольм Гладуэлл – книга вышла на русском тиражом в 3000 экземпляров (кому у нас на фиг мысли Гладуэлла нужны?). Опасность в другом.
За вхождением в партию власти (с одновременным получением мандата на кормление) и за посыланием проклятий власти (с одновременным сокращением кормления) можно пропустить момент, когда все увеличивающийся пузырь власти (или, прибегая к терминологии Филиппа Бахтина, гора) вырастет настолько, что нижним ее слоям будет уже не с чего кормиться. Ведь пирамида растет с каждым днем: к ментам, гаишникам, прокурорам и судьям (а скольких я еще упустил!) уже десятилетие как добавились врачи, учителя, преподаватели, а в последние два года – директора детских садов, берущие, по разговорам, за зачисление от 20 до 50 тысяч рублей.
Когда действительно лопнет, покатится, рухнет – этот селевой поток погон различать не будет, и тогда нас накроет абсолютно всех, как накрыло когда-то абсолютно развалинами Советского Союза.
Только GQ и Esquire останутся лежать могильными плитами над разбившейся страной, как до сих пор могильными плитами на кладбище прежней страны лежат сохранившиеся кое у кого годовые подписки «Нового мира».
2010
Скучное время года
Когда принесенные в школу гладиолусы увянут, а белые банты уступят место практичным прическам, начнется обычная учебная тоска. Иванов, к доске. Выучить наизусть от сих до сих. И я так учился, и вы. Все худшее – детям. Причем сами взрослые, если снова случится учиться, этой тоски избегут
Мы с моей 11-летней племянницей – коллеги. Оба – ученики. Оба учим французский. Nous apprenons le frangais. Она, правда, уже третий год, а я лишь второй, но во Франции уже вполне могу объясниться.
Qa va? – спрашиваю я Валю при встрече. – Comment as tu passe tes vacances? Как провела каникулы?
Племянница в ответ смеется, потому что детям часто кажется смешным то, что непонятно. И до меня не сразу доходит, что для нее непонятно звучит вопрос на французском. Я же знаю, что по языку у нее «пятерка» и что учиться она любит. А когда я продолжаю расспрашивать ее по-французски – где была? что видела? – она через минуту перестает смеяться и напрягается, как напрягаются дети, когда взрослые требуют того, чего дети сделать заведомо не могут.
Ну хорошо, перехожу я на русский, а чем вы занимались на ваших уроках? Может быть, вас учили писать по-французски sms? (Это я, понятно, загнул. Просто однажды мне встретился учитель английского, пришедший, как он выразился, в «лингвистически запущенный класс». И предложил сделку. Он детей учит sms-сленгу (где «h r u?» означает «how are you?», то есть «как дела?»), а класс в ответ обещает учить не только сленг. Я спросил, каков был итог, учитель признал, что «из запущенных превратились в отстающих», но добавил, что возник интерес.)
Племянница снова засмеялась – надо же придумать такое, их за сотовые телефоны вообще ругают, но все, конечно, пользуются! – но ответила, что они запоминали, например, глаголы-исключения, которые в сложном прошедшем времени требуют вспомогательного глагола «быть», а не «иметь». И в подтверждение без запинки мне их перечислила.
Признаться, я был впечатлен. На языковых курсах для взрослых при Французском культурном центре глаголы-исключения я тоже учил, но моя преподаватель, нормандка Мари, всегда подтрунивала, что сама не может их без запинки перечислить, и даже подарила нам смешной рисунок с шагающим по планете человечком для лучшего запоминания. Такие уж они, эти французские исключения: сплошные обозначения движений. А еще на курсах французского мы составляли пазлы, вели расследования, торговались на рынке, пересказывали анекдоты, устраивали муниципальные выборы и даже ставили грамматические спектакли. Три часа пролетали как минута!
Но вы, спрашиваю я с надеждой племянницу, хотя бы песни слушали? Нет, поджимает она губы. Ну а комиксы смотрели? Нет. А мультики? Нет. А что вы делали? Мы учили. Мы учили грамматику. Она сложная.
Все верно. Французская грамматика – страшная вещь: одних времен почти три десятка (кстати, Мари всегда сбивалась со счета) и глаголы при спряжении могут принимать сотню форм! Что может убить каждого, кто, изучая язык, не смотрит на язык как на игру с общением в виде приза, а сидит и зубрит.
Взрослые понимают, каково это – учить непонятные слова и чужую грамматику (у французов, например, простое прошедшее время в устной речи умерло, выжив лишь в книгах!), а потому многочисленные языковые курсы для других взрослых строятся по принципу infotainment – учения через развлечение. И это относится, понятно, не только к французскому языку, но и к любому другому. А точнее, это относится не только к языкам, но и вообще ко всем навыкам, которыми взрослые люди решили вдруг овладеть: от катания на горных лыжах до скатывания рисовых роллов. Если взрослый человек решил учиться, с ним возятся как с малышом: развлекают, шутят, улыбаются, рассказывают истории и не ругают за ошибки; учебники для взрослых снабжены дисками и смешными картинками, причем, подчеркиваю, это относится абсолютно ко всем отраслям знаний – хоть к квантовой физике! Вон, у меня лежит пара томов знаменитого физика Стивена Хокинга, которые написаны и изданы столь блестяще и остроумно (гравитационное поле составных тел Хокинг, например, иллюстрирует притягивающими Хокинга блондинками), что я не просто впервые разобрался в отличиях общей теории относительности от специальной, но и в фейнмановской идее множественности историй, а заодно и в теории струн.
Да господи, проведите сами собственный – и вполне физический – эксперимент. В большом книжном магазине сначала пройдите в тот отдел, где продаются школьные учебники, а затем в тот, где по тем же наукам продаются учебники для взрослых. И коль я уж начал с языков, то пусть это будут языковые учебники. А потом честно ответьте себе – даже ни одним языком не владея, – по каким пособиям вы хотели бы заниматься? Какие привлекают? Какие вызывают доверие? За какими чувствуете сильную, но элегантно выраженную методику?
Я недавно такой эксперимент провел. И открыл школьный учебник английского, по которому с этого года предстоит учиться моей племяннице: у них начинается второй язык. Учебник написали Верещагина и Притыкина, им многие пользуются. Так вот: там даже сам язык обсуждать невозможно. Потому что на иллюстрациях изображены девочки и мальчики, каких не существует в природе и не существовало никогда, разве что в головах советских бюрократов, когда этим бюрократам требовалось представить идеально советских мальчиков и девочек. Эти дети занимаются несуществующими делами и говорят на языке, которого в Лондоне не услышишь (над одной страницей я расхохотался вслух: там за мальчиками и девочками изображен домик с вывеской «Shop», но никаких «шопов» в Англии на вывесках не встретить, кроме «кофе-шопов», – это, конечно, деталь, но от нее несет такими пылью, нафталином и тоской, что хоть вой).
При этом лично к госпожам Верещагиной и Притыкиной у меня претензий нет. Во-первых, писать учебники – лучше, чем воровать. Во-вторых, я смотрел 15-е переиздание этой псевдоанглийской тоски, – думаю, все затевалось еще при Брежневе. Но как можно заставлять детей принимать эту касторку сегодня – не понимаю. Как можно учить язык по книгам, к которым не прилагается ни одного ни CD, ни DVD-диска – не понимаю тоже. В Великобритании, на мой взгляд, сегодня лучшая в мире языковая школа. Английские курсы английского – феерически логичны, интересны и полны юмора (как и сами англичане). Я готов признать учебник от Верещагиной и Притыкиной абсолютно адекватным самим Верещагиной и Притыкиной, но заниматься по нему можно заставить только в виде наказания, причем тех чиновников системы образования, которые с чистой совестью рекомендуют эту тоску переиздавать…
Впрочем, я готов принести извинения В. & П. – прочие ничуть не лучше. И учебники. И учителя. И школы. Я не об исключениях – не о школах Ямбурга, Казарновского или Лурье, – потому что исключения лишь подтверждают правило.
Говорить о тусклой, зубрежной школьной системе было бы не так обидно, когда бы все в стране было пыльно и тускло, как в СССР. Но нет: едва рухнул железный занавес, взрослые россияне отказались скучать сами. На мгновенно усвоенной идее инфотейнмента построены в России сегодня и языковые курсы, и глянцевые журналы, и телевизионные передачи: ведь они бьются за деньги, за тиражи, за рейтинги (и, надеюсь, за моральное удовлетворение создателей) – если не будут интересны, закроются.
То есть если ты взрослый и хочешь научиться готовить мясо в кисло-сладком соусе или, там, сделать ремонт своими руками – к твоим услугам пять телепрограмм, двадцать пять глянцевых изданий, и все поет и пляшет на DVD или CD. А если ты ребенок и учишь язык в школе – сиди и зубри. Без вариантов.
Для детей в нашей стране существует лишь учение через «не могу», «не хочу», через «скучно». Некоторых мальчиков и девочек, обладающих упорным характером, это раззадоривает, но большинство опускает руки. Поэтому моя племянница, скорее всего, после школы не будет говорить ни по-французски, ни по-английски, а также на всю жизнь возненавидит физику, химию, математику, геометрию, а также, возможно, биологию с литературой, если только ей не повезет с учителем, который сумеет превратить урок в игру.
Будь министром образования я, то обязательно оценивал бы школьные учебники, программы и уроки с точки зрения развлечения. Учеба бывает такой веселой! Если ты, конечно, расследуешь детективную историю, смотришь мультики или ставишь спектакль.
Но я не министр, и моей племяннице предстоит мучиться. Для нее после лета наступает скучное время года.
Одна надежда: вот станет взрослой – возьмет реванш!
Хочу быть вечно вторым
Призывы типа «догнать и перегнать Америку» всегда содержат скрытую часть «а не догоним, так упьемся поражением». Меня всегда это «aut Caesar, aut nihil» пугало. Мы мало когда и в чем были первыми: строй не позволял. И лично меня вполне устраивает место вторых
Мои друзья – что в реальной жизни, что в ЖЖ – издевательски обсуждают планы Юрия Лужкова покончить с пробками в Москве. Напомню: мэр сказал, что для решения «транспортной проблемы» ему необходимо 4 триллиона рублей, но, по укороченной схеме, сойдут и 640,8 миллиарда. На эти деньги расширят шоссе на севере и западе, подъезды к аэропортам Шереметьево и Быково, а также подступы к «Москва-Сити» (четырехтриллионный план предусматривает еще и новые метро– и железнодорожные пути).
Друзья издеваются потому, что полагают, что и миллиарды, и триллионы будут успешно (по предварительному сговору, группой, в особо циничной форме) разворованы, а пробки останутся, где были – везде.
Эта формула – «смысл всех сегодняшних инвестиций в России лишь в том, чтобы эти деньги украсть, а потому никаких модернизаций все равно не будет, так что клали мы на светлое будущее с прибором» – сегодня невероятно популярна. Она очень эмоциональна, это правда. Однако я сомневаюсь, что формула верна.
Воровали в России при строительстве всегда. Скажем, в Петербурге, где я живу, Васильевский остров своей топонимикой (стороны одной и той же улицы имеют разные имена: Петя живет на 6-й линии, а Маша в окне напротив – уже на 7-й) обязан воровству градоначальника. Это он положил в карман деньги, отпущенные на превращение «Васьки» в русскую Венецию, то есть на рытье каналов вместо улиц (островные разноименные «линии» – несостоявшиеся разноименные набережные). И что? В итоге мы имеем и Меншиковский дворец (выстроенный на украденное), и топографически уникальный остров, на который так рвался умирать Бродский, пока не дорвался до Венеции.
Или, вон, в том же Петербурге есть Троицкий мост, соединивший век назад центр с Петроградской стороной, – чудо техники, консольно-арочная система, Эйфель (привет парижской башне!) участвовал в конкурсе, электрический разводной механизм, царь лично жал кнопку, и взор его туманила дума о 200-летии столицы, – а вскоре после юбилея подрядчиков повязали и посадили, ибо проворовались.
Опять же – ну и что? Мост стоит, по ночам исправно разводится, днем я по нему на роликах качу с Петроградской стороны на Дворцовую площадь, дабы заложить вираж под окнами псевдобарочного Зимнего дворца (на строительстве которого, разумеется, подрядчики тоже…).
Так что меня не очень пугает, что «разворуют».
Но я всерьез боюсь, что никакие триллиарды Москву от пробок не спасут, потому что жизнь автомобилистов в России устроена на других принципах, чем в Европе или Америке. И это, на мой взгляд, основная причина, почему у нас пробки всюду – от Москвы до самых до окраин. Я ведь не только из Шереметьево по три часа добирался до центра, но и из владивостокского аэропорта четыре часа до Владивостока. Более того, заторы лондонские или парижские выглядят пустяками на фоне заторов в Рязани, Казани или Вичуге (про Питер с его глухой, изматывающей транспортной непроходимостью вообще молчу).
Дело в том, что нигде в Европе транспортные проблемы не решают только за счет новых дорог. Париж задохнулся бы в пробках, когда б там просто построили кольцевую «переферик». Но там мало пробок, потому что действуют весьма жесткие – и, подчеркиваю, сходные по всей Европе – правила.
Правило первое: нигде в городах в рабочее время нельзя парковать машину бесплатно. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Хельсинки, ни – бог с ними, столицами! – даже в крохотной Иматре (но русские изворачиваются, паркуются бесплатно у «Макдоналдса», где «только для посетителей»). То есть повсеместно парковка либо запрещена, либо платная, и чем ближе к центру – тем дороже, плюс с ограничением по времени. Затем – либо беги продлевать, либо огребай штраф, без уплаты которого не дадут шенгенской визы. Цена вопроса заставляет всерьез задуматься, как перемещаться. Или в какое время. Потому что ночью, с 19.00 до 9.00, а также в выходные за парковки денег не берут.
Правило второе: на окраинах, в спальных районах (а иногда – и в центре) земля под парковку под окнами закреплена за резидентами. Посторонние на этом клочке земли оставлять машину не вправе – эвакуируют. Это создает принципиально иной уклад: если ты арендуешь квартиру без парковочного места – значит, пользуешься метро, автобусом, трамваем (плюс прокатом на выходных).
Правило третье: в городах не просто развивается общественный транспорт, но развивается так, чтобы пользоваться им было удобнее, чем автомобилем. Например, лондонская Оксфорд-стрит, нежно любимая русскими за обилие магазинов, открыта лишь для автобусов, такси и велосипедистов. Автомобилям показан кирпич, а за въезд в центр они еще и заплатят congestion charge: сбор в размере 8 фунтов, это около 400 рублей (для англичан – дорого). Зато табло на остановках показывает, сколько минут автобуса какого маршрута ждать. Или взять французскую систему RER – пригородных электричек, в Париже превращающихся в метро, – тоже разумно. Кстати, сами пригородные электрички сильно изменились: 15 лет назад я добирался из Парижа в городок Крей за час с лишним. Сейчас двухэтажный поезд покрывает 50 км за полчаса – и это с остановками.
Правило третье: велосипедистам реально дается дорога. Я не про Амстердам, где велобезумию полвека. За последние 10 лет велотранспорт продвигается как альтернативный в Париже, Барселоне, Вене – эти города утыканы автоматическими пунктами проката, тарифы составлены так, что пользоваться великом можно бесплатно (в Париже, например, – если берешь велик меньше чем на полчаса, а за 30 минут, друзья, на велосипеде можно объехать пол-Парижа). И не надо кривиться, что «велосипед не для нашего климата». В Хельсинки и Стокгольме такой же климат, как в Петербурге. Только в Хельсинки на велосипедах ездят все (туристов даже завлекают бесплатным прокатом шлемов), а в Питере – самоубийцы, рискующие быть сбитыми прущим по пробкам, как танковый корпус по врагу, чиновничьим кортежем.
Правило четвертое: всех, кто решается нарушить предыдущие правила (запарковался в запрещенном месте, не оплатил парковку), штрафуют нещадно, причем без различия чинов и заслуг, и штрафуют, как правило, не полицейские, а специальные службы (в Англии – traffic wardens, «дорожные смотрители»), получающие процент с каждого штрафа.
Правило пятое: все крупные города нафаршированы подземными паркингами, поскольку наземной парковкой проблему не решить. Крохотное княжество Монако вырыло в центре Монте-Карло паркинг размером с сам Монте-Карло, где даже в высокий сезон есть место между любовно накрытыми попонками Bugatti и Mercedes SLR MacLaren. В скале, на которой покоится старый Хельсинки с Эспланадой, выдолблен неимоверных размеров паркинг на четырех, если не ошибаюсь, уровнях. Все паркинги – платные, но без ограничения времени.
Ни одно из перечисленных правил не действует в России – да, еще забыл, что в Европе страны децентрализуются, и жизнь во французской провинции часто сытнее жизни в Париже, а потому и не бегут все «в Париж, в Париж!», как у нас бегут «в Москву, в Москву!», потому что хотя вне Москвы жить и можно, но заработать – увы. Поэтому мы обречены на пробки.
Мы вообще обречены на пробки, заторы, затыки, а то и полный ступор везде, где мифические национальные интересы требуют непременного создания уникальной – а не заимствованной! – национальной системы.
Вот примеры из тех, что под рукой.
Неведомые люди из Кремля – за которыми, подозреваю, стоит вице-премьер Сергей Иванов, – в очередной раз грозятся вздернуть импортные пошлины на спутниковые навигаторы GPS, дабы заставить россиян перейти на отечественные ГЛОНАСС. Система ГЛОНАСС – наш высокотехнологичный ответ Чемберлену – внедряется вот уже 17 лет, последние годы – под руководством упомянутого Сергея Иванова. Каждый год ГЛОНАСС сжирает 10 миллиардов бюджетных рублей, однако когда заработает – даже Сергею Иванову не известно: за последние четыре года сроки переносили четырежды. Что пикантно, ГЛОНАСС-приемников нигде нет: зачем торговать тем, что не работает? И вот теперь представьте, что будет, если пошлины повысят. Дефицит устройств системы GPS. Взлет цен в магазинах вдвое (и взяток на границе – видимо, тоже). То есть пробка, затор, подобный транспортному, – под разговоры об инновациях.
И так во всем, что ни взять – от выдачи загранпаспортов до регистрации прав на недвижимость. Потому что национальная гордость (частью которой непременно является «национальная безопасность») не позволяет России по-простому перенять британскую систему, в которой человек отправляет в полицию по почте анкету с фотографией, а через три дня получает по почте же готовый загранпаспорт (впрочем, «внутренних» паспортов в Британии вовсе нет). В итоге у нас в стране – очереди, крики, скрежет зубовный и срок минимум в месяц… Как и в истории с недвижимостью, когда, например, в Петербурге в разгар приватизации при Собчаке основали регистрационный центр не то по французским, не то по финским технологиям. Ко всеобщему удивлению, очереди рассосались, ибо центр работал как часы. Пока Москва не потребовала все переделать и унифицировать регистрацию в соответствии с федеральными требованиями – и тогда, понятно, закрутилось: сотрудникам уменьшили зарплаты до федеральных стандартов, они поувольнялись, возникли очереди… Скоро, говорят, грядет новая пробка: в национальных интересах национальное законодательство в очередной раз изменилось, договоры долевого участия в строительстве придется регистрировать, а на такой поток регистрационные мощности не рассчитаны…
Я, в общем, подвожу к элементарной мысли. Лучшее, что мы сегодня можем сделать ради достойной жизни, – это брать, то есть покупать и внедрять, готовые западные технологии, а не изобретать и внедрять собственные. Россия – это такая империя, все силы которой уходят на то, чтобы не развалиться, а не на то, чтобы что-то полезное для человечества создать. Я никого не хочу специально злить, но так уж вышло, что мы в мире почти всегда были в лучшем случае вторыми (и такое время было лучшим для страны). В такие времена попросту перенимались западная школа архитектуры, или живописи, или литературы (а откуда, по-вашему, вышла русская проза?), или военного искусства, или сельского хозяйства, или промышленного производства. Порождая потом почти всегда эпигонскую, но удобоваримую, а иногда – как с русским авангардом – и самобытную школу, породившую западных эпигонов.
В этом смысле чем меньше в России русского, тем лучше для России.
И не надо только в ответ про Гагарина и первый спутник – империя, да, ценой невероятных усилий порой способна оторваться от земли, но, обожатели Гагарина, у вас в машине какой навигатор стоит – ГЛОНАСС или все же GPS? И спутниковые карты вы какие материте – ихние google maps (с трехмерным изображением и пролетами над картой в режиме 3D) или закачанные в GPS отечественные, на которых, особенно по проселкам, части дорог нет, а частью нанесены несуществующие (а карты у нас тоже проходят через ФСБ)? И машина у вас, кстати, какая? И холодильник, часы и трусы – чьего производства? И, в конце концов, все лучшее, что появилось в стране после развала СССР – от ресторанов и пивных залов до арт-галерей и сотовых телефонов, – оно по чьим, спрашивается, лекалам создано?
То, что все понимают и с удовольствием принимают на бытовом уровне, отчего-то считается неприличным признавать на уровне государственном.
А жаль.
Жили бы сейчас себе с congestion charge, ходящими секунда в секунду троллейбусами на Невском и Тверской, с автомобилями, легально запаркованными на приватизированных участках земли под окном.
А вторичность – она меня не унижает. Некоторые признаки из числа вторичных – они, знаете ли, являются у мужчин и женщин показателем зрелости.
Меня унижает, что с нашими триллионами и нашим национальным самобытным подходом мы скоро окончательно превратимся в какую-то затратную, третьеразрядную, навечно увязшую в пробке страну.
2010
Детки в крутой клетке
Вы считаете, что ваши сынок или дочка, достигнув тинейджерства, будут копировать ваши добродетели? Или, наоборот, пороки? Ничего подобного – они будут копировать представления о крутости, популярные в их кругу
На краю садоводства, где у нас дача, есть проплешина, издревле (то есть все четверть века существования садоводства) именуемая футбольным полем. По краям пара покосившихся столбиков и правда силится изобразить ворота, но сакральный смысл проплешины в другом: по вечерам здесь собираются подростки. Жгут костер, травят анекдоты, курят, крутят романы – словом, живут свою первую взрослую (в их понимании) жизнь. Только на моих глазах уже несколько тинейджерских поколений сменилось.
Если бы наблюдатель фиксировал культурный слой, из года в год оставляемый подростками возле кострища к утру, то получил бы летопись страны. Лет двадцать назад на поле валялись пачки из-под сигарет «Стюардесса» и осколки бутылок от портвейна «777». Сейчас валяются банки из-под пива, пластиковые бутылки из-под колы, одноразовые тарелки с остатками фритов и пачки от «Мальборо лайте».
То есть прогресс налицо.
Правда, нам с женой не очень нравится проходить мимо – а к озеру другой дороги нет – этой тинейджерской помойки, и мы иногда устраиваем субботник. Собираем тарелки, стаканчики, жестянки из-под «Балтики», благо, большой мешок для мусора установлен тут же, возле скамеечек у кострища, и в этом тоже заметен прогресс.
Вопрос, занимающий нас при этом, прост. Почему, если есть мешок для мусора, подростки все равно бросают мусор на землю? Почему не убирают за собой? Ведь они вернутся на загаженное место завтра? Неужели им приятно сидеть среди мусора?
Ответ «им все равно» неверен. Строить мальчикам глазки (и шептать комплименты девочкам) куда приятнее в чистом месте. Но ответ «всему виной дурное воспитание, семья и школа» не верен точно так же.
Никакие мама, папа и классный руководитель не учат, что мусорить – это хорошо. Напротив, они искренне и настойчиво учат обратному. Однако, вопреки распространенному убеждению, дети мало подвержены влиянию родителей, точнее, тому, что родители детям говорят и что родители для своих детей делают. Это не моя гипотеза. Это научный факт, многократно подтвержденный, – взять американское исследование в рамках программы усыновления штата Колорадо, в результате которого не было обнаружено никакой связи между индивидуальными чертами 254 усыновленных детей и чертами их приемных родителей.
Что это значит? Это значит (и наша собственная жизнь, а также жизни соседей, друзей, сослуживцев, родственников и знакомых тому подтверждение), что по какой методике детей ни воспитывай, держи ты их в православной строгости или следуй стратегии потакания «kids have to be happy» – «дети должны быть счастливы», – все равно серьезных следов это не оставит. Все равно, достигнув благословенных 13, 14 или 15 лет, они тенью начнут проскальзывать мимо «родаков» в свою комнату, часами будут выстукивать пальцем sms или торчать в Интернете, нервно и беспричинно смеяться, слушать неприятную и непонятную родакам музыку – все это, повторяю, вне зависимости от того, драли родители их ремнем как Сидорову козу или же играли с ними в буриме под лампой с абажуром.
О том, что подростки взрослеют одинаково, в одинаково неотвратимых формах, причем эта неотвратимость имеет силу античной трагедии, Валерия Гай-Германика сняла блистательный фильм «Все умрут, а я останусь». Там с первого кадра понимаешь, чему суждено с девочками случиться, и понимаешь, что ничего не остановить и не поправить. Просто потому, что они живут на этой окраине, в этом микрорайоне, ходят в эту школу, а по-другому там попросту не бывает.
Все воспитательные стратегии в основном тешат самолюбие родителей, – об этом психологом из США Джудит Рич Харрис написана книга «Воспитательная ложь» («The Nurture Assumption»). Тема была развита соотечественником и коллегой Харрис Стивеном Линкером в книге «Чистый лист» («Blank State»). Но если у вас неважно с английским, вполне можно раздобыть изданную на русском «Фрикономику», в которой описано и это, и многое другое. Авторы книги – журналист Дабнер и экономист Левитт, и соавторов интересовали примерно те же вопросы, что и нас с женой во время дачных субботников: почему черные подростки в среднем учатся хуже белых, хотя в пределах одной школы они учатся одинаково? Какова в их поведении роль родительских наставлений? Какой фактор больше всего влияет на стиль тинейджерской жизни?
Конечно, ехидный читатель вправе задать еще один вопрос: «А с каких это пор экономика изучает воспитание?» – но тут-то как раз все просто. Левитт с Дабнером рассказывают, как результаты огромного исследования Министерства образования США (измерялись результаты учебы почти 20 тысяч школьников) были проанализированы при помощи экономической процедуры, называемой когнитивным анализом. Этот анализ использует статистические методы, позволяющие установить скрытые связи между различными явлениями.
Описание процедуры – 18 страниц! – пропущу, но главный вывод ошеломляющ. На детей влияет то, кем их родители являются. И не влияет то, что их родители делают. То есть важно то, что родители умны, образованны, успешны и здоровы. Но совершенно не важно, таскают ли они свое чадо по музеям или же бросают одного с чипсами у телевизора.
Подросток, замечают вышеупомянутые товарищи (и, похоже, Минобразования соглашается), наполовину состоит из того, что ему передано с родительскими генами. А еще наполовину – из того, что принято (или не принято) в его среде. И если в его школе и микрорайоне потребляют крэк и бьют чужаков, то с большой степенью вероятности подросток будет делать то же самое, несмотря на заложенную генетически гениальность, ремень в руке отца и слезы в глазах матери. А если в его окружении модно играть в поло, а также на скрипке – он будет играть. То есть дети копируют даже не родителей, а других подростков, пытаясь своим поведениям материализовать представления о том, что такое круто, а что такое отстой. А эти представления связаны не с увещеваниями, а с поведением других взрослых, на которых им хочется быть похожим (или непохожим).
А теперь вернемся на футбольное поле садоводства «Лебедевка» Выборгского района Ленинградской области.
Те мальчики и девочки, что жгут по вечерам костры, стараются вести себя так же, как ведет себя в подобных обстоятельствах крутой взрослый. Современный крутой российский взрослый человек курит крутые сигареты (но, обратите внимание, не «Беломор»), пьет пиво (но не водку), ест фастфуд и не убирает за собой.
Убирают за крутым взрослым некрутые взрослые: дворник-гастарбайтер, домработница или просто женщина, поддерживающая традиционный семейный уклад. Это мама моет полы, но их никогда не моют фотомодель и не ковбой Мальборо. Убирать за собой – признак слабости или старомодности. А подросток больше всего боится прослыть слабым и отставшим от моды.
В понятие крутости сегодня в России много чего входит, но прежде всего – деньги и сила. Это то, на чем в общественном сознании держится величие России. Россия – крутейшая держава потому, что может всем дать по морде (и Грузии вон дали!), и потому, что может тратить столько, сколько европеец никогда не потратит (и потому русскую туристку так легко отличить за границей). «Слабых бьют», – сказал однажды самый популярный в России политик, но что-то я не слышал, чтобы он хоть раз сказал, что слабым помогают и слабых защищают.
Этап воли без милосердия, власти большинства при игнорировании интересов меньшинства Европой давно пройден. Фантастическая сила того мира, что лежит к западу от нас, – именно в том, что считается у нас слабостью: в признании ошибок, в готовности к компромиссу, во внимательном отношении к мнению и амбициям маленьких стран, едва-едва вошедших в объединенную Европу. (Наша реакция: «Вот ведь козлы, никак не могут договориться! И чо они этих поляков (эстонцев, латышей, литовцев) слушают? Скоро весь их Евросоюз развалится!» – и – брыньк! – окурок из машину на дорогу, и – дрыньк! – жестянку из-под пива на поляну.) Инвалидов на улицах европейских городов много не потому, что там много пандусов или подъемников для колясок, а потому, что инвалид считается ровней здоровому (а наш понимает, что он в глазах общества – слабак, второй сорт, и потому не кажет носа на улицу).
Так что мы с женой обречены прибирать последствия чужого пира.
Ведь в нашей стране так много крутых чуваков, способных бесстрашно пойти с рогатиной на медведя, потушить лесной пожар и нырнуть на дно океана. А также потрясающей красоты женщин, способных пройтись по улице так, что сойдет с ума и евнух.
Но сильных мужчин и соблазнительных женщин, которые гордятся тем, что оставляют за собой после пикника чистый лес, в России попросту нет.
2010
Новосоветская тоска
Последние годы я все чаще слышу, как люди тонкие и сложно организованные начинают вздыхать, вспоминая жизнь в СССР. Кто бы мог подумать? А думать надо!
Повторяю: вздыхают люди сложные, образованные, вполне вписавшиеся в современную жизнь и небедствующие.
То есть никакие не деды с мохнатыми седыми ушами, в свитерах под серыми пиджаками, гундосящие, как в мультиках Куваева про Масяню: «Я в советские времена – у-у-у!»
И не наивные детки, наслушавшиеся дедков, а потому пылко влюбившиеся в небылицу про пионерию-комсомолию, взвившиеся костры, синие ночи и бесплатные лагеря на берегу моря (посидели бы два часа на Ленинском зачете после уроков – посмотрел бы я, как запели!).
И вздыхают вовсе не тогда, когда я сам срываюсь и бью кулаком по столу: «Даже при Брежневе лучше было! Тогда не было таких бесстыжих ментов! И с мигалками секретари обкомов не ездили!»
Эти люди с трудом подбирают слова, силясь дать наиболее точное определение охватывающей их тоски, и, смущаясь, спрашивают меня, не чувствую ли я сам, что жизнь в Советском Союзе была более честной и чистой в… (мучительный подбор) душевном плане? (Они стесняются произносить слово «духовном».) Дмитрий, ну вы же помните, что весь наш круг объединен был солженицынской, шукшинской идеей жить не по лжи, и хотя правду от нас скрывали и за правду можно было загреметь, но ведь мы ж именно правды искали, когда ротапринтировали «Живаго» или брали на ночь на папиросной бумаге изданный Новый Завет? И слово «интеллигент» для нас на самом деле означало «ищущий правду», и сколько копий ломалось вокруг того, мог ли быть шофер интеллигентным, а профессор – неинтеллигентным… Ну понятно, что могли, еще как могли… Свежий номер «Литературки» по средам… «Новый мир»… Это пир был какой-то, праздник! Ваш вот «Огонек» в перестройку… Ну, Дима, вы сами разве не чувствуете, что при Брежневе этот поиск правды был как жизнь, его было так много, что било через край, эмигрировали из-за правды! А теперь – какая правда, какой поиск… Хотя, вон, книги любые, информация, Интернет… Но пришел – купил, деньги-товар-деньги, и никого ничего не интересует, как будто все сузилось до магазина.
Выше других знамя этой неосоветской тоски поднимает нежно любимый мною писатель Дмитрий Быков. «СССР, – пишет он, – был богатой и сложной системой, в которой уживалось много всего, а постсоветская Россия, как всякая послереволюционная действительность, – система слабая, бледная, плоская и простая… Так что терпеть инакомыслие или инакочувствование – что является первым признаком сложной системы – здесь никто не собирался: ни в 90-е, когда хозяевами дискурса были либералы, ни в нулевые, силовые… Попробуйте при современном инакомыслящем сказать доброе слово об СССР – например, заявить, что в 70-е годы Россия была лучше, чем в нулевые, – и вы немедленно огребете по полной. Это не конфликт убеждений, поскольку большая часть идеологий для того и создана, чтобы дурные люди могли ими прикрываться. Это онтологический конфликт сложности и простоты. Между тем Советский Союз, хорош он был или плох, был настолько же сложнее, богаче, напряженнее, интеллектуально насыщеннее России 90-х или нулевых, насколько Россия Серебряного века – пошлого, растленного, развратного и коррумпированного – была богаче, сложнее и интереснее России 20-30-х годов».
Эту идею – что Советский Союз при всех своих грехах был структурой многоклеточной, тогда как нынешняя Россия напоминает амебу, одноклеточный простейший организм – Быков отстаивает с яростью клокочущего чайника или, применительно к габаритам Быкова, самовара.
При этом Дмитрий Быков ничуть не похож на страдальца по военно-имперскому СССР (как Александр Проханов) и являет собой тот вид империалиста, что любит империю главным образом за то, что в ее складках легко затеряться и уютно жить. Спорить с Быковым о качестве интеллектуальной жизни в СССР (где никто слыхом не слыхивал ни о транзакционном анализе Эрика Берна, ни о Томасе Куне с его «Структурой научных революций», а властителем интеллектуальных дум, наряду с Лотманом и Леви-Строссом, были – о господи! – Владимир Леви и Дэйл Карнеги, про Фонд же Карнеги (учрежденный Эндрю Карнеги) никто и не знал. Советская интеллигенция вообще прошла мимо всей западной интеллектуальной мысли, начиная с послевоенной), – так вот, спорить об этом на фактах с Дмитрием Быковым решительно невозможно.
Но тоску по сложности Быков улавливает в сегодняшнем дне безошибочно.
Я долго пытался определить, какую же такую сложность и какое же такое многообразие он уловил и закрепил за той ушедшей, советской, казенной эпохой, пока вдруг в очередном разговоре с очередным неглупым и непростым господином, признавшимся, что ему порой очень не хватает СССР, не сообразил.
Сложность той жизни состояла в многообразии путей поиска правды, про которую не было известно ничего, кроме того, что она где-то есть. В СССР в унылую идею коммунизма не верил никто – все понимали, что коммунизм не настанет, – зато официальному мифу каждый противопоставлял собственный. У кого-то был миф о западной жизни. У кого-то – об Израиле как земле обетованной. У кого-то, как у режиссера Говорухина, – миф о прекрасной дореволюционной России. У кого-то – о православной соборности. У кого-то – о Серебряном веке поэзии. У кого-то – об истинном ленинизме. У кого-то – об отделении от СССР. Эти мифы неизменно преследовались (дорогой Быков, какая терпимость к инакомыслию – ты о чем?), но их было столько, что уничтожить их было можно, только уничтожив население страны.
СССР вообще представляется мне гигантским темным складом, ангаром, в котором, при быстром промельке спичек или фонарика, каждый искал истину, которая в один момент объяснит все. Вот здесь группа богоискательствующих товарищей штудирует «Историю российской Церкви» о. Владимира Русака, отпуская проклятия гонителям. А вот – другие товарищи пытаются достичь состояния сатори посредством изучения научно-популярной брошюры «Философские основы дзэн-буддизма». Там – учат иврит. Тут – постигают по «слепому» ксероксу духовную и боевую составляющую айкидо и карате. Рядом вызывают дух Гумилева-отца по методу Блаватской. По соседству – перепечатывают «Этногенез» Гумилева-сына (ну или «Хронику текущих событий»). Сбоку – расшифровывают со слуха песни Beatles и Rolling Stones. Шаг назад – зороастрийцы и арийцы. Шаг вперед – структуралисты и формалисты. Шаг влево – троцкисты и кропоткинцы. Шаг вправо – хлопобуды и будохлопы. У всех в рядах доносчики, за всеми следит КГБ, у всех рукопись лишь на ночь, во всех рукописях не хватает самой главной страницы, но все готовы пострадать, лишь бы добыть Грааль. И все, что запрещалось – а запрещалось все, – почиталось Граалем: иначе зачем запрещать?
Это и было советской сложностью, воспеваемой Быковым.
Когда ангар сыграл в ящик, и крышу снесло, и явился свет, выяснилось, что и кладов особых нет, и что сейфы распахнуты, и что тайники большей частью пусты. Западная жизнь оказалась полна труда и проблем. Израиль предстал маленьким и провинциальным. В дореволюционной России обнаружилась тьма гадостей, закономерно приведшая к революции. А стихи стали вообще никому не нужны.
Какое-то время действовал операционный наркоз смены вех, потом – наркоз обустройства жилища и жизни, а потом, когда в образованных, сложносочиненных людях снова возникла потребность в ответе на вопрос об истине, они очутились наедине со своей тоской.
Больше всего они напоминают человека, не покупавшего книг с 1980-х и вот зашедшего в современный книжный – и взвывшего. Потому что книг – тыщи, и большинство авторов неизвестны, и как отличить бриллиант от дерьма – непонятно. Но все на продажу.
И так же себя чувствует человек, последний раз ходивший в кино в СССР и вот забредший в современный мультиплекс – и офигевший. Потому что залов десять штук, и то ли на «Китайскую бабушку», то ли на «Девушку с татуировкой дракона», и сотни подростков – короче, прикинь! – бегают и жрут попкорн, одноклеточная система, а ведь выстаивали раньше очереди на полуподпольного Тарковского… Да нет, мы не против долби-сарраунд и всех этих три-дэ, и попкорн тоже недурная придумка, особенно когда соленый, а не сладкий, – но согласитесь, Дмитрий, это какая-то индустрия, товарооборот, а не хватает… ну, душевности что ли, которая раньше была.
А я и не спорю. Потому как все это проходил. И тоску по душевности, и шок.
Наша ошибка вот в чем была: мы думали, что стоит открыть потайную дверь, прочитать заветную книжку – и откроется истина во всем ее невозможном блеске. А смысл жизни не существует в готовом виде, а складывается, как пазл, в индивидуальном порядке.
Так что я всю эту тоску по душевности и сложности СССР понимаю, но ей отнюдь не сочувствую.
Вот у меня сегодня дома – горой навалены штук двадцать жизненно важных, но еще не прочитанных книг, штук сорок до зарезу необходимых, но еще не просмотренных DVD, и в компьютер вбит список, где книг этих и фильмов еще сотни три. И Найл Фергюсон там с «Восхождением денег», и Осборн с «Цивилизацией», и Быков с «Пастернаком», и Лосев с «Меандром» и «Бродским», и последние Сенчин, Крусанов, снова Быков, Бояшов, Садулаев, Шимазаки, Хокинг, Болл, Ридли, Капица, Закария, Пятигорский, Барт, Адорно, Делез, Бадью, Фукуяма (и снова Быков…).
Одноклеточное время?
Мне смешно.
Ну, допустим, кому-то и одноклеточное.
Но ты-то сам можешь прирасти тем количеством клеток, которое считаешь необходимым? Или же, как в СССР, оправдываться, что «быт заел»?
Ну-ну.
Мечеть в окне
Я совсем упустил из виду, что вещи, явления, люди, которые делают место, где ты живешь, уникальным и колоритным, – других подвигают на борьбу с этих колоритом. Ведь одна из «русских идей», как она подается на Русских маршах, – чтобы всем быть одинаковыми
Я уже довольно давно живу на два города, Москву и Петербург, и скоростной поезд «Сапсан» использую как избу-читальню. Скапливаются в обоих городах недочитанные газеты, журналы, – и вот есть время и место с ними разобраться.
Порой случаются примечательные находки. Открываю газету «Мой район», в том варианте, в каком она выходит для жителей центрального округа Москвы, где я по рабочим дням квартирую. Мне, сразу скажу, очень нравится эта бесплатная и, казалось бы, невеликая газета. Там рядом с высокой политикой невиннейшим образом присутствуют рубрики типа «автобусные экскурсии», заметки «Гаджеты для пенсионеров», а также сообщения о днях рождения детишек, – что вкупе превращает население района в community, в общество, да и меня самого из квартиранта – в жителя. Я в Европе немало видел таких рассчитанных на местное community газет (или даже газеток, печатающихся в крохотных поселочках на струйном принтере: начался сезон рыбалки, муниципалитет принял решение установить второй светофор) – и рад, что добралось и до нас…
Так вот, открываю свежий октябрьский московский «Мой район». Читаю: против разрешения на строительство на Волжском бульваре в Текстильщиках мечети и медресе выступают «инициативные группы местных жителей, общественное движение „Мой двор“, а также националистические организации». Соли и перца конфликту придает то, что ранее инициативные местные товарищи обращались в местную управу с просьбой построить на бульваре православную церковь, но получили ответ, что это невозможно «из-за большого количества коммуникаций».
Газета, понятно, не пишет – и, возможно, правильно делает, – что один из сильнейших страхов, который живет в современном горожанине титульной нации сразу после страха попасть в лапы к ментам, – это страх в одно прекрасное утро проснуться в «мусульманской стране». Где за словом «мусульманский» стоит не ислам как идеология (большинство страшащихся не в состоянии даже примерно сказать, чем шииты отличаются от суннитов, и неизменно разевают рот, услышав, что ислам признает Христа пророком, да и вообще вместе с иудаизмом и христианством относится к аврамическим, то есть однокоренным, религиям), а ислам как эстетика, внешнее проявление. Вроде того, что устроила однажды арт-группа «AES+F» в рамках «Исламского проекта», где посредством фотошопа показала, как могли бы выглядеть города мира (включая Москву), когда ислам стал в них доминировать. Ничего себе получилась картинка: эстетически более привлекательная, чем та, в которую безо всякого фотошопа превратил Москву Лужков.
Я принимаю это на заметку (в смысле, про мечеть в Текстильщиках, потому что травить Лужкова после отставки – это как гнать псовой охотой лису; собаки лису разрывают в клочья, я тут на стороне «зеленых»), откладываю прочитанный московский «Район» и открываю «Мой район» петербургский, с локализацией на Петроградской стороне, моем любимейшем районе, где всего отсыпано разом и щедро – крепость, «Аврора», домик Петра, Мюзик-холл, зоопарк, планетарий, Острова, дома с курдонерами и пауками на балконных решетках – в стиле северного ар-нуво… Номер газеты, кстати, за то же число, что и московский. Читаю: петербуржцы собирают подписи под открытым письмом Валентине Матвиенко, в котором требуют запрета проведения мусульманских праздников в жилых кварталах. Например: девушка по имени Светлана живет на Сенной площади (той, где в некрасовские времена «били женщину кнутом, крестьянку молодую»), во дворе у нее мусульманский молельный дом, в Ураза-Байрам туда пришли три тысячи мусульман, во двор вынесли динамики, для Светланы случился кошмар…
«Сапсан» – это самый быстрый российский поезд, построенный в Германии. Свой скоростной поезд под названием «Сокол» мы тоже строили, но он склеил крылья (и ласты) еще на испытаниях, не долетев до Бологого. Богатейший, доложу вам, был проект, прекрасные деньги освоены – впрочем, это я снова в сторону… Так вот, сидя в немецком поезде, летящем на скорости 200 км/ч по России, легко ощущать себя космополитом и задаваться логически возникающими вопросами. Если не нравится, как кто-то совершает религиозные обряды под окнами, то почему протестуют только против мусульманских обычаев? Вон у моей мамы, в городе Иваново, прямо под окнами – собор Введения Богородицы, в народе именуемый «Красной церковью». Краснокирпичное здание, возведенное в эпоху церковного архитектурного упадка рубежа XIX и XX веков, оно не слишком радует глаз, а по выходным маме не дает высыпаться колокольный звон, который там, увы, отнюдь не малиновый. И что? Мама жалуется, но терпит, а я, когда бываю в Иванове, даже не жалуюсь: в одной деревушке под Парижем, где мы с женой гостили у друзей, мы поначалу вскакивали в ночи, потому что каждый час бил колокол на церкви, но потом привыкли, перестали замечать и даже оценили: тишина гробовая, спит всё, уснуло всё вокруг, на небе Млечный Путь, 500-летняя церковь на холме, деревушка в сто домов, и вдруг, одиноко и гулко – бум-м-м…
Или вот, об этом писали, в Москве планируется построить двести типовых православных церквей по магазинному принципу, то есть по принципу «шаговой доступности», – они ведь тоже выплеснутся во дворы если не колокольным звоном, то крестными ходами, бабушками в платочках, нищими у ворот. Но никто ведь не думает протестовать, верно? Это, наоборот, почему-то связывают с немедленным снисхождением на микрорайон чего-то такого, что синонимично нравственности.
Или еще вопрос: если не нравится странная и непривычная толпа (мужчины – в бородах, женщины – в платках, и я не про убежденных православных, я про мусульман, хотя, согласитесь, в общих чертах похоже) в Ураза-Байрам, то как можно не хотеть строить мечеть, которая могла бы эту толпу укрыть внутри? Или если вот не нравится ислам как религия, то что именно не нравится? Теракты, да? Кавказ? Распространение ваххабитских идей под прикрытием медресе и мечетей? Кстати, в чем сущность ваххабизма и в чем он расходится (и расходится ли) с «правильным» исламом, вы хоть примерно представляете? Если видите за каждым муллой вдохновителя террориста, то почему протестами загоняете мусульман в подполье? Думаете, не будете видеть – терроризм исчезнет? Кстати, вы знаете, чему учат в медресе? Как устроена мечеть? Какие там правила?
Ответов нет, поскольку логика – не тот принцип, на котором держится русская цивилизация. Мы, как однажды заметил крайне ценимый мною писатель Александр Терехов, страна действия, а не думания. И вошедшего в плоть страха, как заметил он же. Мусульмане – чужие, непонятные, темные, страшные, вот придут и укроют наших женщин хиджабом, а мужчинам перережут горло. Даже робкое и тоже не бог весть какое умное замечание – по крайней мере, мусульмане не пьют – отметается с ходу. Ты, Губин, и правда не русский какой-то, ты засланный, что ты тут нам пишешь, сам все знаешь, а не знаешь, так не смеешь судить.
На самом деле, я судить смею. Моя питерская квартира выходит одними окнами на Петропавловский собор, а другими – на мечеть. Мечеть на Петроградской стороне – это творение архитекторов Васильева, Кричинского и фон Гогена, сумевших нежно скрестить Самарканд с северным модерном. Когда мы только купили квартиру – расселили чудовищную, без горячей воды и с разбитыми окнами коммуналку, – никаких служб в мечети не велось, потому что шел ремонт и она стояла в лесах. Когда леса сняли, все ахнули: у мечети – фантастические купол и фасад, весь в голубой глазури с восточной вязью, в обрамлении сурового гранита. В ночи в прожекторах вспыхнули купол и минареты. Утром праздновали, если не ошибаюсь, Курбан-Байрам: в мечеть втекала толпа и усилитель разносил над Невой голос муэдзина, и все это придавало местности такой же шарм, какой придает греческий солнечный храм Биржи – стрелке северного Васильевского острова. Именно «шарм», да, я отвечаю за слова: шарм чужого, но пустившего корни у тебя под окнами, шарм лютеранских игольчатых шпилей, украшающих в Питере православные церкви, шарм русских блинов, шалей, шалостей, ярмарок, вдруг прижившихся на берегах холодной шведской реки. Это дает жизни ощущение эстетической наполненности, тяжести, придает твоему району колорит, наделяет его, как говорят питерские эстеты, genius loci, богом места.
Я вовсе, чтобы вы не сочли меня восторженным идиотом, – я вовсе не идеализирую взаимное проникновение разных (и порою принципиально разных) культур.
Купол и минареты довольно быстро перестали освещать, и вместо сказки Востока в ночи в моих окнах стал возникать мрачный его профиль, и я даже жаловался на это в приватной беседе – ну что, им трудно лампочки заменить? – верховному муфтию Нафи-гулле Хазрату Аширову, но он только вежливо покивал головой. Зато человек из питерской администрации мне аккуратно намекнул, что дело не в лампочках, просто не надо чересчур уж подчеркивать, не надо, чтобы слишком уж сияло и било в глаза… «Било что?!!» – вскричал я, но вскоре узнал, что не так и давно, в 1990-х, человека, задумавшего издать в России перевод «Сатанинских писем» Салмана Рушди, – этого человека схватили и удерживали пару дней в подвале этой самой, что в моих окнах, мечети двое суровых бородачей с «Калашниковыми» на коленях. И источнику этой информации, поверьте, у меня нет оснований не доверять, и «Сатанинские письма» (заставляющие любого прочитавшего их по-английски пожимать плечами – ну и где здесь антиисламская крамола?) не найти в магазинах.
А потом рядом с мечетью появился магазин «Халяль» с дивной бараниной и пряностями, где обслуживали с какой-то сказочной любезностью, а потом по соседству появился врачебный кабинет строго для женщин-мусульманок, и жена сказала мне, что это не очень красиво, но она поймала себя на мысли, что одна культура может не просто противоречить, но и исключать другую: это она про кабинет. А потом в магазин швырнули поутру гранату (а мы как раз с женой собирались идти за бараньей лопаткой), и там посекло осколками людей, и когда я зашел выразить хозяину соболезнования и поинтересовался, нашли ли бомбистов, тот только махнул рукой: «Кто будет искать? Тут всюду видеокамеры, всем все понятно, все на записи видно, но – КТО – БУДЕТ – ИСКАТЬ? Кому это надо?!!» – и извинился, что сорвался, повысил голос.
Медицинский кабинет, кстати, исчез.
У вас вот тоже бывает отчаяние, что идея или мысль, казавшиеся простыми, элементарными, так что нужно их претворять немедленно, вдруг запутываются, усложняются так, что делать нельзя вообще ничего?
Не знаю, понятно ли из написанного выше, что я – неверующий человек. Вообще неверующий, атеист. Но моя вера в практическом смысле – это вера в действенность вещей и явлений, подобных газете «Мой район». В то, что на уровне двора, микрорайона, района договариваться не то чтобы проще, но надежнее, чем на уровне верховного муфтия или патриарха.
Страхи почти всегда провоцируются неизвестностью. Будь я правоверным мусульманином, то ходил бы по домам возле мечети на Петроградской стороне – или в Текстильщиках, где спорят из-за мечети, или на Сенной площади, где молельный дом, а мечети нет, – раскладывал по почтовым ящикам свою газету, где совсем мало было бы про религиозные идеи, но было бы – про бытовую культуру и жизнь. Вот у нас Курбан-Байрам 17 ноября, вот так-то мы его празднуем, народу будет много, машину будет негде припарковать, вы уж простите, пожалуйста. Приходите в наш магазин, там самый лучший в городе рахат-лукум по самой низкой цене. А еще мы детский праздник устроим, приходите с вашими детьми, мы придем с нашими, это на нейтральной территории, в кафе, вы не беспокойтесь. И будь я правоверным православным, я так же вел бы себя в городе Иваново: а не мешает ли вам колокольный звон? Да? А не хотите прийти на выступление звонарей? А знаете, что у нас бесплатная воскресная школа?
Я не хочу сказать, что все это просто. Я хочу сказать, что только складывание соседей в сообщество, превращение чужих в своих позволяет чужую эстетику воспринимать не как угрозу, а как расширение жизни.
Я тоже этому расширению не сразу научился, пока не пожил в Европе. Там как-то сразу ощущаешь себя внутри сообщества: вот это, слышишь, посуду бьют супруги-португальцы, но ты полицию не вызывай, потому что они всегда сразу же мирятся. В этой квартире сумасшедшая бабушка живет, но она очень добрая, в среду приходи к ней на день рождения, ей будет 90 лет, она сладкое любит. Этот сосед – ортодоксальный еврей, он в субботу пешком к себе на седьмой этаж ходит, как это – почему? Потому что Шаббат, нажимать кнопки лифта нельзя. Это двое аргентинцев, геи, семейная пара, поженились в Испании, там это разрешено. А это Хасан, араб, он прораб на стройке, и у него всегда хорошая травка, так что обращайся, если будет нужда…
И не надо мне только про запреты хиджабов во Франции, про беспорядки в пригородах Парижа и запрет на строительство минаретов в Швейцарии – компатриоты, тычущие пальцем в эти несомненные факты, забывают, однако, упомянуть про фантастический фестиваль эмигрантов в лондонском Ноттинг-Хилле, про гигантский Исламский культурный центр в Париже (а также в Лондоне), а главное – про феноменальное влияние всех неевропейских культур на культуру европейскую. Европа всех их приняла и сделала своими.
Так что эту статью я дописываю под взятый во французской медиатеке диск группы «Космофонический оркестр», где Ямина Нид эль-Мурид и Надя Нид эль-Мурид с дивным магрибским акцентом поют по-французски так, что крышу сносит.
Диск, кстати, называется «Chansons apatrides» – «Песни апатридов».
То есть людей без гражданства.
Но, однако ж, с культурой.
2010
А также в области билета
Недавно я дважды испытал унижение. Первый раз – на входе в Эрмитаж, где от меня потребовали паспорт. А второй раз – общаясь в эфире с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским
Я не преувеличиваю. Если вы решите заглянуть в Эрмитаж – допустим, на выставку Центра Помпиду, сейчас ведь в России Год Франции, – то кассирша потребует с вас паспорт. Дело в том, что билет в Эрмитаж стоит 400 рублей, но для граждан России действует установленная самим Эрмитажем льгота, и билет обходится в 100 рублей. Как кассирша разберет, что перед ней гражданин России? Что это вы ей суете? Водительские права? Они не документ, подтверждающий гражданство. Служебное удостоверение? Тем более! Что? Без акцента говорите по-русски? А может, вы жулик, то есть украинец, белорус или америкос, пытающийся прорваться к Дюшану или Рембрандту по российской скидке?
И я ничуть не утрирую, а цитирую Пиотровского, хотя о потрясшем меня разговоре с ним чуть позже. Сначала – о том, о чем вы, возможно, забыли.
Когда-то страна по имени СССР была закрытой для иностранцев. Те ручейки, что просачивались, не допускались до контактов с аборигенами. Однако встречались места, где агнцы и козлища с неизбежностью перемешивались. Таковыми были: Большой и Кировский театры; Эрмитаж, Третьяковка и Русский музеи; поезда и самолеты внутри страны; Кремль. Там всюду существовали двойные цены: низкие – для советских граждан, высокие – для интуристов.
В этом был извращенный, но смысл. Если бы интуристы платили за билет на балет по ценам для аборигенов, это выглядело бы смешно по сравнению с ценами на их родине. Если бы аборигены платили по ценам для интуристов, они бы увидели, насколько ничтожны их зарплаты. Но смыслом двойных цен была не только конвертация неконвертируемого рубля. Еще одним смыслом была дойка иностранцев, разводка на валюту. То есть музеи Кремля, железные дороги и Кировский театр вели себя так же, как и ленинградская фарца, щипавшая финский автобус под Сестрорецком, – только под прикрытием государства.
Когда занавес и Советский Союз пали и Кировский театр стал Мариинским, выяснилось, что рубль прекрасно конвертируется и российские граждане могут зарабатывать не меньше интуристов (а многие граждане СССР сами стали интуристами). Театры, авиакомпании и РЖД сегодня продают всем билеты по единым ценам (и мне это кажется справедливым, потому что позволяет сравнивать цены и доходы).
А вот главные российские музеи и музеи-заповедники неожиданно остались заповедниками не просто двойных цен, но советской системы, целью которой, повторяю, было щипануть богатенького Пиноккио. Только теперь бизнес крышуется не именем государства (никакой Минкульт не заставляет музеи держать двойные цены), а именем культуры. «Дадим бедным россиянам приобщиться к культуре, а иностранцы и так богаты!» – посылает сигнал Эрмитаж, устанавливая цены в 100 и 400 рублей соответственно. А Русский музей и Третьяковка – в 150 и 300 рублей. А царскосельский Екатерининский дворец – в 550 и 260 рублей. И т. д.
Вы никогда не приглашали знакомых иностранцев – допустим, тетушку из Кременчуга – прогуляться по Кремлю или Царскосельскому парку? Вы на входе получите сегрегацию по принципу гражданства, и тетушка будет скрывать, что она с Украины. И вы поймете, что чувствовали негры в США во время расовой сегрегации и что евреи в Германии – во время национальной. Там, кстати, тоже все было во имя высокой цели: защиты прав коренного населения.
Тут нужно заметить следующее. У любой фискальной политики два аспекта. Первый – собственно фискальный, позволяющий пополнить бюджет: и я бы очень хотел видеть цифры, чтобы понять, сколько денег приносят Эрмитажу иностранцы, а сколько – граждане России, чтобы подискутировать, не выгоднее ли Эрмитажу единый билет, скажем, в 200 рублей. Второй – идеологический: любая льгота показывает, что обществом поддерживается, а что нет. То есть льготы для молодых и пожилых вытекают из уязвимости этих категорий, и это нормально. Но идеологический посыл двойных музейных цен – для взрослых: россияне нуждаются в поддержке и иностранец эту поддержку обязан обеспечить. Ведь мы не такие, как все.
Мне такая – в пользу своих – установка представляется стыдной. «Иностранец» не обязательно дядюшка Скрудж. Иностранцы – это и граждане СНГ (где жизнь часто просто бедна), и бэк-пэкеры, туристы с рюкзаками, останавливающиеся в хостелах или В&В. А «ренджроверами» и «кайенами» нуждающихся в дотациях россиян забиты все подъезды к Эрмитажу (а ну-ка, если в Лувр, в порядке единых стандартов, для русских установить четверную цену?!).
Эта установка ужасна еще и потому, что не дело музея определять, кто из взрослых людей беден, кто богат. Дело музея: а) свои сокровища сохранять, б) с ними знакомить максимальное число людей. Не говоря уж о том, что предъявление аусвайса (то есть доказательства, что ты – это ты) по сути своей унизительно. Да-да, мне унизительно показывать паспорт даже пограничнику, и потому меня так радует Европа без границ – но, замечу, пограничник действует хотя бы от имени государства, а Эрмитаж – по инициативе Пиотровского.
Поэтому, когда билетерша в Эрмитаже потребовала от меня паспорт, я был потрясен. Я мог заплатить за билет 400 рублей, не в этом дело. Но рядом плакали две подружки без паспортов, у которых денег на полные билеты не хватало. И объясняла что-то тщетно белоруска, говорившая, что всю жизнь проработала на СССР. Это было невыносимо. Невыносимо и унизительно настолько, что на радиостанции «Вести FM», где по понедельникам и пятницам у меня в ту пору был утренний эфир, я немедленно устроил обсуждение.
Поучаствовать я пригласил атташе по культуре посольства Франции Бланш Гринбаум-Сольгас (она раньше была главным куратором музеев Франции и сказала, что во Франции льготы существуют для молодых и пожилых, но по гражданству никто никого не делит и что российская ситуация иностранцам «обидна»), замдиректора Третьяковки Марину Эльзессер (она сказала, что в Третьяковке паспорт не спрашивают и что иностранцы не обижаются) – и, разумеется, Михаила Пиотровского. Его пресс-служба заявила, что он невероятно занят и что вообще никто из Эрмитажа участвовать в эфире не может. Поэтому мне пришлось звонить ему в прямом эфире на сотовый телефон, за что я тут же получил обвинение в «неинтеллигентности» (за которую готов извиниться, если директор Эрмитажа, конечно, оплачивает телефон за свой счет, а не музея).
И от Михаила Пиотровского я услышал – что да, гражданство нужно доказать и что это вполне нормально. И он добавил, что паспорта нужны, чтобы по льготной цене в Эрмитаж не попадали «жулики и аферисты».
«Жулики и аферисты не имеют права не Рембрандта?» – спросил я, не веря своим ушам, ибо видел на входе этих аферисток, этих плачущих девушек. «Имеют, но за полную цену», – ответил Пиотровский.
И я понял, что стояло за его словами. За ними стояла не идея открытости культуры, и не идея общности мира, и не идея объединения людей, – а идея культурного распределителя. Хозяин которого неподотчетен получателям и сам решает, кому, сколько и чего предоставить (и которого получатели благотворят за льготы). Я понял вдруг в секунду многое – даже то, отчего наши бабушки-хранительницы в музеях так набрасываются на тебя, охраняя «культурное достояние» (но очень редко помогают и никогда не улыбаются). Меня вон, в день паспортизации на входе, одна из них не пускала в Эрмитаже на перформанс Бартенева, требуя какой-то немыслимый «бейджик» (Бартенев потом был в шоке), а когда я открыл все же дверь, побежала за милицией, поскольку я в ее глазах (без бейджика!) уж точно был жуликом.
Идея распределителя – она, я считаю, ужасна. И дело не в деньгах. Москвой как распределителем правил Лужков. Это очень русская идея – распределять, подкупая льготами лояльность своих, и игнорировать чувства прочих. Делить мир на коренных и понаехавших тут. Разделять – и властвовать.
Закавыка лишь в том, что в Эрмитаже собраны шедевры все же мирового – мирового! – искусства.
Бамбуковый Кремль
Иногда глянешь окрест себя – вон, «Сколково» возводят, а что до свежих новостей, так трассу Formula 1 в Сочи строить начнут – и душа не то чтобы страданиями переполняется, а смутно прозревает… ба! Да я это уже видел!
Видел я это дело в Океании, в Меланезии, на острове Танна, в государстве Вануату.
Не то чтобы лично, но смотрел ленту Годфри Реджио «Коянискацци» – сейчас этот документальный фильм, как принято говорить, является культовым.
В нем показывается, как изощренная, технологичная евро-американская цивилизация сталкивается с невинной островной жизнью и какие удивительные формы, вплоть до религиозных, столкновение принимает.
Одна из таких форм – это карго-культ, о котором всему миру стало известно благодаря нобелевскому лауреату физику Ричарду Фейнману (тому самому, что придумал теорию множественности историй – недавно у нас шел фильм «Господин Никто», где эта теория художественно осмыслена). В 1974 году Фейнман прочел в Калифорнийском технологическом институте лекцию «Наука самолетопоклонников» – и это стало сенсацией.
Суть культа в следующем. Во время Второй мировой войны меланезийские аборигены столкнулись с потоком никогда невиданных даров цивилизации – типа консервов и кока-колы, которые на острова, ставшие военными базами, доставляли американские самолеты. Эти удивительные вещи были прозваны местными жителями «карго» – cargo, груз. Когда война окончилась, самолеты улетели и поток карго иссяк, то аборигены решили приманить его обратно. Они стали расчищать взлетные полосы и строить на них неотличимые от настоящих самолеты, вышки диспетчеров и т. д., только из пальм и бамбука. Они уверовали, что если построят такие же самолеты, как у американцев, то божество вспомнит про них и вернет карго.
С тех пор про карго-культы написаны сотни статей и десятки книг, а исследователи обнаружили, что такие верования нередко возникают там, где наивная цивилизация хочет рывком приобщиться к плодам цивилизации изощренной. Первые карго-культы и появились в конце XIX века: например, на Фиджи. Закономерность, однако.
И вот эти закономерности я хотел бы проверить на российской действительности – разумеется, понимая, что возмущу всех, кто искренне верит, что такое сравнение оскорбительно для великой державы. Но возмущение может вызвать даже невинное «а в чем же это величие?» – хотя, казалось бы, доказательств, кроме полета Гагарина в 1961-м, должна быть тьма.
Про упомянутое «Сколково» я обещаю далее упомянуть еще, но пока давайте о новости более свежей, то есть о строительстве в Сочи гоночной трассы Formula 1. Если кто пропустил: 14 октября генеральный промоутер «Формулы 1» Берни Экклстоун (похожий на Энди Уорхола пожилой господин с железной хваткой) в присутствии Владимира Путина (чья хватка тоже сомнений не вызывает) подписал договор, согласно которому Краснодарский край получает право проводить знаменитые гонки с 2014-го по 2020 год. Имена прочих подписантов, а также потенциальных заказчиков и подрядчиков я опущу, чтобы лучше был виден уровень сделки.
Новость мгновенно и положительно была оценена руководителями команд «Феррари», «Макларен», «Рено» (за последнюю выступает наш гонщик Виталий Петров). Я же в жажде подробностей позвонил своей коллеге, комментатору чемпионатов F1 Оксане Косаченко. Она – как бы поточнее? – по отношению к «Формуле» примерно то же, что Виктор Гусев по отношению к футболу, когда бы другие футбольные комментаторы исчезли.