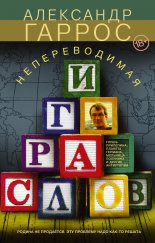Идеал Ахерн Сесилия

– Не понадобятся, – спокойно возразил Креван. – Мистер Уиллингем уже назначен твоим представителем.
Санчес и Джексон посмотрели на Кревана с недовольством: он нарушил правила. Я должна была выбирать сама.
– Полагаю, у мисс Норт остается право выбрать себе адвоката, – сказал судья Джексон, отменяя решение Кревана.
Пока Джексон, Креван и обгорелый Уиллингем обсуждали между собой новую ситуацию, Санчес непрерывно переписывалась с кем-то по мобильному. Хотелось бы мне знать, что она затевала.
– Мистер Уиллингем, благодарю вас. Я распоряжусь предоставить в ваше распоряжение самолет Трибунала, – произнес наконец Креван.
Мистер Уиллингем сильно расстроился и дал нам это понять, пыхтя и сопя и бросая на меня суровые взгляды, но ничего поделать он не мог. Руки связаны: начальство высказалось. Проходя мимо камеры Рафаэля, он быстро и брезгливо оглядел его с головы до пят.
Рафаэль вошел в мою камеру, сел нога на ногу.
– Итак, на чем мы остановились? – спросил он.
– Мы собрались, чтобы обсудить, как следует наказать Селестину, – приступил к делу Джексон. – Налицо публичное – весьма публичное – проявление неповиновения и неуважения к Трибуналу, к правилам Трибунала, и за это полагается соответствующее наказание. Хотя попытка уклониться от исполнения правил ничего нового сама по себе не представляет и соответствующие меры прописаны в законе, случай Селестины не имеет прецедентов. Мы сочли за лучшее собраться и обсудить этот вопрос келейно, без суда.
Креван и Санчес молчали. У них были свои планы.
– Действительно, судья Креван, мы бы предпочли решить вопрос именно таким образом, – вступил в разговор Рафаэль. – Так будет лучше для всех. Начнем с того, что Трибунал судит о вопросах морали. Какие аморальные поступки совершила за последнее время Селестина? Произнесла речь на устроенном вами собрании? Весьма вдохновляющая речь, скажу я тебе, Селестина. Думается, свободу слова Трибунал пока еще не отменил. Все нарушения Селестины сводятся к тому, что она скрылась от надзора своего куратора и не соблюдала комендантский час. Если вы намерены наказать ее за это, можно обратиться к прецедентам. Когда Ангелина Тиндер опоздала к комендантскому часу, вы на неделю забрали у нее детей; Викторию Шеннон на неделю лишили зарплаты. Дэниэл Шмидт оставался без зарплаты месяц, Майкл Оберн – полгода, пока не перестал платить по ипотеке и чуть было не лишился дома, но тут вмешался здравый смысл – в лице Верховного суда.
Он с легкостью наизусть перечислял пример за примером.
– Но у Селестины нет работы, нет детей, нет дома. Если вы вздумаете наказать кого-то из ее родных, я подам на вас в суд за нарушение прав человека. Родственники Заклейменных не могут отвечать за их проступки.
И не будем забывать: Трибунал неправомочно задержал ее сестру Джунипер, которая ничего не нарушала, и до сих пор удерживает под арестом ее деда, против которого у вас пока что тоже не нашлось никаких улик.
– Он помогал нарушительнице, – сказал Креван.
– А где доказательства? Если бы вы располагали фактами, вы бы уже предъявили обвинения. Вы схватили сестру Селестины и ее деда лишь затем, чтобы вынудить ее сдаться. До сих пор Трибунал делал все, чтобы озлобить мою клиентку и запугать ее, чтобы помешать ее исправлению. Чем обсуждать наказания, я бы рекомендовал проявить милосердие – Селестина Норт этого заслуживает.
– Мистер Ангело, в задачи Трибунала не входит смягчать приговор, – ответил судья Джексон вежливо, но непреклонно.
– Верно. И в его задачи не входит восстанавливать справедливость, когда приговор вынесен по ошибке. Но это входит в задачи правительства, – напомнил Рафаэль. – Власть без милосердия, власть без человеческого достоинства – тиран. Я намерен апеллировать по этому делу к премьер-министру.
– Ошибочный приговор? – переспросил судья Джексон, нахмурившись. – Мы собрались для того, чтобы обсудить допущенные Селестиной нарушения. И при всем уважении, мистер Ангело, завтра выборы. Вы рискуете – кто знает, каков будет состав правительства?
– В самом деле, премьер-министром может стать Эниа Слипвелл, и для нашего дела это конечно же будет более благоприятно.
– Вот уж сомневаюсь! – фыркнул Креван.
Судья Джексон, кажется, не был так уж уверен, к тому же его раздражало, что Креван постоянно вмешивается в разговор, хотя его просили держаться на вторых ролях.
Нашу встречу прервал страж:
– Судья Джексон, вас срочно вызывают к телефону в вашем кабинете.
– Неужели нельзя подождать? – растерялся Джексон. – Это важный разговор.
– Сказали, срочно, сэр.
Я глянула на Санчес – та прятала глаза, и я поняла, что она каким-то образом подстроила этот срочный вызов своими эсэмэсками. Обидно – только Рафаэль достучался до судьи Джексона. По крайней мере, из этой троицы он был наиболее честным.
Джексон вышел, а Рафаэль продолжал как ни в чем не бывало:
– И каким же образом вы хотите дополнительно наказать мою клиентку? Вы и так приговорили ее к пяти Клеймам.
– Всегда можно найти новое место для Клейма, – подмигнул мне Креван.
Он и правда думает, будто никто ничего не узнал. Я заметила, как изменился взгляд Санчес. Его наглость напугала ее – и рассердила.
– Например, поясница, – подсказал Рафаэль.
Сердце отчаянно забилось. Дошли до сути. Сейчас Рафаэль выложит карты на стол.
Санчес тоже это почуяла, выпрямилась, напряглась.
Креван уставился на Рафаэля не моргая.
Долгое молчание.
– Будем говорить начистоту, – сказал Рафаэль. – У нас есть видеозапись, на которой вы, судья Креван, собственноручно ставите этой юной леди Клеймо на поясницу – без анестезии.
У Кревана дернулся глаз.
– До меня дошли слухи о подобной видеозаписи, однако ее никто не сумел найти. Лично я считаю это пустой угрозой – не существует никакой записи.
– Есть запись, – сказала я.
– Могу вас заверить, судья Санчес, никакой записи не существует, и даже если нам предъявят какую-то съемку, это дешевая подделка, как все, что нам показывают в интернете, – сказал Креван своей коллеге.
Он пытался привлечь ее на свою сторону. Санчес молчала и пока что прятала свои козыри. Я не знала, чью сторону она выберет в итоге.
– Селестина сегодня утром была у вас дома, – недоверчиво сказал ей Креван.
– Да, и я звонила вам лично, чтобы сообщить об этом, но стражи подоспели первыми.
– Это я вызвала стражей. – Мне наскучила их игра в кошки-мышки. Хватит с меня игр. Все в открытую. – Судья Санчес хотела выдать меня вам в руки. Хотела что-то получить в обмен на меня. Заключить сделку.
Она удивленно поглядела на меня, однако ей пришлось продолжить то, к чему я подступилась.
– Вы наделали слишком много ошибок, Боско, – сказала она. – Начато внутреннее расследование. Меня вызывают свидетелем – и мне придется отвечать на все вопросы.
– Чего вы хотите? – спросил Креван. Как будто ни меня, ни Рафаэля тут не было.
– Я хочу, чтобы вы ушли в отставку. Хочу возглавить Трибунал.
Он нервно рассмеялся.
– Чтобы я уступил вам свое место?
– Да, я хочу контролировать Трибунал. Полностью контролировать.
Он поднялся. Стоял словно одеревенев.
– Хотите мою работу в обмен на что? На нее? – ткнул в меня пальцем. – Она уже тут.
Он даже по имени меня не удостоивал назвать. Я заметила, что и Рафаэля это возмутило.
– У меня есть запись, – сказала Санчес. Кровь отхлынула от лица Кревана. – Я видела, как вы своими руками поставили Клеймо семнадцатилетней девочке. Это было омерзительно. Бесчеловечно. Не для этого был создан Трибунал.
На миг он опешил. И все же:
– Я вам сказал, запись – подделка.
– Думаю, в это мало кто поверит.
У него заходил кадык.
– Вы опозорили весь Трибунал, Боско, и если придется, я покажу эту запись всей стране, потому что это ваших рук дело. Недопустимо, чтобы вы оставались верховным судьей, это погубит Трибунал. У нас уже полно неприятностей. Я сумею выстроить отношения с новым правительством. С чистого листа. Мы снова будем заниматься тем, к чему мы призваны.
Боско ее предложение вовсе не обрадовало. Трибунал для него – что сын родной. Похоже, Эрика Эдельман права: Креван вообразил себя отцом народа. После смерти жены он сорвался, винил всех в своей утрате, заклеймил врача, которая поставила неверный диагноз, упустила рак. Почувствовал вкус личной мести, и тут-то все человеческое в нем затрещало по швам, а изнутри вылезло чудовище.
– Ничего у вас не выйдет. – Креван угрожающе перегнулся к ней через стол. – Трибунал основан моим дедом. Во главе Трибунала всегда стоял один из Креванов.
– Я сумею это сделать – и сделаю. – Санчес тоже поднялась на ноги.
Мы с Рафаэлем переглянулись. Мне этот разговор добра не сулил. Они заключат сделку, а в проигрыше останусь я.
– Самое лучшее и правильное, что мы можем сделать, – сказала она, – это чтобы вы ушли по собственному желанию. С новым правительством начинается новая эпоха, обновленный Трибунал. Уйдете без скандала, никаких вопросов, видеозапись никто не увидит.
– А что будет со мной? – спросила я, прерывая их поединок.
– Я верну тебе свободу, – сказала судья Санчес. – Мистер Ангело прав. Трибунал не должен быть превыше милосердия.
– Отмените мой приговор? – рявкнул Креван.
– Это единственный выход.
– Не единственный! – завопил он во всю глотку.
Кэррик и дед прилипли к стеклянным перегородкам, пытаясь понять, что происходит. Но даже Рафаэль и я не очень-то это понимали, хотя и находились с Креваном в одной камере.
Креван ринулся к двери, попытался открыть.
– Камера заперта, – напомнила я.
– Бога ради, откройте! – заорал он, надрываясь.
– Вас не услышат, – спокойно сказала я. – Камера звуконепроницаема.
Он обернулся к нам, весь красный, лицо дергается, внутри кипит гнев, вот-вот лопнет. Стражница подоспела вовремя – отперла дверь, и Креван вылетел из камеры, словно камень из катапульты, чуть стражницу с ног не сбил.
Санчес выдохнула. Длинный дрожащий звук.
– Значит, вы вернете мне свободу. Я не буду больше считаться Заклейменной.
– Да.
– И дедушку отпустите? – продолжала я.
– Да.
– И мистера Ангело?
– Да.
– Моим родителям пришлось оплатить судебные издержки.
– Мы возместим из средств Трибунала.
– Марлена Понта свидетельствовала на суде о моем характере. Вы признаете, что она не солгала Трибуналу. Признаете публично.
– Да.
– Клейма, – вступил в разговор Рафаэль. – Трибунал должен оплатить Селестине пластическую операцию.
Санчес подумала и кивнула:
– Да.
– Об отмене приговора будет объявлено публично? – уточнил Рафаэль.
– Будет.
Сердце оглушительно застучало. Все, как я хотела. Мне нужно было, чтобы все узнали, как поступил Креван, потому что это вынудило бы пересмотреть дела и других Заклейменных. Если сам Креван порочен, то и приговоры Трибунала не могут быть безупречны. Пожалуй, постепенно удастся отменить и всю систему. Я поверить не могла – я всего добилась? Почти всего.
Санчес собрала бумаги и, словно читая мои мысли, спросила:
– Это все?
Я оглянулась на Кэррика.
– И еще Кэррик Уэйн. Отмените и его приговор.
Тут она посмотрела мне прямо в глаза, и уголок ее рта дернулся в улыбке.
– Нет, – сказала она.
– Но вы должны освободить и Кэррика тоже! – возмутилась я.
– Кэррик Уэйн не имеет отношения к твоему делу, – сказала Санчес. – Как и к нашему разговору.
– Но его накажут за то, что он помог мне бежать.
– Его накажут за то, что он бежал от своего куратора. За помощь тебе никакого дополнительного наказания не будет, если это тебя беспокоит.
– Но вы должны его освободить! – Голос изменил мне.
– Нет, – твердо повторила она. Обернулась к Рафаэлю: – Мы закончили? Я подготовлю бумаги.
– Мне нужно время, чтобы посоветоваться с адвокатом, – сказала я, застигнув их обоих врасплох. – Мне нужно время подумать.
Рафаэль в ужасе закрыл глаза.
– Сколько времени? – спросила Санчес.
Я посмотрела на часы.
– Не знаю. До завтра.
– Даю тебе время до конца рабочего дня.
– Ты получила все, чего хотела, Селестина! – вмешался Рафаэль. – Свободу, свою жизнь. Соглашайся.
– Слушайся своего адвоката, Селестина, – сказала Санчес, забирая со стола последний листок. – Мое предложение действительно до шести часов вечера.
Она подошла к двери, и стражница тут же ей открыла.
– Что ты делаешь? – спросил Рафаэль, как только мы остались одни. – Нужно подписать эту сделку. Ты же этого и хотела. Если твой приговор будет отменен публично, вся система Трибунала окажется под сомнением – и это в итоге поможет всем Заклейменным.
– И сколько будет длиться этот процесс? Я хочу, чтобы Кэррика освободили прямо сейчас.
– Когда ты вступила в эту борьбу, ты добивалась, чтобы Креван был признан порочным. Мы сделали первый шаг в нужном направлении. Селестина, нужно придерживаться плана. Не глупи. Ты сможешь гораздо больше сделать для Кэррика и для всех Заклейменных, когда вернешь себе свободу. Не меняй планы ради Кэррика.
Тяжелый выбор. Непосильный выбор.
Я смотрела на часы и видела, как проходит минута за минутой.
– Послушай, я понимаю, ты очень молода, – продолжал Рафаэль. – В восемнадцать лет я был по уши влюблен в девушку, ее звали Мари. Господи, да если бы мне велели прыгнуть ради Мари с утеса, я бы прыгнул с радостью. Селестина, нельзя в восемнадцать лет жертвовать своей свободой ради другого человека. Тебе еще многому предстоит научиться. Прими эту сделку, Селестина.
Я наконец посмотрела на Кэррика: он прижался к стеклу и, кажется, готов его разбить, прорваться к нам, чтобы узнать наконец, что тут у нас происходит.
Со вздохом я взяла бумагу и ручку, забытые судьей Санчес в камере. Впрочем, едва ли забытые – она не допускает ошибок. Написала одну фразу и показала Кэррику:
Они согласились на все, кроме тебя.
Он прочел, понял и кивнул, как бы говоря: «Ну и пусть». Сложил руки и пристально глядел на меня, прося, приказывая подтвердить, что я приняла сделку. Под его взглядом я заерзала. Покачала головой.
Он раскинул руки в гневном жесте и, не слыша слов, я видела, как он кричит на меня. Он хотел, чтобы я была свободна. Хотел, чтобы я приняла эту сделку.
Я написала еще одну фразу и прижала бумагу к стеклу.
Я не смогу быть свободной без тебя.
Это его доконало. Я видела, что он тронут, и все же он сопротивлялся, он боролся и сломался – я знала, что он выкрикивает мое имя, хотя ни звука не доносилось в мою звуконепроницаемую камеру. Я покачала головой и отвернулась. Не хотела больше видеть, как он бьется. Спорить со мной, когда я повернулась спиной, он и вовсе не мог, и я знала, что это сводит его с ума, но я не могла больше продолжать этот разговор, не здесь, не так. Я приняла решение, хотя меня и смущали слова Рафаэля. Неужели и это решение – ошибка?
– Иногда приходится поступить эгоистично ради большего блага, – сказал, качая головой, Рафаэль.
– Какое бы решение я ни приняла, с вами, Рафаэль, и с дедом все будет в порядке. Вас я не подведу.
– Я ценю это, – сказал он с грустью, жалея меня.
Но он не понимал. На самом деле я поступала вполне эгоистично. Я полюбила свой мир, мир Заклейменных. У меня появились друзья. Я полюбила Кэррика. И если у меня это отнимут, мне придется вновь проходить через весь этот ужас. Меня уже один раз оторвали от знакомого мне мира и близких людей. Я примирилась с тем, что стала Заклейменной, мне, пожалуй, так даже лучше. Покрытая шрамами кожа – это моя кожа, и едва ли я соглашусь на пластическую операцию. Я не хочу снова стать той, какой была, вернуться к прежней жизни. Я никогда уже не смогу снова стать идеальной. Идеала не существует, любой идеал – подделка.
Но ничего этого я не сказала Рафаэлю.
Я снова поглядела на часы.
Нужно следить за временем.
Ждать.
– Почему ты все время смотришь на часы? – насторожился вдруг Рафаэль.
– Просто так, – сказала я.
Он прищурился.
– Ты что-то задумываешь, Селестина? – Теперь он не сводил с меня глаз. – Поэтому ты отказалась от сделки?
– Ничего не задумываю.
Это не было враньем. Я ничего не задумывала. Я уже все сделала.
Вот-вот что-то произойдет. То, что я привела в движение еще прежде, чем меня схватили.
Я оглянулась на стражницу, которая так и не вышла из камеры.
– Я ничего не задумываю, – повторила я.
Из-за стекла за мной следил дедушка, тоже прищурился, словно пытаясь разгадать, что у меня на уме. Он меня хорошо изучил – и он что-то заподозрил. А может быть, даже знал. Кэррик все бушевал. Схватил стул и запустил им в дальнюю перегородку. Стул отлетел рикошетом. Лицо Кэррика раскраснелось, на шее пульсировали вены, гнев опьянял.
– О-хо-хо, – пробормотал Рафаэль.
Стражница забеспокоилась.
– Не трогайте его, он сам успокоится, – сказал Рафаэль.
– В камеру! – распорядилась она, открывая перед Рафаэлем дверь.
– Я не закончил работу с клиенткой, – запротестовал он.
Но недолго ему удалось протестовать – два стража, вызванные на подмогу, чтобы угомонить Кэррика, первым делом увели из моей камеры Рафаэля.
Как сделать, чтобы Кэррик прекратил бушевать? Он все испортит. Он не поворачивался ко мне лицом – нарочно. Так он выражал мне свое негодование. Плечи его вздымались от бурного дыхания, он пытался овладеть собой. Я поспешно написала еще несколько слов и прижала лист к стеклянной перегородке, разделявшей наши камеры.
Он все испортит, если не сообразит, в чем дело.
Я застучала кулаками по стеклу, но этого он услышать не мог.
Стражи вошли в его камеру. Только бы он не полез в драку. Наконец Кэррик оглянулся – но я уже убрала свой листок. Нельзя, чтобы это прочли стражи. Разорвав листок на миллион клочков, я выбросила их в корзину. Стражи с двух сторон приближались к опасному заключенному, выставив вперед руки, словно бешеного жеребца пытались укротить. Кэррик не удостоил их даже взглядом, он обернулся ко мне, глаза красные, словно от слез. Он думал, что испортил мне жизнь, он понятия не имел, что он-то меня и спас.
Если бы он успел прочесть мою записку, он бы все понял.
Стражи загородили его от меня. Потом они вышли, а Кэррик остался стоять на том же месте. Я снова прижалась к стеклу, надеясь, что теперь он поглядит в мою сторону. Но он не обернулся.
Я покачала головой и улыбнулась. Ничего у него не выйдет. Что бы он ни делал, я не перестану его любить.
И что бы он ни делал, то, что вот-вот должно произойти, произойдет.
Стражи вернулись, принесли нам еду, в каждую камеру по подносу.
И забрали у меня ручку и бумагу.
Рафаэль взял вилку, ткнул в еду, на лице – отвращение.
Дед принялся за еду, проворно подносил ко рту кусок за куском. Кэррик так и стоял ко мне спиной, не обращая внимания на еду, на стражей, на все и на всех. Хотел, чтобы я его возненавидела, но фокус ему не удался.
В животе заурчало. Суп – бежевый, это могло быть что угодно, овощи или бульон. На второе – мясо и овощной гарнир. Я сначала понюхала, как учил меня Кэррик, чтобы лучше распознать еду. Отчетливый запах мяты.
Мяты или антисептика. Возможно, пахло мясо: это, наверное, был барашек, но пересушенный до вида старой говядины. Поднеся тарелку с супом к носу, я закрыла глаза и втянула в себя воздух. Снова слабый запах мяты. Что же это такое?
Я не понимала, отчего еда пахнет мятой, и решила ее не пробовать. Пусть не думают, будто приручили меня. Прав Креван: упрямство сильно во мне.
Мне бы вернуться в ту кухню на заводе, сидеть рядом с Кэрриком перед открытым холодильником, с завязанными глазами пробовать драже и чувствовать прикосновение его пальцев к моим губам, когда он подносит на пробу очередной образец.
Может быть, это гороховый суп с мятой? Но почему не зеленый, а бежевый?
И подумать, такая вот пересушенная, переваренная еда из никудышного местного буфета – последняя, чей вкус удалось распробовать, прежде чем мне поставили Клеймо на язык. Наверное, мне же лучше, если я не почувствую теперь ее вкус. Хотя смотри-ка, дедушка все умял с аппетитом и даже прилег вздремнуть после обеда. И Рафаэль довольно бойко работал вилкой.
Даже Кэррик направился к столу. Голод не тетка. Он присел на стул и сунул ложку в суп, затем сразу в рот, ему нет нужды принюхиваться, как мне, чтобы распознать вкус.
Снова заурчал желудок. Я вздохнула, сдаваясь. Ладно, съем по-быстрому.
Но в тот самый момент, когда я поднесла суп ко рту, уже коснулась ложкой нижней губы, я замерла – в памяти всплыла та встреча с Креваном на горе и тот мятный запах, который я приняла за запах жевательной резинки. А потом я очнулась в больнице – после того как судья вонзил иглу мне в ногу. И еще я вспомнила, как ползла по полу, влача парализованные ноги.
Они подсыпали наркотик нам в еду!
Дед уже лежал на койке, глаза плотно закрыты.
Рафаэль обмяк на стуле, уронил голову на грудь.
Кэррик спиной ко мне крошил в тарелку с супом хлебную корку.
Я подскочила к перегородке, забарабанила в нее, закричала.
Он, конечно, не мог меня слышать, но больше я ничего сделать не могла и потому продолжала кричать – а он ел ложку за ложкой, – и у меня уже голос сел, горло саднило, я отбила себе и ладони, и костяшки, бессмысленно стуча ему в стекло.
Оглянулась в поисках ручки и бумаги – их уже не было, стражи забрали, когда принесли обед.
Я схватила стул и швырнула в перегородку. Сбросила на пол с кровати одеяло. Перевернула стол с едой. Швыряла все, что под руку попадало. Разнесла камеру вдребезги. Кэррик, видимо, ощутил вибрацию или тень движения в стекле – он вдруг повернулся и вытаращил глаза, увидев, что я натворила. Стражи распахнули дверь в наш отсек и уже нащупывали ключ от камеры.
Подбежав к перегородке, я стала повторять, надеясь, что он прочтет по губам:
– Еда! Еда! – замотала головой. – Не ешь! – обхватила себя руками за горло, изобразила, будто давлюсь, задыхаюсь.
У Кэррика расширились зрачки, он глянул на стол со своей едой, потом на меня: понял. Поднялся и хотел подойти к перегородке, но его повело вбок. Ноги у него подгибались. Он посмотрел на деда, на Рафаэля, сделал еще одно усилие. Я видела, как пленка затягивает его глаза, но он все еще неотрывно смотрел на меня, потом он заметил что-то за моей спиной – и я увидела его горестный и беспомощный взгляд: в мою камеру ворвались стражи. Последнее, что он увидел, прежде чем попытался ухватиться за стул, чтобы устоять, промахнулся и рухнул.
– Кэррик! – завопила я.
Стражи уже в камере.
Я принялась швырять в них всем, что валялось вокруг меня на полу.
– Хватай ее! – приказал старший из них второму, и оба двинулись ко мне с дубинками наперевес.
– Стойте! – закричал кто-то.
Арт.
Арт в униформе стража.
– Не трогайте ее! – приказал он.
– Ты мне противен! – Я швырнула в него стул.
– Да успокойся же, Селестина! – Смотри-ка, он умеет командовать.
– Их отравили! – крикнула я.
Он оглядел камеры и увидел, что там творится.
Я швырнула к его ногам миску с супом.
– Я не ела!
Все разом бросились ко мне, но Арт поспел первым. Он обхватил меня обеими руками, и, хотя ему далеко до Кэррика, все же и он крупнее и сильнее меня. Он сдавил меня изо всех сил, не позволяя размахивать руками, но удержали меня не столько его руки, сколько его запах, знакомое ощущение прижавшегося ко мне тела. Казалось неправильным вырываться из его объятий. Противоестественным. Это же Арт. Мой Арт.