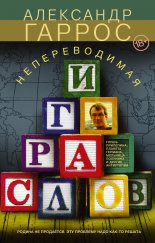Идеал Ахерн Сесилия

– Он не страж, – заторопилась я. – Он помог мне бежать.
Я хотела, чтобы как можно больше людей это услышали. Ради Арта. Он не хотел, чтобы в нем видели повторение его отца. Вот чего он больше всего боялся.
– Селестина! – снова позвал меня Кэррик, и я оглянулась. Он изо всех сил пытался встать, подойти ко мне. Роган помогал ему подняться. Я не знала, что делать. Не хотела бросать Кэррика, но с ним брат, а мне нужно спасти Арта.
Арт! Арт, Арт …
Элис сбросила кардиган, приложила к ране на животе Арта, надавила, пытаясь остановить кровь.
Он послужил мне щитом, принял пулю вместо меня. Спас мне жизнь.
– «Скорая» уже едет! – крикнул страж.
Креван рухнул на четвереньки. Я держала голову Арта на коленях, баюкая его, гладя дрожащими пальцами его кудри. На пальцах кровь.
Креван подполз с другой стороны, наклонился над сыном, осыпал его лицо поцелуями. Так мы оба и скорчились над Артом, плакали оба.
– Он будет жить? – рыдал судья. – Скажите мне, что он поправится. Я не могу его потерять. Он один у меня остался.
Веки Арта дрогнули и вновь сомкнулись.
– Кто это сделал? – гневно спросил меня Креван.
– Она! – Я не удержалась от соблазна.
Креван обернулся. Мэри Мэй стояла на коленях, словно моля о прощении, ее окружили трое Заклейменных братьев, судя по их виду – готовые в любой момент зарыть сестрицу с головой в землю. От былой Мэри осталась только оболочка, дух покинул ее, привычная жизнь распадалась.
– Судья Креван, судья! – простонала она. – Это был … Я не хотела … Я пыталась … Нужно было … Это Селестина! – выпалила она, ненависть ко мне придала ей сил. – Эта девчонка. Я должна была поймать эту девчонку – для вас.
– Я приказал следить за ней, а не стрелять в нее! – заорал судья. – Направить ее на путь истинный, а не превращаться в убийцу!
– Простите меня, умоляю! Эта работа для меня все. Это моя жизнь. Я всегда во всем слушалась вас и всегда буду.
– Нет, он тебя не простит, – заметил один из братьев. – Ты подвела его. Все кончено.
– Трибунала больше нет! – крикнул ей Креван. – Оглянитесь по сторонам.
И она словно сделалась меньше ростом, осела.
Я крепко держала Арта, он балансировал на грани сознания, веки вздрагивали, он кашлял и стонал.
– Селестина! – снова позвал меня Кэррик. Его голос охрип от крика.
Я подняла глаза и увидела его у двери замка, замка, из которого мы вырвались вместе. Рядом с ним на земле – Роган. Мы встретились взглядами. В глазах Кэррика – печаль, растерянность, надежда. Эти зеленые глаза вопрошали.
А потом захлопнулась дверца «скорой», прервала наш безмолвный разговор, помешав мне ответить – и тем лучше, ведь в ту минуту я не была готова.
Я сидела подле больничной койки Арта, окруженная непроницаемой тишиной. Какой контраст с бурными часами до того и поездкой на «скорой».
Арт стабилен. К счастью, пуля не задела внутренности – ни кишечник, ни печень, – не повредила крупные сосуды. Он поправится. Во всяком случае, физически. А как пуля в живот подействует на его и без того раненую душу – это нам еще предстоит узнать.
Веки отяжелели, у меня как будто наконец наступила в жизни пауза. Три недели подряд я вела себя так, словно стоит остановиться – и я уже ничего не смогу, и вот жизнь осадила меня: стой, Селестина, довольно. Мне и самой не хочется никуда больше спешить. Здесь я на своем месте.
У меня на коже шрамы, у Арта – рана от пули. Наши шрамы и другие изъяны рассказывают свою историю. Мои шрамы придают мне сил, напоминают, как я справляюсь с самой трудной порой своей жизни. Арту его шрам будет напоминать о том, как он защитил меня, как поступил правильно, помог Заклейменной. Он искупил свои ошибки и этим помог мне больше, чем сам понимает: он вернул смысл и моим поступкам тоже. Каждый день мы видим свои тела, мы навсегда останемся в этой коже – мы никогда не забудем.
Заглянула сиделка Джуди, она добрая. Забрала мою чашку зеленого чая – остывшую, нетронутую – поставила другую, судя по запаху – ягодный отвар.
– Стараюсь как могу, – пошутила она. – Это тебе из замка передали.
Она протянула мне рюкзак, тот, который был при мне утром, когда нас погнали на рыборазделочный завод. Это удачно, мне так хотелось избавиться от арестантской одежды, в которую меня переодели в замке, – и не только потому я хотела поскорее ее снять, что она пропиталась кровью Арта.
– Мистер Креван, к вам пришли, – добавила сиделка уже вовсе не так любезно.
Креван поднял голову – он так и сидел, зарывшись лицом в простыню, с тех пор как Арта уложили на эту койку. Глаза его налились кровью, покраснела и кожа вокруг, из носа тоже течет. Мы уже много часов просидели рядом, в полном молчании и вполне миролюбиво.
– Полиция? – Он втянул в себя сопли. – Пусть войдут.
Он утер лицо рукавом, готовясь к встрече.
Вошли двое в костюмах.
– Мистер Креван, нам нужно поговорить наедине.
– Все в порядке. – Он встал, подтянул джинсы. – Селестина была там, когда это произошло. Она тоже свидетель. Мы уже говорили с полицией на месте, но я рад – я очень ценю ваше серьезное отношение к делу. Вы детективы?
Оба кивнули.
Он шагнул вперед, протягивая руку.
– Мистер Креван, мы по другому делу. Не о ранении вашего сына. Мэри Мэй уже арестована.
– Вот как. Тогда что?
Детективы оглянулись на меня. Я почувствовала холод в кишках. Все из-за меня. Из-за видеозаписи, которую увидела вся страна.
– Как я уже сказал, нам следует побеседовать приватно, – строго повторил детектив, но Креван не из тех, кто сдается без боя.
– Если речь идет о промахах, допущенных Трибуналом, с этим также начали уже разбираться. Лично я больше не служу в Трибунале, меня уволили. Завтра утром об этом сообщат на пресс-конференции. Также начато расследование приговоров Трибунала, так что, господа, все под контролем, Трибунал сам во всем разберется. Вы можете поговорить с новым верховным судьей, Дженнифер Санчес.
Он снова вел себя как судья, пытался все контролировать, будто его ничего не может затронуть, но власти у него уже не было, ни ярко-красной мантии, ни герба «ревнителей идеала», – только мятая клетчатая рубашка да джинсы, замаранные кровью. Этот неофициальный Креван пытался удержать в руках контроль, Креван-чистящий-гараж, Креван-моющий-машину, возящий Селестину и Арта на фермерские ярмарки. В ту пору я никогда не замечала в нем – чудовище.
– Что касается Селестины, она свободна. Это опять-таки было улажено Трибуналом. Ей полагается небольшой срок в тюрьме, но, я думаю, она будет освобождена и от него, я в этом уверен.
– Нас интересуют не действия Трибунала, а лично ваши действия в отношении Селестины Норт. Это уголовное расследование, – пояснил детектив, а второй, еще менее деликатный, добавил: – Мы также расследуем жалобы Пиа Ванг, Натана Берри, пяти стражей, присутствовавших в камере Клеймения и ставших свидетелями вашего преступления, а также четырех учеников средней школы имени Грейс О’Мэлли[5].
Преступление.
И вот наконец на его лице проступило то выражение, которое я так давно хотела увидеть – потрясение от того, что ему предъявляют счет люди, облеченные властью, сам закон уличает его, и теперь он знает, что поступил неправильно, что он не господствует над всеми, что пытка, которой он подверг меня и многих других, – зло. Я видела, как в его глазах промелькнули растерянность, сомнение, ненависть к себе, готовность задавать вопросы, просить прощения. Самоуверенность как рукой сняло.
– Нам сообщили, что состояние вашего сына стабильно. Мы ждали этого известия, прежде чем прийти сюда. Будьте любезны проследовать с нами в участок.
Креван не может оторваться от постели Арта. Я вспоминаю, как меня тащили из автобуса, от Джунипер и Арта, как пронзали слух свистки стражей. Провели через двор под улюлюканье толпы, затем камера Клеймения, шесть ожогов, неделя в постели, пока они заживали, потом меня предали, заперли в сарае мнимые друзья, потом эта стычка в супермаркете, а еще меня хоронили заживо и провели полуголой по улице. Но самое ужасное – расставание с семьей. И все это – его рук дело.
Я смотрела, как уводили Кревана. Наши взгляды встретились, и в его глазах я прочла всю муку, что выпала мне на долю в последние пять недель. Я видела, что теперь он будет так же страдать.
Но вот в чем вопрос: станет ли мне от этого легче?
Нет.
Чтобы кто-то выиграл – другой должен проиграть. И если ты что-то выиграл, значит, раньше ты что-то потерял.
Несправедливость справедливости заключается в том, что чувства, предшествующие приговору – и порожденные им, – никогда не уравняются.
Справедливость тоже далека от идеала.
Я оставалась с Артом, когда его отца увели. Он выглядел точно ангел – лицо совершенно беззащитное, кожа как у младенца, легкий пушок на верхней губе. Я провела пальцем по его ладони – кожа гладкая, красивые длинные пальцы. Я видела, как эти пальцы перебирали гитарные струны, когда Арт пел о жирафе, которому ни одна водолазка не подходит, о мартышке, страдающей головокружением, о льве, не умеющем пользоваться мышкой, о зебре в крапинку. Мы сидели вокруг и рыдали от смеха, когда Арт потешал нас, и, кажется, никто не понимал по-настоящему смысла его песенок. Арт всегда пел о вещах, которые не укладываются в общую схему, о существах, оставшихся не у дел, о тех, кто проигрывает, кому чего-то недостает.
Он боролся с собственными демонами с тех пор, как умерла его мама – неудивительно, что он пошел в стражи. Только теперь я начала его понимать, я могла его простить, настолько глубоко я его понимала. Только и нужно всего – сострадание и логика. Смогу ли я простить Арта? Да, смогу даже это.
Я задернула занавески вокруг его постели, чтобы спокойно переодеться в джинсы и футболку – в этой одежде я бежала с помощью Кэррика из секретной больницы Кревана, в этой одежде караулила вместе с ним у дома Мэри Мэй, чтобы завладеть стеклянным шаром, в них меня увели из квартиры Санчес в доки и там раздели и облачили в красную тряпку, чтобы провести по улицам на потеху толпе. Наверное, к джинсам и футболке пристал запах Кэррика. Готова ли я снова их надеть? Не означает ли это, что я развернулась и иду обратно?
Я порылась в рюкзаке, не найдется ли там другой одежды, и наткнулась на дневник Кэррика. Я вспомнила, как рассталась с ним перед тем, как снова встретиться в замке. Я попрощалась с мамой, Кэррик должен был везти ее на выручку Джунипер, которой – принимая ее за меня – собирались сделать пластическую операцию. Кэррик поехал с моей мамой. Я оставалась на берегу озера ждать Рафаэля Ангело, мы с ним собирались к судье Санчес в надежде заключить с ней сделку.
Когда они отъехали, я хотела крикнуть им вслед, что Кэррик забыл тетради, которые он поручил мне, но не крикнула – мне захотелось оставить их у себя. Не потому, что мне не терпелось в них заглянуть, хотя и это, разумеется, тоже, но я бы не заглянула, я бы не обманула его доверие, – главным для меня было сохранить у себя что-то нужное Кэррику, гарантию, что мы непременно увидимся снова. Гарантию, что с ним все будет хорошо. Дурацкий самообман, но так у меня в тот момент работала голова. Ему придется найти меня, чтобы забрать тетради, или мне придется найти его, чтобы их вернуть.
Теперь впервые с той минуты я задумалась, каким образом Кэррик вообще оказался в замке. Как он туда попал? Если он вместе с мамой отправился на выручку Джунипер, и Джунипер и мама в полном порядке, и все наши друзья – Мона, Леннокс, Фергюс и Лоркан – подтвердили, что после той операции Кэррик оставался на свободе и в безопасности, – как же он угодил в Хайленд-касл?
Я торопливо пролистала новости в моем смартфоне и среди сотен сюжетов о переменах, стремительно происходивших в нашей стране, увидела, черным по белому: Кэррик Уэйн, обвиняемый в нарушении правил Трибунала, уклонении от надзора и помощи Селестине Норт, сдался добровольно.
Вот как он оказался в соседней камере – потому что он сам так решил.
А я его бросила.
Я сидела в больнице, потрясенная, словно в ловушке остановившегося времени. Даже слезы на глазах замерли.
Я вынула дневник, чувствуя себя неловко, но все же непременно желая выяснить, что внутри. И зарыдала в голос при виде первой страницы.
Детский, еще неустойчивый почерк. Этот дневник он вел в интернате – он же говорил, что все эти годы вел дневники и прятал от своих наставников.
Сегодня мы проводили опыты с запахом и вкусом. Они хотели выяснить, о чем напоминают нам запахи. Пол Котт, понюхав лимон, заплакал. Ему велели объяснить, в чем дело, и, когда он сказал, учителя ответили, что это воспоминание следует выбросить из головы, потому что его родители плохие.
Мне детская присыпка напомнила о ванне. Наверное, мама купала меня в ванне – больше некому, здесь только душ. Я вспомнил пену, под которой я прятался, как пузырьки щекотали кожу. Вспомнил, как налепил пузыри на подбородок, будто у меня борода, как у дедушки. И мама смеялась. Я вспомнил, как она заворачивала меня в огромное полотенце, словно младенца, и относила к себе в постель. Вспомнил, как я лягался, и вопил, и прикидывался, будто мне это не нравится, а на самом деле я был счастлив. И мне наливали какао, пока мама сушила мне волосы.
Мне было пять лет. Три года прошло. Но я все помню. Они говорят, что она была плохой матерью. Не годилась. И папа тоже. Они говорят, меня забрали у них для моего же блага, что мама и папа рады были меня отдать, но в это я не верю. Я помню, как они плакали, когда меня забирали. Мама плакала, кричала. Если она плохая, как они говорят, почему же я обрадовался, когда миссис Хэррис надушилась теми же духами? Я никогда ей не скажу, что у нее духи, как у мамы. Почему у меня живот сводит, стоит подумать о них?
В одном учителя правы: запахи подсказывают, они помогают вспоминать, и теперь я не могу остановиться. Они сами сделали так, что я начал, это не моя вина. Я не такой дурак, как другие, я не расскажу им, что я вспомнил. Настоящее не стану говорить. Потому что я не хочу, чтобы это у меня отняли.
Почти ничего не видя сквозь слезы, я добралась до конца последнего дневника. Целиком читать было некогда, надо было поскорее найти Кэррика и вернуть ему тетради.
Нас предупреждали, что в шестнадцать лет надо выбрать себе фамилию. Нам выдадут паспорта, мы сможем ездить. Фамилии родителей сохранить нельзя, у нас их давно отняли, а так я бы остался Кэрриком Брайтменом. Мысленно я так и называю себя. Но вслух нельзя – здесь у нас вместо фамилии номер.
Я наконец выбрал себе фамилию, и ее одобрили. Я должен был объяснить совету свой выбор. Я не сказал им правду, я давно скрываю от них правду, с тех пор как начал вести этот дневник. Мне кажется, дневник помогает лгать им, потому что я знаю, что есть место, где я говорю правду. Если дневники попадутся им в руки, меня заклеймят – ну и пусть.
Я помню, как однажды ночью папа нес меня на плечах. Мы бежали в кромешной тьме, и я думал, что это игра, а теперь догадываюсь, что мы убегали от стражей, но для меня родители делали вид, будто это игра.
Кажется, мы заблудились или мне почудилось, что мы заблудились, и тогда отец научил меня ориентироваться по звездам. Он показал мне Полярную звезду и объяснил, как строить по ней маршрут.
Он сказал мне: если я когда-нибудь собьюсь с дороги, нужно отыскать эту звезду. Через 1095 дней я выйду отсюда и постараюсь найти родителей. Искать родителей нам строжайше запрещено, об этом нам твердят каждый день. Но я хочу найти женщину, которая заворачивала меня в полотенце, пахнущее детской присыпкой, хочу найти мужчину, который показал мне звезды. Благодаря этим воспоминаниям, обрывкам воспоминаний, я чувствовал себя здесь таким счастливым, защищенным, как никто никогда в этом заведении.
Я не знаю, где они теперь, но знаю одно: ориентироваться надо на север. Все ответы там, и пусть ветер несет меня на север.
Поэтому я выбрал себе фамилию Уэйн. Флюгер.
Кэррик Уэйн
Я закрыла дневник, слезы катились по щекам, я чувствовала, что нужно спешить. Быстро переоделась в первое, что попалось под руку, мне было уже все равно. Можно надеть вчерашнюю одежду и все равно двинуться в завтрашний день.
Носок зацепился за ножной браслет. Я села и сняла его.
Оставила браслет на тумбочке у койки Арта.
– Ты всегда будешь со мной, – шепнула я, поцеловав его в губы. – Прощай, Арт.
Я вышла из палаты, ожидая, что меня вот-вот остановят, но врачи и медсестры уступали мне дорогу. В конце коридора стояли стражи – сердце замерло. Опять схватят. Но добрая медсестра легонько подтолкнула меня, а один из стражей, завидев меня, распахнул дверь.
Я двинулась к двери, а весь больничный персонал вдруг зааплодировал – со слезами, с улыбками на лицах. Я делала шаг за шагом, каждую минуту ожидая, что меня остановят, но никто не преградил мне дорогу. Я вышла в распахнутые двери – в неизвестность.
Два месяца спустя
У дедушки на ферме. Июль. Солнце пригревает. Я в летнем платье, тонкие завязки на плечах, цветочный узор так ярок, что порой привлекает сбитых с толку пчел.
Я устроилась одна среди клубничных грядок, закрыла глаза, подставила лицо солнечным лучам. Я на свободе – и, главное, чувствую себя свободной. Свободной я была и прежде, но не понимала, а теперь – знаю.
Вдали смех, разговоры, пахнет горящим деревом: из земляной ямы достают готовую еду для всех – для работников, для моих родных, для Пиа Ванг и ее семьи, для Рафаэля Ангело, его жены и семерых детей, для семьи Кэррика. Мои новые друзья – Мона, Леннокс, Фергюс, Лоркан, Лиззи и Леонард тоже здесь, а Корделия с Ивлин путешествует, показывает дочке весь огромный мир, все то, чего она была лишена, вынужденная с рождения прятаться. Леннокс не отходит от Джунипер с тех пор, как впервые ее увидел, и, мне кажется, это взаимно: с лица Джунипер не сходит улыбка. Мистер Берри и Тина предпочли остаться дома. Им все это нелегко дается. Да и никому это легко не дается.
Прошел месяц после той пресс-конференции, когда Трибунал собирался объявить, что верховным судьей вместо Кревана назначается Санчес, но все пошло не по плану, и в итоге на пресс-конференции было объявлено о роспуске Трибунала. Государство назначило Комитет правды, чтобы подготовить отчет о деятельности Трибунала. Началось внутреннее расследование поведения Кревана, а также уголовное дело о тех его преступлениях, которые подпадают под действие закона. Все наперебой старались что-то делать, но решение найти нелегко и пока еще никого не наказали. После драматического выступления Эниа Слипвелл накануне выборов она набрала большинство голосов и стала премьер-министром. Эниа готовит собственное заключение помимо работы Комитета правды – отчет Слипвелл, где будет учтена вся деятельность Трибунала. Роль каждого политика, бизнесмена, светила юриспруденции, который когда-либо имел к этому отношение. Но удастся ли призвать их к ответу – это пока неясно. Все с напряжением ждут публикации отчета.
Эниа прежде говорила, что за один день ничего не изменится, и все же – свершилось. Несколько недель длились споры, но в итоге парламент проголосовал, распустил Трибунал, отменил законы против Заклейменных, вся система была отменена в полночь того самого дня, когда состоялось голосование. За считаные часы Заклейменные получили равные права со всеми жителями страны, больше не считались гражданами второго сорта. Все, Заклейменные и незаклейменные, собрались во дворе замка Хайленд праздновать. И я была там.
Последствия этого декрета были просто невероятными. Рафаэль Ангело только успевал нанимать помощников, чтобы подавать все новые иски с требованием компенсации за ущерб, нанесенный каждому Заклейменному. Правительство выделило сто миллионов на компенсации, фонд Клейтона Берна – он так назван в память о старике, умершем в автобусе, том, которому я пыталась помочь, но так и не спасла. Его жизнь и смерть тоже не будут забыты.
Но главная компенсация – публичные извинения всем жертвам Трибунала, которые от имени правительства принесла Эниа Слипвелл. За то, что это длилось так долго и государство не пресекло деятельность «ревнителей идеала». Вероятно, многие ничего, кроме извинений, и не получат, но Рафаэль не успокоится, пока личные извинения не будут принесены каждому Заклейменному, пока не будет восстановлена репутация каждого, пока не будут признаны и увековечены страдания каждого.
Правительство сделало официальное заявление: никогда впредь в нашей стране не допустят подобного «забвения человечности, отравляющего души и лишающего граждан их неотъемлемых прав и достоинства». Теперь все оглядывались на недавнее прошлое и недоумевали, как мы вообще допустили такое. Теперь все казалось очевидным и простым.
Что касается детей, Порочных с рождения, всех этих детей, которых забирали из семьи, а то и отнимали у матерей прямо после рождения, им предоставили право вернуться домой – если пожелают. Но многие так и выросли в интернатах, давно уже стали взрослыми, их родители состарились или умерли, и теперь этим выросшим детям, которым вдалбливали – и они всю жизнь прожили с этим убеждением, – что их родители отщепенцы, что их не любят и бросили, пришлось узнать правду – и при этом узнать, что их родители так и сошли в могилу неоправданными, не получив никаких компенсаций или извинений за свои муки. Эниа Слипвелл организовала Ассоциацию детей Заклейменных во главе с Альфой – нужно было как-то справляться с этим огромным горем, путаницей и ложью.
Так что же в итоге сталось с каждым из нас?
Креван все еще на свободе, ждет суда за шестое Клеймо, которое по своему произволу мне поставил, – отделается наверняка небольшим тюремным сроком. Но его репутация погибла, впредь не будет у него власти и авторитета. Его узнают на улицах, смотрят в упор, выкрикивают проклятия. Судью судят. Я знаю, с чем он сталкивается каждый день. Я прошла через это. Тысячи и тысячи людей прошли через это.
Арт уехал из страны. Он будет учиться и начнет строить свою жизнь заново, не в тени грозного отца. В сентябре у него начинаются занятия в университете. Обещал писать, и, хотя наш союз распался, какая-то связь осталась, она не исчезла и, наверное, сохранится на всю жизнь, просто она не будет столь очевидной, такой, как прежде, когда мы были влюбленной парой.
Я насчет своего будущего пока не решила. Меня звали обратно в школу, доучиться и сдать экзамены, от которых меня всего пару месяцев назад отстранили. В школу я не вернусь, но учиться буду, подготовлюсь к экзаменам заочно. Эниа Слипвелл постоянно звонит и вовлекает меня в различные дела партии Жизни, журналисты тоже хотят знать мое мнение по любому поводу. У профессора Ламберта, как он говорит, есть для меня работа.
Но пока что я ничего не планирую, обойдусь без глобальных замыслов. Лучше делать шаг за шагом – конечно, пока не приходится по необходимости прыгнуть. Наслаждаться солнечным теплом, ветром в лицо, объятиями Кэррика, голосами родных, их любовью, верностью новых друзей. Простые, естественные блага – но все зависит от того, в какой стране ты живешь и при каких законах, ведь нам все это далось не даром.
Я сорвала клубничину, бросила ее в корзинку, снова почувствовав себя ребенком. Потом увидела на грядке сорняк и потянулась выполоть его – но остановилась. Заговорщически улыбнулась сорняку. Пусть растет. Наш маленький секрет.
Напоследок, прежде чем вернуться к компании, я, не удержавшись – ягоды такие соблазнительные на вид, и хотя бы ради былых времен, в память о том, как мы с Джунипер в детстве собирали их то в корзинку, то в рот, – я достала из корзины одну спелую ягоду и положила ее в рот. Вдохнула сладкий аромат, а на большее и не рассчитывала, к этому я уже привыкла. Но когда я впилась в ягоду зубами, то замерла от неожиданности. Губы и язык ошеломило забытое ощущение.
Я завопила – громко, пронзительно. Разговоры и смех мгновенно стихли. Я опрометью кинулась к друзьям, к родным.
Когда я добежала, они все стояли напряженно, глаз с меня не сводили – взбудораженные, готовые к бою, готовые отразить любых хищников и назойливых чужаков, мы научились иметь с такими дело.
Кэррик, уронив заступ, спешил ко мне от земляной ямы, где он возился вместе с дедом, моим отцом и своим отцом. Глаза его почернели от тревоги.
– Что случилось?
Я уронила свою корзину с ягодами и подбежала к нему. Подпрыгнула – он едва успел меня подхватить, – обвила ногами его талию, прижалась всем телом, ладонями обхватила его удивленное лицо.
И пусть все смотрят – Келли смотрит на нас умиленно, Джунипер ликует, отец застеснялся, и мама смеется над ним, Эван притворяется, будто его сейчас стошнит, и все семеро детей Рафаэля Ангело, как обезьянки, цепляются друг за друга, изображая преувеличенно смачный поцелуй, а Мона, Леннокс, Фергюс и Лоркан подбадривают нас криками – дед присоединился к ним, отчего папа уж вовсе впал в прострацию, – и Пиа Ванг тихо засмеялась, обнимая мужа и двоих детишек.
Я делаю вид, будто ничего этого не замечаю, но я чувствую – они все рядом со мной, мне передается каждая частица их энергии, их радости.
Я заглянула Кэррику в глаза. Самого зеленого цвета. Я прижала губы к его губам и наконец-то ощутила вкус его поцелуя.
Есть та, кем, ты думала, тебе надо стать, и есть настоящая ты. Я не знаю теперь, кем должна была стать, но знаю, кто я.
И это, я полагаю, идеальное начало. Идеальное.