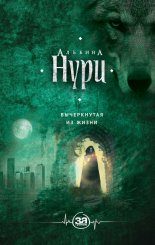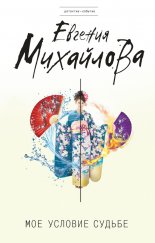Последний год Достоевского Волгин Игорь
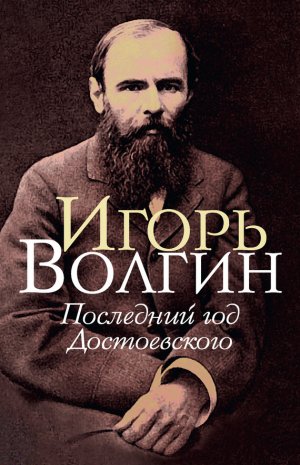
Именно такой способ видения организует художественное действие на всех уровнях.
Приведём характерный эпизод из «Войны и мира»: Наполеону приносят портрет сына («короля Рима»), присланный в подарок Императрицей.
«Со свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошёл к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что то, что он скажет и сделает теперь, – есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, – это то, чтобы он… выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность».
Ничто не остаётся необъяснённым: вся информация вводится в текст. Сам эпизод дан не с точки зрения кого-то из его участников (например, Наполеона, как это может показаться на первый взгляд), а через всеобъемлющее авторское созерцание. Сцена психологически завершена; читателю не оставляется возможности для каких-либо дополнительных предположений.
Анна сообщает Вронскому о своей беременности. Она наблюдает реакцию Вронского. Следует подробное описание внешнего поведения, «суммы движений» каждого из героев. Сообщается о том, что думает Анна по поводу того, что, по её мнению, думает Вронский. Но этого мало. Приводятся исчерпывающие сведения о том, что думает Вронский на самом деле.
«Но она ошиблась в том, что он понял значение известия так, как она, женщина, его понимала. При этом известии он с удесятеренной силой почувствовал припадок этого странного, находившего на него чувства омерзения к кому-то; но вместе с тем он понял, что тот кризис, которого он желал, наступит теперь, что нельзя более скрывать от мужа и необходимо так или иначе разорвать скорее это неестественное положение».
Ситуация, таким образом, рассматривается с разных точек зрения, дополняющих и корректирующих друг друга; достигается максимальная полнота и объективность в изображении того, что не произносится персонажами вслух, но подразумевается. Всё подлежит немедленной художественной огласке.
В «Анне Карениной» есть эпизод, где рассмотренный метод достигает своего предела. Это сцена падения Вронского с лошади во время скачек.
«Ааа! – промычал Вронский, схватившись за голову. – Ааа! что я сделал! – прокричал он. – И проигранная скачка! И своя вина, постыдная, непростительная! И эта несчастная, милая, погубленная лошадь! Ааа! что я сделал!»[510]
То, что мгновенно (в виде нерасчлененного ощущения) должно пронестись в душе Вронского (и что выражается его немым мычанием – «ааа!»), разлагается на составляющие и оформляется в монолог: герой фактически «прокричал» здесь авторский текст. В самый момент душевного (и физического) потрясения происшествию даётся исчерпывающая и всесторонняя оценка; при этом герой умудряется избегнуть крепких (и в этом смысле всегда иррациональных) выражений: его эпитеты не только вполне литературны, но и тщательно подобраны.
Мощное аналитическое начало господствует в толстовской прозе. Даже в оценке самой «неуправляемой» героини «Войны и мира» – Наташи Ростовой (которая «не удостаивает» быть умной) – можно усмотреть попытку рационалистического объяснения характера, в общем, иррационального.
Грандиозное единство и целостность толстовского романа не отменяют того обстоятельства, что любой романный эпизод обретает максимальное количество художественных связей в самый момент своего воплощения; если те или иные сцены «аукаются» между собой, то это происходит как перекличка уже завершённых единств. Количество сцеплений в толстовской прозе бесконечно; однако это именно сцепление одного с другим, а не превращение одного в другое.
Художественное зрение Достоевского устроено совсем иначе.
У Достоевского отдельные романные ситуации, как правило, оставляют некоторый простор для читательской догадки. Автор не настаивает на одной (безусловной) версии происходящего. Это особенно видно на примере жизнеописаний: даётся несколько биографических версий – без авторского ручательства в правильности какой-либо из них. Тот или иной слух играет при характеристике Свидригайлова, Ставрогина, Фёдора Павловича Карамазова, Смердякова и так далее – ничуть не меньшую роль, чем достоверно установленный факт. Достоевский почти никогда не даёт происходящему немедленной авторской интерпретации. Нередко та или иная сцена содержит в себе зёрна, зародыши, элементы тех повествовательных положений, которые развернутся лишь в дальнейшем. (Этот «детективный» приём обретает у Достоевского силу художественного закона и распространяется на коллизии уже не сюжетного, а идеологического порядка.)
Можно сказать, что в прозе Достоевского действует система повествовательных намёков.
…Порфирий Петрович предлагает Раскольникову написать «объявление» в полицию о заложенных им у старухи-процентщицы вещах.
– Это ведь на простой бумаге? – поспешил перебить Раскольников…
– О, на самой простейшей-с! – и вдруг Порфирий Петрович как-то явно насмешливо посмотрел на него, прищурившись и как бы ему подмигнув. Впрочем, это, может быть, только так показалось Раскольникову, потому что продолжалось одно мгновение. По крайней мере, что-то такое было. Раскольников побожился бы, что он ему подмигнул, чёрт знает для чего.
«Знает!» – промелькнуло в нём как молния».
Вся сцена дана с одной точки зрения, а именно Раскольникова, находится в круге его сознания. То, что представляется Раскольникову, не дополняется и не корректируется сознанием Порфирия Петровича (мы не знаем, что последний при этом думает) или сознаниями других участников эпизода (все они, кроме Раскольникова, даны только в поведении, а не в мышлении). Однако то, что видит Раскольников, подвергается некоторому сомнению. Происходящее не получает объективного освещения; оно не зафиксировано, так сказать, твёрдо и окончательно (путём сопоставления нескольких точек зрения или при помощи «разрешающего» авторского комментария): остаётся неясным, действительно ли подмигнул Порфирий Петрович или всё это лишь пригрезилось его впечатлительному собеседнику. Увиденное глазами Раскольникова читатель может восполнить собственными предположениями: этот принцип дополнительности сообщает прозе Достоевского кажущуюся психологическую неопределённость.
Для его героев характерны прозрения, предвидения и предчувствия; важную роль играют отношения интуитивного порядка. Так, Сонечка Мармеладова догадывается о том, что Раскольников – убийца, ещё до его признания; Иван Карамазов знает, что убийство должно произойти, ещё до его совершения, и т. д. и т. п.
Известный разговор Ивана со Смердяковым целиком построен на недомолвках. Здесь значимы не только и не столько слова, сколько движения.
«Что батюшка, спит или проснулся? – тихо и смиренно проговорил он (Иван. – И.В.), себе самому неожиданно, и вдруг, тоже совсем неожиданно, сел на скамейку»; «Иван Фёдорович длинно посмотрел на него»; «с особенным и раздражительным любопытством осведомился Иван Фёдорович»; «что-то как бы перекосилось и дрогнуло в лице Ивана Фёдоровича. Он вдруг покраснел». И т. д.
Иван уезжает наконец в Чермашню. «Когда уже он уселся в тарантас, Смердяков подскочил поправить ковёр.
– Видишь… в Чермашню еду… – как-то вдруг вырвалось у Ивана Фёдоровича, опять, как вчера, так само собою слетело, да ещё с каким-то нервным смешком…
– Значит, правду говорят люди, что с умным человеком и поговорить любопытно, – твёрдо ответил Смердяков, проникновенно глянув на Ивана Фёдоровича»[511].
Сговор фактических сообщников происходит без произнесения окончательного слова; он выражается в намёках, интонационных акцентах, в «мимике и жесте».
Если у Достоевского важнейшие художественные смыслы часто уведены, «загнаны», запрятаны в подтекст, то автор «Войны и мира» занят задачей прямо противоположной: он стремится вывести эти смыслы наружу – в текст – из тьмы внетекстового хаоса; он хочет твёрдым комментирующим словом объять и объяснить всю полноту душевных и исторических движений.
В публицистике Толстого анализу (и часто осуждению) подлежит сама авторская личность: с неменьшей пристальностью, чем Наташу Ростову или Андрея Болконского, Толстой разбирает самого себя. Разымается не только человек: религия, государство, семья, искусство – ничто не может избегнуть скептического и всепроникающего взгляда. Любое явление спешит получить прямую моральную оценку.
Поразительно, что, переводя и комментируя Новый Завет, такой художник, как Толстой, пренебрегает именно поэтической стороной евангельского мифа и опирается главным образом на евангельскую «публицистику», всячески рационализируя сам миф и добиваясь в первую очередь логической гармонии[512]. Не случайно такую важную роль играет в толстовстве его практическое, поведенческое, императивное начало (опрощение, непротивление, вегетарианство и т. д.) – именно то, что Достоевский, не доживший до оформления толстовской доктрины, проницательно назовёт в «Дневнике писателя» мундиром.
Может быть, чисто головная, рационалистическая, мужская доминанта толстовства, «оправдание добра» с «насильственной» помощью разума помешали возникнуть типу страстных и фанатичных последовательниц этого учения («боярынь Морозовых») – при наличии достаточного количества преданных учеников. (У толстовства были свои мученики, но оно не знает мучениц, как, скажем, раннее христианство; из числа последних можно назвать разве Софью Андреевну. И одними ли материальными соображениями объясняется активное неприятие ею учения мужа? Не было ли здесь ещё и стихийного сердечного недоверия к рационалистическому примату толстовства, чисто женского непонимания обязательности любви?)
Женщины более откровенны с Достоевским, нежели с Толстым. И, отвечая на их послания, автор «Дневника писателя» всегда старается учесть личность своих корреспонденток. Его ответы никогда не строятся по известной моральной схеме, как многие «типовые» письма позднего Толстого. Достоевскому совершенно несвойствен эпистолярный автоматизм.
Может быть, женская доверительность была не чем иным, как интуитивным отзывом на интуитивное начало его искусства и его «учения» (ибо у Достоевского мы не обнаруживаем признаков того, что можно именовать «системой» в толстовском смысле). Достоевский многое не договаривает до конца. Но в его поэтике молчание есть момент содержательный.
Раскольников словоохотлив; Сонечка Мармеладова – молчалива. Но последнее слово остаётся за ней.
Глава XI. Сюрпризы последней весны
28 марта 1880 года зала Благородного собрания была набита битком: ждали Тургенева. Именно он, редкий гость Петербурга, представлял, по признанию газетного хроникёра, «главный интерес вечера». Но писатель неожиданно почувствовал себя нездоровым и прислал извинительную записку. Обескураженные устроители предложили желающим получить деньги обратно, но, как замечает «Новое время», к вящему их удовольствию, зала «…осталась совершенно полною, на что, впрочем, можно было рассчитывать, зная… то обаятельное действие, какое постоянно производит на публику имя Ф. М. Достоевского»[513].
«Г. Достоевский, – повествует «Молва», – с необыкновенною теплотою прочёл превосходный отрывок из «Преступления и наказания» – сцену в кабаке между Мармеладовым и Раскольниковым, которая произвела громадное впечатление».
В отличие от других петербургских газет, «Молва» не ограничилась бесстрастной информацией. Она оживила её следующим глубокомысленным пассажем:
«Видя это трогательно-восторженное отношение молодёжи к писателю, занимающему столь видное место в нашей литературе, нельзя было удержаться, к сожалению, от мысли, что тот же писатель вследствие каких-то роковых особенностей своего таланта и своей натуры всё более и более уходит в мрачный мистицизм, в литературное мракобесие, в какое-то озлобленное отношение к цивилизации и её идеалам – словом, ко всему тому, что приветствующей его публике всего дороже»[514].
«Литературное мракобесие» и «мрачный мистицизм» относились, очевидно, к печатающимся «Братьям Карамазовым». Деликатно намекалось, что не вполне прилично увлекаться столь сомнительным автором.
Правда, с восторгами на сей раз действительно переборщили. Почти все столичные газеты не преминули отметить (а Анна Григорьевна в родственном письме повествует об этом с особенной торжественностью), что на вечере 28 марта Достоевскому были преподнесены два лавровых венка.
Год назад венков удостаивался один Тургенев. Ныне шансы как будто бы уравнялись.
Но (маленький нюанс): отчего же именно два? Неужели распорядители вечера были столь нерасторопны, что сгоряча продублировали вещественные знаки своей невещественной благодарности?
Не скроем: нас сильно смущает подозрение, что второй венок вовсе не предназначался Достоевскому. Им, очевидно, предполагалось увенчать автора «Записок охотника»: его отсутствие спутало карты[515]. Надо было куда-то девать второй венок: не дарить же его, в самом деле, прочим участникам – Полонскому, Миллеру или Вейнбергу: они до этой чести явно недотягивали.
Трудно сказать, догадывался ли Достоевский, что ему достались ещё и тургеневские лавры. Но если и догадывался, то, во всяком случае, вида не подал.
Анна Григорьевна утверждает, что выступление 28 марта было последним в весенний сезон 1880 года. Она ошибается: до отъезда в Старую Руссу Достоевский участвовал по меньшей мере ещё в одном вечере[516]. Он состоялся в воскресенье 27 апреля, в последний день пасхальных увеселений.
«…Несмотря на то, что… стояла прекрасная погода, которая заодно с только что наступившими белыми петербургскими ночами манила на прогулку на открытом воздухе, зала Благородного собрания у Полицейского моста к началу вечера, то есть ещё засветло, была буквально переполнена публикою…»[517]
Не следует всё-таки слишком полагаться на память мемуаристов (даже самых добросовестных!). Только что процитированный нами М. А. Александров, запомнив главное, увы, ошибается в мелочах. «Благодаря отвратительной погоде, – поправляет его столичная газета, – да и также невыгодной по сезону минуте, публики явилось не особенно много. Зала была далеко не полна»[518].
Тургенева на этот раз не ожидалось: он уже отбыл в Москву.
Орест Миллер, угостив публику своей статьёй «Основы учения первоначальных славянофилов», исполнил затем два стихотворения Хомякова. Со стихами (но уже собственными) выступили также Полонский и Случевский.
Достоевского (писателя, как замечает Александров, «знаменитого, но лишь недавно признанного таковым») встретили овацией, длившейся минут пять. Выйдя из-за кулис, он направился к столу, стоявшему посредине эстрады, но вынужден был остановиться на полдороге и несколько раз поклониться рукоплещущему партеру. Затем «продолжал, тою же деловою поступью, путь к столу; но едва он сделал два шага, как новый взрыв рукоплесканий остановил его вновь»[519]. Уже сев за стол, он должен был снова несколько раз вставать и раскланиваться.
Он выбрал для чтения отрывок из девятой книги «Братьев Карамазовых» («Мальчики»). Текст предназначался для апрельского номера «Русского вестника» – он читал по полученной из Москвы корректуре.
«Что за превосходное чтение! – восклицает газетный репортёр. – Сколько простоты и между тем теплоты и задушевности. Прочтённый отрывок очень интересен. В нём выведен и совершенно замечательно обрисован некий юноша Коля – яркая характеристика одного из хороших типов “увлечённой молодежи”, увлечённой на социально-сумбурной почве»[520].
Текст комментировался ещё до его появления в печати.
После вечера Достоевский сообщает Любимову: «…эффект, без преувеличения и похвальбы могу сказать, был чрезвычайно сильный»[521].
Об «эффекте» упомянуто не без расчёта. Информация предназначена лицу, являющемуся – по должности – первым читателем романа. Помощнику Каткова совсем нелишне знать, что роман пользуется успехом у публики. В своих далеко не простых отношениях с руководителями «Русского вестника» Достоевский не прочь опереться на силу общественного мнения.
Теперь он явится перед широкой публикой только в июне: в Москве – в час своего наивысшего торжества.
Весна 1880 года одарила не только одними лишь эстрадными успехами. Она огорошила и неприятностями литературными.
В апрельской книжке «Вестника Европы» – журнале либеральном, солидном, уважаемом – Павел Васильевич Анненков делился своими воспоминаниями о сороковых годах.
Годы эти были памятны Достоевскому.
Описав блистательный дебют двадцатичетырёхлетнего автора «Бедных людей», добросовестный воспоминатель продолжает: «Внезапный успех, полученный его повестью, сразу оплодотворил в нём те семена и зародыши высокого уважения к самому себе и высокого понятия о себе, какие жили в его душе. Успех этот более чем освободил его от сомнений и колебаний, которыми сопровождаются обыкновенно первые шаги авторов: он ещё принял его за вещий сон, пророчивший венцы и капитолии, а когда решено было напечатать «Бедные люди» в альманахе Некрасова «Петербургский сборник» (1846 г.), автор совершенно спокойно и как условие, следующее ему по праву, потребовал, чтоб его роман был отличен от всех других статей книги особенным типографским знаком, например – каймой. Роман и был действительно обведён почётной каймой в альманахе»[522].
Когда автор «Замечательного десятилетия» выпустил в следующем году свои воспоминания отдельным изданием, он исключил из приведённого текста последнюю фразу: именно благодаря ей почтенный мемуарист попал в пренеприятнейшее положение.
4 апреля в «Новом времени» появилась безымянная заметка. Процитировав слова Анненкова о кайме, автор заметки не без ехидства присовокуплял: «Мы взяли “Петербургский сборник” 1846 года и увидели, что г. Анненков это обстоятельство сочинил, вероятно, по свойственному ему добродушию: “Бедные люди” напечатаны без всякой каймы, тем же самым шрифтом, как и другие статьи этого сборника. Мало этого, “почётной каймой” отличены “Помещик” Тургенева и “Парижские увеселения” Ивана Панаева, – под этой почётной каймой мы разумеем иллюстрации… Таким образом, П. В. Анненкову надо покаяться, а вместе с ним и “Вестнику Европы”. Это прискорбно будет для таких тузов…»[523]
Между тем свидетельство Анненкова не было исключительно плодом его воображения. Мемуарист гальванизировал легенду тридцатипятилетней давности. Старая окололитературная сплетня получила официальный статус литературного факта.
«Муж был страшно возмущён такою клеветой…»[524], – пишет Анна Григорьевна. Заметка в «Новом времени» должна была несколько его успокоить.
Однако теперь забеспокоился Анненков.
В апреле 1880 года он находился за границей, но реплика «Нового времени» дошла до него довольно быстро. Автор «Замечательного десятилетия» срочно посылает М. М. Стасюлевичу (издателю «Вестника Европы») оправдательное письмо:
«…Память мне не изменила, да и не могла изменить. Всему тогдашнему литературному миру были известны долгие переговоры Достоевского с Некрасовым, предметом которых служило требование первого, чтобы роман его был отличен от других произведений в альманахе каким-либо почётным знаком, помещая или на первом месте или на последнем и как бы отдельно от соседей… Прошу Вас навести справку об этой подробности у Тургенева, который знал всё это дело… Я сам видел первые экземпляры Сборника с рамками… Может быть, что злосчастной рамкой наделены были только первые экземпляры «Петербургского сборника» и опущена она в последующих экземплярах, как смешная выдумка, оскорбляющая всех прочих авторов»[525].
Так или иначе редакция «Вестника Европы» была поставлена перед необходимостью защищать честь мундира. В майской книжке журнала появляется следующая редакционная заметка:
«Автор “Воспоминаний” находится за границей; но нам и не пришлось ожидать от него объяснений, так как возможность справки у нас под рукой. Вся существенная сторона рассказа о “кайме” – несомненна, но автор “Воспоминаний”… отнёс “обстоятельство”, известное всем в ту эпоху, к “Бедным людям”, между тем как дело должно идти о другом произведении г. Достоевского – “Рассказ Плисмылькова”, или что-то в этом роде, предназначавшемся в задуманный Белинским сборник “Левиафан”… Автор “Бедных людей” потребовал не от Некрасова, а от Белинского, чтоб его новый труд был помещён не иначе, как в начале или в конце сборника, но никак не между другими, в середине, и к тому же – был бы обведён каймой»[526].
Как видим, М. М. Стасюлевич не пожелал воспользоваться малоубедительными и путаными оправданиями Анненкова (кстати, никаких экземпляров «Петербургского сборника» с пресловутой каймой до сих пор не обнаружено). Ответ редакции основан на свидетельстве другого очевидца сороковых годов – именно того, на кого указывал Анненков. Тургенев в эти апрельские дни находился в Петербурге: он-то, видимо, и внёс необходимые коррективы в рассказ своего старого друга.
Свидетельство такого современника должно было выглядеть особенно авторитетным.
Однако полемика вокруг «каймы» на этом не закончилась. Не успел выйти в свет майский «Вестник Европы», как Суворин обратился к главному герою этой истории со следующим (до сих пор не публиковавшимся) письмом:
1 мая 1880
Многоуважаемый Фёдор Михайлович,
Посылаю Вам «Вестник Европы» на случай, если его Вы не выписываете. На стр. 412 Вы найдете ответ на мою заметку, которую я сделал относительно «Каймы». Будете ли Вы отвечать или нет? Во всяком случае отвечать можно и мне. «Вест<ник> Евр<опы>» не выписал из моей заметки тех строк, где я говорю о том, что обведены были каймою рассказ Тургенева и очерк Панаева, т. е. иллюстрированы, в ответе вообще замечается путаница и он похож на какую-то сплетню, ибо никакого доказательства рассказанной сплетне нет. К тому же ничего Вашего не было в «Современнике», сколько я помню, а ещё не случилось той беды, которая разразилась над Вами, и, если не ошибаюсь, Вы продолжали писать в «От<ечественных> Зап<исках>», где последнею вещью была повесть «Неточка Незванова». Если Вы отвечать не будете – черкните два слова. Я отвечу сам, ибо, повторяю, ничего убедительного в рассказе «Вест<ника> Европы», вероятно, Тургенева, нет.
Ваш А. Суворин
P.S. Была ли у Вас повесть «Рассказ Плисмылькова»?[527][528]
«Вестник Европы» выходил по первым числам. Письмо Суворина помечено 1 мая: надо отдать должное его оперативности. На следующий день «Новое время» начинает новый полемический раунд: «…со стороны г. Стасюлевича совсем уже дурно, что он различными лживыми изворотами старается утвердить достоверность явного журнального вздора»[529]. Ещё через день редакция «Вестника Европы» уличается и в «некотором литературном невежестве»[530].
«Довольны ли Вы тем, что написал Буренин о кайме, – спрашивал Суворин Достоевского в своём неопубликованном письме от 12 мая, – или Вы желали бы, чтоб объявить от Вашего имени, что это ложь? Признаться, я не решился это сделать, думая, что Вы, пожалуй, раздумаете. Но я нашёл все альманахи при “Современнике”, в одном из них Ваш крошечный рассказ совсем не под тем названием, под которым объявил “Вестник Европы”, а в “Современнике” Ваш рассказ на 10 страничках, в письмах и больше – ничего»[531].
«Насчёт глупенькой “каймы” не знаю, что Вам и сказать, – отвечает Достоевский Суворину уже из Старой Руссы. – Словами в “Новом времени” (о кайме) я конечно доволен. Если сам что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда начну мои “Литературные воспоминания” (а их я начну непременно). Но если бы теперь Вы, например, как издатель газеты, поместили бы всего пять строк в том смысле, что: “мы-де получили от Ф. М. Достоевского формальное заявление, что никогда ничего подобного рассказанному в «Вестн. Европы» (насчёт каймы) не было и не могло быть”, и проч. и проч. (формулировка по Вашему усмотрению), то я был бы Вам весьма за это благодарен»[532].
В номере от 18 мая Суворин поместил подобное заявление, снабдив его краткой фактической справкой: «Никакого “Рассказа Плисмылькова” нет ни в “Сочинениях” Достоевского, ни в “Современнике”»[533]. На этом полемика оборвалась.
Через год Анненков, как уже говорилось, повторит свою версию в отдельном издании мемуаров (сняв, естественно, фразу о том, что требование каймы получило-таки полиграфическое воплощение). И он не остался в одиночестве: в той или иной форме о «кайме» упоминают И. Панаев, Д. Григорович, К. Леонтьев…
Настойчивость упоминаний (причём весьма авторитетных) заставляет отнестись к этой истории с сугубой осторожностью.
Едва ли подлежит сомнению, что каймы физически не существовало. С другой стороны, известно, что в 1846 году появилось и ходило по рукам послание, написанное Некрасовым и Тургеневым (якобы от имени Белинского) и адресованное Достоевскому. В этом послании Белинский усердно просил автора «Бедных людей» «уделить» ему новое свое произведение. Послание это заканчивалось следующим образом:
- Буду нянчиться с тобою,
- Поступлю я, как подлец,
- Обведу тебя каймою,
- Помещу тебя в конец.
Вопрос поэтому надлежит поставить так: являются ли все упоминания о кайме абсолютным вымыслом или же здесь присутствует некое фактическое «зерно» – хотя бы и давшее впоследствии довольно развесистые всходы.
Позволим высказать одну гипотезу.
Некрасов, помещая в 1846 году «Бедных людей» в «Петербургском сборнике», прекрасно понимал, что именно они – «гвоздь» предполагаемого издания. И действительно выделяет повесть, открывая ею свой альманах.
Но этого мало. Некрасов, оказывается, намеревался «отличить» «Бедных людей» ещё неким образом. Он ведёт переговоры с художником П. П. Соколовым об иллюстрациях для первой повести Достоевского. Этот факт, который никогда прежде не связывался с интересующим нас сюжетом, приводит в своих воспоминаниях не кто иной, как сам Соколов:
«…Некрасов… нервно начал ходить по комнате, лихорадочно потирая себе руки, заговорил: – “Так вот, г. Соколов… главною вещью этого «Альманаха» и самою выдающеюся будет повесть Достоевского «Бедные люди»; уж Вы, пожалуйста, постарайтесь передать эти бесподобные типы”».
Итак, выясняется, что при подготовке «Петербургского сборника» речь действительно могла идти о каком-то выделении «Бедных людей». Но дело в том, что подобная инициатива исходила вовсе не от Достоевского! Она принадлежала издателям альманаха.
«По моему совету, – продолжает Соколов, – Некрасов решил ограничиться одним заглавным листом; это было бы и дешевле и скорее могло быть исполнено. На большом листе я собрал все цветы поэзии этого альманаха в виде большого букета с группою из повести “Бедные люди”»[534].
Откроем «Петербургский сборник». Никаких иллюстраций Соколова там нет. Есть несколько рисунков А. Агина, гравированных на дереве Е. Бершадским, но они вовсе не относятся к «Бедным людям».
И всё же какие-то иллюстрации существовали, хотя ни один исследователь не видел их воочию. Зато ими любовался в марте 1846 года сотрудник «Северной пчелы», о чём он и поспешил поведать читателям:
«На Невском проспекте, в многолюдной кондитерской Излера всенародно вывешено великолепное карточное объявление о “Петербургском сборнике”. На вершине сего отлично расписанного яркими цветами объявления, по сторонам какого-то бюста красуются спиной друг к другу фигуры “Макара Алексеевича Девушкина” и “Варвары Алексеевны Добросёловой”, героя и героини повести Достоевского “Бедные люди”. Один пишет на коленях, другая читает письма, услаждающие их горести»[535].
Таким образом, иллюстрации Соколова (или кого-то другого) не попали в текст, а были использованы лишь для рекламного объявления. Логично допустить, что Достоевский был огорчён этим обстоятельством.
Разумеется, эти огорчения не могли укрыться от другого участника «Петербургского сборника» – двадцатисемилетнего И. С. Тургенева. Он, как было сказано, пишет вместе с Некрасовым язвительное «Послание к Достоевскому». Ни в каких других текстах Тургенева упоминания о кайме более не встречаются.
Письменных свидетельств нет; однако до нас дошла живая речь Ивана Сергеевича – правда, лишь в мемуарной передаче Константина Леонтьева:
«Вот как, например, случилось с этим несчастным Достоевским. Когда он давал свою повесть Белинскому для издания, то увлёкся до того, что сказал ему: “Знаете, мою-то повесть надо бы каким-нибудь бордюрчиком обвести!”»[536]
На первый взгляд, эти слова как будто подтверждают защищаемую Анненковым версию.
Но обратим внимание на тональность. «Дерзкое» требование отнюдь не сопровождается наступательной, нагло-самоуверенной интонацией; тон здесь почти просительный, защитный («каким-нибудь бордюрчиком»). Так, пожалуй, мог бы выражаться и Макар Девушкин.
«Гордые» слова Достоевского могли звучать вовсе не гордо.
Высказывается пожелание, чтобы новое произведение (то есть написанное после «Бедных людей») было хоть как-то проиллюстрировано (как, скажем, стихи того же Тургенева в «Петербургском сборнике»). Или, на худой конец, – хотя бы украшено какой-нибудь заставкой! Эта просьба выглядит совсем иначе, чем требование «каймы».
Пребывая в остром конфликте с ближайшим литературным окружением, молодой и болезненно самолюбивый Достоевский мог усмотреть в отсутствии ранее обещанных рисунков к «Бедным людям» акт явной дискриминации и теперь настаивал на равных правах. В этом случае слова о «кайме» (если таковые вообще имели место) суть не проявление литературного высокомерия, а лишь средство самозащиты, неуклюжая попытка хоть таким способом оградить своё писательское «я» от действительных и мнимых посягновений.
В той взвинченной (как бы сейчас сказали – сенсационной) атмосфере, какая окружала молодого писателя, подобное пожелание падало на благодатную почву. Это был неоценимый подарок литературным остроумцам. И – первотолчок к зарождению легенды[537].
…Последняя весна Достоевского была отравлена той же самою сплетней, какая омрачила и его первую литературную весну (если допустить, что тогда этот слух был ему известен). Нравственному поношению подвергался дебют – самое светлое из его воспоминаний.
Под подозрением оказывалась его моральная личность.
Он записывает за несколько недель до смерти: «Мутная волна. Это я после Карамазовых-то мутная волна? А вы, небось, светлая? Ах, если б вам какой анекдотик. Прибегать к кайме, чтобы запачкать»[538].
«Чтобы запачкать» – вот к чему, по его мнению, направлена ретроспективная сплетня. Неприятнее всего было то, что за автором сплетни маячил Тургенев: худой мир грозил вновь обернуться доброй ссорой.
«Клевета Анненкова, – говорит Анна Григорьевна, – так возмутила моего мужа, что он решил, если придётся встретиться с ним на Пушкинском празднестве, не узнать его, а если подойдёт, – не подать ему руки»[539].
«Не узнать» Анненкова было делом нехитрым. Сложнее обстояло с его невольным соавтором: «неузнавание» Тургенева могло бы повести к очередному скандалу. Причём в самом неподходящем месте: под сенью ещё не открытого памятника основоположнику новой русской литературы.
Как и следовало ожидать, эстрадные отвлечения не прошли для него даром. Работа над «Карамазовыми» поневоле замедлилась. Надо было просить отсрочки. И 29 апреля он садится за письмо к Любимову.
«Как я ни бился, а на майский (будущий) № “Русского Вестника” опять ничего не могу доставить… Не мог же написать… потому что здесь буквально не дают писать и надо скорее бежать из Петербурга».
Он сочиняет это письмо глубокой ночью и, дописав, оставляет его жене вместе со следующей запиской:
Голубчик Аня, не можешь ли ты отослать это заказное письмо Любимову сегодня же, немедля. В нём пишу о чём знаешь.
Твой Ф. Достоевский
29-го 3 3/4 утра 1880 г.[540]
«Подобные записки, – пометила Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович часто оставлял на столе гостиной, не желая будить меня ночью, но имея необходимость о чём-нибудь попросить»[541].
Даже в этой ночной переписке он подписывается своим полным литературным именем: это его неизменная эпистолярная формула. Она употребляется как в деловых бумагах, так и в сношениях с самыми близкими людьми. Он блюдёт культуру письма. Никакие усечённые варианты (типа «Фёдора» или «Феди») тут невозможны. Для всех без исключения он остается Фёдором Достоевским (с теми или иными добавлениями: «твой друг и брат», «твой весь», «твой муж», «твой вечный и неизменный», «Ваш весь» и т. д. и т. п.).
Это автографическое постоянство свидетельствует о тайно сознаваемом единстве личности, не расчленяющей самое себя на литературную (официально-парадную) и интимную (семейно-бытовую) ипостаси.
В письме к Любимову он называет лишь одну причину, по которой ему следует «бежать из Петербурга». Между тем имеется и другая: уже решено отправиться на московские торжества, куда его так усиленно зазывают.
Он должен явиться в Москву не с пустыми руками. Следовало сочинить текст. Этому ещё не созданному тексту (ради которого он готов оторваться даже от романа) он придаёт чрезвычайное значение.
В Старую Руссу следовало «бежать» как можно скорее.
Когда же он оставил Петербург?
При попытке ответить на этот вопрос обнаруживаются вещи довольно странные.
5 мая 1880 года А. И. Толстая, вдова вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого, пишет дочери: «Вчера… не медля ни минуты, отвезла твоё письмо к Достоевскому; хорошо что не отложила, – сегодня утром они уехали на дачу в Старую Руссу»[542].
Таким образом, 4 мая Достоевские были уверены, что они уедут на следующий день утром (и 5-го Толстая полагает, что они уже уехали).
Однако 19 мая Достоевский пишет Победоносцеву: «Перед отъездом из Петербурга (ровно неделю назад)…»[543] и т. д. Следовательно, отъезд, назначенный на 5 мая, был неожиданно отложен и состоялся только 12-го или 13-го числа.
Какие же непредвиденные обстоятельства на целую неделю задержали Достоевского в столице? Вопрос этот никогда не обсуждался. Полагаем, что ответить на него позволяет следующий документ:
Воскресенье 4 мая
Любезный Фёдор Михайлович, позвольте снова посягнуть на Вашу свободу и попросить Вас приехать ко мне в четверг вечером в 9 час.
Дело в том, что в прошлое воскресенье на концерте в пользу Георгиевской общины Ваше чтение особенно понравилось Государыне цесаревне и ей захотелось поближе с Вами познакомиться. Она будет у меня в четверг 8 мая; если Вы не откажетесь прочесть что-нибудь из Ваших сочинений, разумеется по собственному Вашему выбору, мы будем Вам крайне благодарны. Мы проведём вечер в самом тесном кружке. Кроме Сергея будут Евгения и Мария Максимилиановны и г-жа Шереметева (дочь покойной В<еликой> к<нягини> Марии Николаевны).
Надеюсь, ничто не помешает Вам своим присутствием доставить всем нам истинное удовольствие.
Душевно Ваш,
Константин[544]
Совершенно очевидно: записка великого князя изменила ближайшие намерения Достоевского – и отъезд, назначенный на 5-е, был отложен.
Но почему адресат этой записки не поступил как год назад, когда, будучи удостоен высочайшего приглашения, он предпочёл этому визиту участие в вечере Литературного фонда? Ведь и теперь мотивировка отказа была бы вполне уважительной: отъезд всем семейством в Старую Руссу, физическое отсутствие в Петербурге. Правда, молодой Романов почти настаивал (в пределах аристократической вежливости, разумеется): «Надеюсь, ничто не помешает Вам…» и т. д.
Думается, однако, что его согласие определялось не этим. Дело было в гостях.
Остановимся на приглашённых.
Сергей – это двадцатитрёхлетний великий князь Сергей Александрович, пятый сын Александра II, будущий московский генерал-губернатор, которого памятливая молва ославит «Царём ходынским». (Через четверть века, в феврале 1905 года, он будет разорван в Кремле бомбой Каляева). Этим знакомством началось общение Достоевского с юными представителями династии: в марте 1878 года по совету воспитателя великих князей Д. С. Арсеньева бывший петрашевец и каторжанин впервые был зван на обед к Сергею Александровичу.
На том давнем обеде присутствовал и Константин. Он записал в дневнике: «Я обедал у Сергея. У него были К. Н. Бестужев-Рюмин и Фёдор Михайлович Достоевский. Я очень интересовался последним и читал его произведения. Это худенький, болезненный на вид человек, с длинной редкой бородой и чрезвычайно грустным и задумчивым выражением бледного лица. Говорит он очень хорошо, как пишет»[545].
С Сергеем Александровичем особой близости у Достоевского не возникло. Знакомство ограничилось несколькими «воспитательными» обедами (известно не более трёх приглашений на таковые). Иное дело – Константин Константинович. К будущему К.Р. автор «Карамазовых» испытывал определённую симпатию (вспомним его откровенность при рассказе о казни Млодецкого) и прочил ему литературную стезю. «С молодым Великим князем, – пишет Анна Григорьевна, – у моего мужа, несмотря на разницу лет, установились вполне дружеские отношения…»[546]
Константин Константинович упоминает в числе приглашённых двух сестёр – принцессу Ольденбургскую Евгению Максимилиановну и принцессу Баденскую Марию Максимилиановну: с ними Достоевский уже знаком по прежним посещениям. Из новых лиц называется Елена Шереметева – внучка Николая I.
Но всё это избранное общество не смогло бы, как кажется, изменить его намерения немедленно отбыть в Старую Руссу. Решающим аргументом явилось присутствие на вечере ещё одного лица.
Речь идёт о цесаревне, жене наследника престола, Марии Фёдоровне.
Датская принцесса София-Фредерика-Дагмара была привезена в Россию восемнадцати лет – в 1866 году[547] (ожидание её приезда ускорило казнь Каракозова). В 1880 году ей было тридцать два года (она переживёт три русские революции, своих убиенных детей и внуков и умрёт в Дании в 1928 году, чтобы в году 2006-м быть перезахороненной в соборе Петропавловской крепости). Мария Фёдоровна – едва ли не единственная из русских императриц, сумевшая сохранить привязанность своего августейшего супруга. Александр III очень считался с сильным и скрытным характером дочери датского короля.
Присутствие будущей императрицы, недвусмысленно изъявившей желание познакомиться с автором «Братьев Карамазовых», придавало задуманному вечеру особый смысл.
Путь наверх, как известно, проходит через женщин. Но зачем ему понадобилось вступать на него?
П. Г. Кузнецов, мальчиком служивший у Достоевских (он помогал Анне Григорьевне в книжной торговле), простодушно рассказывает: «Ф.М. ездил на литературные вечера и изредка его приглашал Государь император Александр II (чего, заметим, никогда не бывало. – И.В.) и Великий князь Константин Константинович. Его обратно привозили в придворных каретах, после этого он был очень доволен»[548].
Специалисты подошли к делу гораздо серьёзнее.
В 1934 году Л. Гроссман опубликовал документы о взаимоотношениях Достоевского с высшими правительственными кругами (письма К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова, пригласительные записки великого князя Константина и т. д.). Эти материалы произвели на учёного чрезвычайное впечатление. Личные контакты с представителями династии были вменены автору «Мёртвого дома» в сугубую вину.
Л. Гроссман пишет: «В третьем поколении царизм, приговоривший в 1849 году Достоевского к расстрелу и каторге, не только снимает с него всякие подозрения в оппозиционном образе мыслей, но возводит его в степень выразителя своих основоположных воззрений и предначертаний. Внуки Николая I относятся к Достоевскому с почтительнейшим вниманием, стремясь сберечь для своего политического дела такого крупного и влиятельного союзника, как известнейший из писателей старшей плеяды русских романистов»[549].
В этом эффектном утверждении многое неверно.
Ибо не столько власть стремилась «сберечь для своего политического дела» заступника униженных и оскорблённых (никогда, кстати, не изменявшего этому своему делу), сколько он сам пытался направить эту власть по тому пути, который он считал единственно правильным.
Этико-историческая концепция Достоевского (как мы обозначаем комплекс его представлений о нравственном и гражданском миропорядке), с поразительным напряжением и упорством отстаиваемая и в «Дневнике писателя», и в «Братьях Карамазовых», и в Пушкинской речи, не слишком соответствовала видам реальной государственной политики. «Высшие» цели Достоевского фактически отрицали ближайшие и отдалённейшие задачи той системы, в рамках которой они призваны были осуществиться. И сама «система» не могла этого не чувствовать.
Раздражение Александра II, вызванное адресом Славянского благотворительного общества, было, по сути дела, частным случаем того исторического недовольства, которое неизбежно должна была выказать власть при первой же попытке Достоевского применить свои идеалы к реальной государственной практике. То, что не возбранялось в сфере художественной идеологии, в области «высокого и прекрасного» или в бесплотном мире нравственных отвлечений, получает мгновенный отпор при первой же попытке воплощения. Такое миронастроение могло умилять власть имущих, но за ним не признавалось одного права: стать философией жизни.
Л. Гроссман глубоко заблуждается, говоря, что «правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского», что «восьмидесятые и девяностые годы – эпоха государственного осуществления» его идей и что поэтому на него ложится «часть ответственности» за внутреннюю и внешнюю политику российского абсолютизма[550]. Достоевский, право, не стоит этой чести. Вряд ли Александр III мог претендовать на роль его духовного наследника.
Но вот вопрос: отказался бы сам автор Пушкинской речи передать будущему царю хотя бы часть этого наследства?
Когда Победоносцев осторожно подталкивал его на сближение с царствующим домом, он, несомненно, имел свои виды. Его вполне устроила бы та роль, которую позднее отведёт Достоевскому Л. Гроссман. Трудность, однако, в том, что потенциальный исполнитель роли этой не приемлет.
Л. Гроссман прав только в одном отношении: Достоевский действительно хотел, чтобы нынешнее и особенно будущее царствование исполнило бы его программу. Он мечтает пересоздать русскую монархию в духе своих религиозных и этических убеждений. И если Победоносцев желает сделать его союзником того, что есть, сам он стремится стать вдохновителем того, что будет.
Откликаясь на всегда учтивые приглашения великого князя, он имеет в виду свою постоянную цель. И конечно, ничто не могло бы так способствовать осуществлению этой цели, как непосредственное личное воздействие на тех, кому он готов доверить свои идеалы и от кого в немалой мере зависит их дальнейшая судьба.
Присутствие цесаревны в салоне великого князя открывало прямой путь к «подножию трона»: являлся шанс, что его голос будет наконец услышан.
- Беда стране, где раб и льстец
- Одни приближены к престолу,
- А небом избранный певец
- Молчит, потупя очи долу.
Надо было попытаться сделать то, что не удалось ни Гоголю, ни Пушкину, ни Карамзину.
Ради этого стоило отложить отъезд в Старую Руссу.
Из письма Константина Константиновича следует, что будущая государыня слышала Достоевского 27 апреля («в прошлое воскресенье»). Но где и при каких обстоятельствах?
«На концерте в пользу Георгиевской общины», – говорит великий князь. Нам об этом концерте ничего не известно.
Дочь Достоевского Любовь Фёдоровна приводит в своих воспоминаниях весьма любопытную версию знакомства её отца с женой наследника престола. По её словам, на одном из вечеров, где присутствовала Мария Фёдоровна, Достоевский читал известную сцену из «Карамазовых»: одна из пришедших к старцу Зосиме баб убивается по своему умершему малолетнему сыну. «Она (то есть цесаревна. – И.В.), – пишет Любовь Фёдоровна, – тоже когда-то потеряла маленького сына и не могла его забыть. Услышав чтение моего отца, цесаревна принялась громко плакать, вспомнив о маленьком умершем. Когда Достоевский кончил чтение, она обратилась к дамам, организовавшим вечер, и сказала, что хотела бы с ним поговорить».
Далее Любовь Фёдоровна рассказывает, что вышеупомянутые дамы (которые, добавляет она, «были не слишком умны»), зная недоверчивый характер Достоевского и опасаясь, что он откажется выполнить августейшее пожелание, пошли на хитрость. Они сказали, что с ним хочет познакомиться «одна интересная личность».
«– Что это за интересная личность? – спросил Достоевский удивлённо.
– Вы сами увидите… Она очень интересная… Пойдёмте скорее с нами! – ответили молодые женщины, завладели моим отцом и, смеясь, повлекли его за собой в маленькую гостиную. Они ввели его туда и закрыли за ним дверь. Достоевский был очень удивлён этим таинственным поведением. Маленькая гостиная, в которой он находился, была слабо освещена лампой, затенённой ширмой; молодая женщина скромно сидела у столика. В этот период жизни мой отец уже не заглядывался больше на молоденьких женщин. Он приветствовал незнакомку, как приветствуют даму, которую встречают в салоне своей знакомой, а так как он подумал, что две юные шалуньи позволили себе его мистифицировать, то вышел из комнаты через противоположную дверь… Четверть часа спустя молодые дамы, которые привели его к дверям маленькой гостиной, бросились к нему.
– Что она Вам сказала? Что она Вам сказала? – спрашивали они с любопытством.
– Кто она? – спросил отец удивлённо.
– Как это, кто она? Цесаревна, конечно!
– Цесаревна? Но где же она? Я её не видел…»[551]
Воспоминаниям дочери Достоевского следует доверять с большой осторожностью: это известно не только специалистам. Любовь Фёдоровна многое путает и далеко не всегда опирается на достоверные факты. Весной 1880 года ей ещё не исполнилось одиннадцати лет, и вряд ли тогда она знала и запомнила то, о чём поведала читателям через четыре десятилетия. Но, может быть, её информация опирается на какие-то семейные предания или исходит из тех великосветских кругов, к которым всю жизнь так тяготела мемуаристка?
Анна Григорьевна хранит по этому поводу молчание. Правда, она тоже упоминает о цесаревне, но – несколько в иной связи. Говоря о выступлении Достоевского 22 декабря 1880 года в пользу приюта Св. Ксении в доме графини Менгден, она пишет: «…Фёдор Михайлович был приглашён во внутренние комнаты, по желанию императрицы (будущей. – И.В.) Марии Фёдоровны, которая благодарила Фёдора Михайловича за его участие в чтении и долго с ним беседовала»[552].
Новейшие комментаторы полагают, что Анна Григорьевна говорит здесь о первой встрече Достоевского с Марией Фёдоровной. По их мнению, Анна Григорьевна перепутала даты, и на самом деле этот вечер состоялся 22 декабря 1879 года[553].
Оба этих вывода представляются неверными.
Анна Григорьевна вовсе не утверждает, что встреча, состоявшаяся 22 декабря, была первой. Сам же вечер упомянут ею среди других выступлений 1880 года: все они названы абсолютно верно. Кроме того, события последних недель жизни Достоевского (а со дня встречи в доме графини Менгден до дня его смерти прошло чуть больше месяца) должны были особенно ярко запечатлеться в памяти его вдовы.
И наконец, самое капитальное. Если бы встреча с Марией Фёдоровной состоялась 22 декабря 1879 года, тогда записка Константина Константиновича от 4 мая 1880 года лишена всякого смысла. Получается, что с автором «Карамазовых» желает «поближе познакомиться» то самое лицо, которое с ним уже познакомилось (и даже долго беседовало) полгода тому назад.
22 декабря 1880 года великая княгиня разговаривала с Достоевским как с человеком, который уже известен ей лично. И эпизод с «розыгрышем», приводимый Любовью Фёдоровной, никак нельзя приурочить к этому дню.
Следовательно, жена и дочь Достоевского имеют в виду разные встречи.
С другой стороны, не с потолка же взяла Любовь Фёдоровна свою завлекательную историю: в её рассказе присутствуют очень характерные подробности.
Константин Константинович утверждает, что цесаревна слышала чтение Достоевского «в прошлое воскресенье», то есть 27 апреля 1880 года: очевидно, розыгрыш, о котором повествует Любовь Фёдоровна, произошёл именно тогда. Между тем нам известно только об одном вечере 27 апреля: в Благородном собрании – в пользу Славянского благотворительного общества.
Как разрешить это недоумение?
Конечно, можно было бы предположить, что супруга наследника престола слышала Достоевского на вечере в Благородном собрании. Однако это предположение вызывает сильный скептицизм. Мы забыли об этикете.
Дело даже не в том, что присутствие цесаревны на вечере 27 апреля не отмечено ни одной петербургской газетой, – для такого сообщения требовалось согласие Министерства двора. Трудно вообразить, чтобы жена наследника престола позволила себе появиться на «массовом» литературно-общественном мероприятии. Следует, пожалуй, оставить и заманчивую мысль об инкогнито.
Кроме того, Любовь Фёдоровна определённо утверждает, что описанная ею встреча произошла в большом петербургском свете. Да и проделка двух «юных шалуний», осмелившихся – без представления – оставить автора «Карамазовых» наедине с цесаревной, свидетельствует об их принадлежности к высшим придворным кругам. Так шутить можно было только среди своих.
И действительно: как удалось выяснить, будущая императрица впервые слушала Достоевского в доме графини Менгден (Дворцовая набережная, 34: там же они встретятся в последний раз – 22 декабря 1880 года) – на вечере в пользу Общины сестёр милосердия Св. Георгия, официальной покровительницей которой она состояла. Но вечер этот имел место не в воскресенье 27 апреля, как первоначально объявлялось, а был перенесён на вторник 29-е, о чём известила Достоевского председательница Георгиевской общины[554].
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что «высочайший розыгрыш» состоялся 29 апреля 1880 года в доме графини Менгден.
Однако цель розыгрыша не достигнута. Повторное знакомство происходит 8 мая в салоне великого князя: сам вечер предпринимается по инициативе цесаревны и не исключено – с целью загладить недавнюю неловкость.
«Великую княгиню, – пишет Любовь Фёдоровна, – не оттолкнула эта неудачная встреча (то есть в доме графини Менгден: не допустил ли Достоевский какую-нибудь бестактность по отношению к цесаревне, а то, чего доброго, и нагрубил ей? – И.В.): она знала о дружбе между Достоевским и великим князем Константином и обратилась к последнему с просьбой познакомить её с моим отцом. Великий князь немедленно организовал вечер и пригласил Достоевского, сообщив ему предварительно, кого он встретит у него. Отец был несколько смущён тем, что не узнал цесаревну, фотографии которой висели тогда во всех витринах; он принял приглашение и постарался быть любезным…»[555]
Он постарался быть любезным: мы знаем, что это ему не всегда удавалось.
8 мая хозяин вечера записывает в своём дневнике: «Ф.М. читал из «Карамазовых». Цесаревна всем разлила чай; слушала крайне внимательно и осталась в восхищении. Я упросил Ф.М. прочесть исповедь старца Зосимы, одно из величайших произведений (по-моему). Потом он прочёл «Мальчика у Христа на ёлке». Елена (Шереметева. – И.В.) плакала, крупные слёзы катились по её щекам. У Цесаревны глаза тоже подёрнулись влагой»[556].
На самом «верху» он читает рассказ о детях петербургских трущоб: акт социальной педагогики, если угодно.
Но отъезд в Старую Руссу был отложен, конечно, не только для того, чтобы исторгнуть августейшие слёзы. У автора, как мы говорили, была собственная «сверхзадача», и, очевидно, он полагал, что 8 мая приблизит его к осуществлению таковой.
«Достоевский, – пишет его дочь, – произвёл на неё (Марию Фёдоровну. – И.В.) глубокое впечатление; она так много говорила о нём своему мужу, что и Цесаревич захотел познакомиться с отцом… Будущий Александр III очень интересовался всеми русофилами и славянофилами, ожидавшими от него крупных реформ. Достоевский также хотел с ним познакомиться, чтобы поделиться своими идеями по русскому и славянскому вопросам…»[557].
Об их единственной встрече – речь впереди.
Любовь Фёдоровна не уточняет, что именно желал поведать её отец будущему русскому самодержцу. Но ей определённо известно о самом намерении.
Стараясь быть любезным с женой наследника престола, он делает это вовсе не из-за каких-то личных или придворных видов. Хотя и не вполне бескорыстно: от Александра Александровича действительно ждали реформ. Достоевский никогда не узнает, что по невесёлой в таких случаях иронии они войдут в отечественные анналы с приставкой «контр».