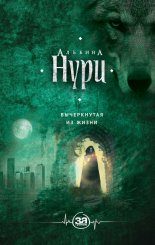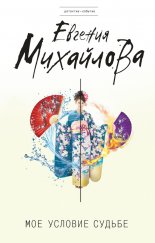Последний год Достоевского Волгин Игорь
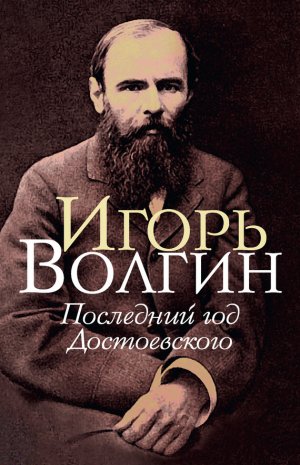
«Зрелища более величавого, более умилительного, – говорит Суворин, – ещё никогда не видал ни Петербург и никакой другой русский город. Ничья вдова, ничьи дети не имели ещё такого великого утешения…»[1441]
Русская пресса не без удивления отмечает то единодушие, которое обнаружилось у гроба Достоевского. Правда, более проницательные наблюдатели высказывают некоторый скептицизм. «Говорят, – пишет в «Отечественных записках» Михайловский, – о едином чувстве скорби, в котором слилось всё русское общество от верхнего края до нижнего. Такое единение, пожалуй, и было, а пожалуй, что его и не было, как смотреть на дело»[1442].
Михайловский смотрит на дело трезво и без некрологических преувеличений. Именно в этой своей статье – может быть, по контрасту с общим панегирическим хором – он произнесёт слово, которому вскоре суждено стать крылатым: жестокий талант. Эта ёмкая формула надолго определит место Достоевского в отечественной литературной традиции.
Сам талант порою тоже ставится под сомнение.
Выразив своё несогласие с явно устаревшей поговоркой – «о мёртвых либо хорошо, либо ничего», – анонимный автор статьи в «Петербургской газете» спешит поведать читателям, что после «Бедных людей» и до «Униженных и оскорблённых» Достоевский «не писал ничего замечательного». После же «Записок из Мёртвого дома» «его дарование автора заметно слабеет и тенденциозность становится заметнее…». Каждый последующий роман – ниже предыдущего, «а “Дневник писателя” показывает уже упадок таланта и вместе с тем объясняет причину этого явления». Крупнейший художественный просчёт Достоевского – «Братья Карамазовы», ибо в них «тёплые страницы встречаются изредка, но византийщины масса, равно как и праздных рассуждений, не идущих к делу…» Герои романа – преимущественно «субъекты из сумасшедшего дома». Автор статьи полагает, что «рукоплескания малоразвившегося в политическом отношении общества» вскружили Достоевскому голову, и он возомнил себя пророком. По всему этому следует говорить о нём лишь как об авторе отдельных удачных произведений, «предав забвению деяния его на поприще реакции»[1443].
О «деяниях на поприще реакции» не забывает упомянуть и Михайловский. Он замечает, что со временем светлые чувства, когда-то присущие автору «Бедных людей», вытесняются «проповедью смирения и вольного или невольного (каторжного) страдания». Достоевский «стал даже с гораздо большей жадностью искать в человеческой душе сознания греховности, сознания своего ничтожества и мерзости». Ему была «ненавистна идея общественной реформы… общий порядок вещей был для него неприкосновенен» и т. д.[1444]
Идеолог народничества, его крупнейший литературный авторитет высказывает здесь ряд положений, которые не одно десятилетие будут официальной шпаргалкой «демократической критики». Ибо, согласно Михайловскому, автор «Братьев Карамазовых» – «злонамеренный писатель».
Анатомия почитается за убийство; отважное проникновение в те реально существующие миры, которых сам Михайловский предпочитает не касаться, провозглашается апофеозом жестокости; порыв к мировому переустройству расценивается как защита косности и status quo. Русская радикальная критика сомкнулась в этом пункте с критикой либеральной, с её «двойным» – весьма удобным в идейном пользовании – приговором: «Мы искренне преклоняемся перед поэтическим талантом Достоевского… Но его учение! Нужно ли говорить, сколько горя приносит оно родине!»[1445]
Связав при жизни своё имя с лагерем русских охранителей, теперь, после смерти, он пожинал плоды этого едва ли не противоестественного союза. Его без боя отдавали тому идейному стану, который спешил заключить его в свои объятия, радуясь этому нечаянному приобретению. Как проницательно замечает в своём журнале Л. Оболенский, «реакционеры заведомо лживо старались сделать Достоевского своим орудием, и сами либералы играют им на руку»[1446].
Справедливости ради следует отметить, что подобные мысли, хотя и не получившие тогда распространения, были впервые высказаны в 1881 году.
В статье «Невольная тема», помещённой в «Голосе» и заметно отличавшейся от того, что обычно писалось там о Достоевском, В. Модестов вопрошает: «…мог ли он когда-нибудь и в чём-нибудь стать на сторону защитников застоя, мог ли он считать своими людьми представителей нашей так называемой консервативной партии? Никогда!.. Он жил и дышал мыслью об освобождении нашего отечества от всевозможных пут, препятствующих проявлению действительных сил русского человека… Он требовал полной свободы печати, полной свободы совести, полного доверия со стороны власти к русскому народу. Он не только желал всего этого, но и верил в осуществление своих желаний…»[1447]
Уже знакомый нам Л. Оболенский отваживается на рискованный прогноз, который, наверное, выглядел дико в глазах большинства литературных критиков. «…Не пройдёт и десятка лет, – пророчествует издатель «Мысли», – как произведения Достоевского станут известны всему миру, потрясут до глубины души чуждых нам народов, будут изучаться в течение веков… Верим не только в это, но и в то, что Европа даже раньше нас поймёт и оценит его произведения, да и нам объяснит»[1448].
Л. Оболенский предрекает автору «Карамазовых» мировую славу: симптомы таковой пока не обнаруживаются. Его сочинения практически не известны за пределами России. Европа не заметила его кончины и никак не отозвалась на неё. Родина, помимо газетных некрологов, почтила его способом вполне национальным: мощным всплеском поэтического чувства.
Пожалуй, никто из русских писателей не сопровождался в могилу таким количеством сочинённых по этому поводу рифмованных строк.
Множество «поминальных» стихотворений украшают собой страницы русской периодики; ещё большее число поэтических созданий не достигает печати и остаётся, так сказать, в домашнем пользовании.
Увы. Ни одно из этих творений даже отдалённо не напоминает бессмертного лермонтовского стихотворения, горестно вдохновлённого гибелью Пушкина. Уровень подавляющего большинства этих сочинений крайне невысок: он как бы свидетельствует о той поэтической паузе, которая наступила после Некрасова и которая продлится вплоть до начала нового века, когда феерический «выброс» поэтов первой величины породит некое национальное культурное чудо, масштаб которого ещё не осознан до сих пор. Стихи же, вызванные смертью Достоевского, не представляют сколько-нибудь значительной художественной ценности: их интерес в другом.
В них запечатлён уровень понимания.
- Что нас собрало здесь, пред вырытой могилой,
- Пред прахом дорогим?.. О, братья! этот час
- Воочью показал с неотразимой силой,
- Что теплится любви святой огонь у нас![1449]
Схема большинства стихотворений примерно одинакова: покойному воздаётся за его многострадальную жизнь, упоминается о его сочувствии к «меньшой братии», проповеди любви и т. д. и т. п. И, хотя в обилии стихотворных банальностей часто тонет живое переживание, его потенциальное наличие не вызывает сомнений.
Л. Толстой писал Страхову: «В похоронах я чутьём знал, что, как ни обосрали всё это газеты, было настоящее чувство»[1450].
«Настоящее чувство» редко выливается в настоящие стихи.
- О да, мы должны обозначить могилу,
- Того, кто в нас душу будил,
- Того, кто души благодатную силу
- В могучее слово вложил…[1451]
Подписано: Н. Барт. Имя знакомое: как помним, именно Надежде Барт просила адресовать ответ А. Курносова, слушательница Бестужевских курсов, писавшая Достоевскому зимой 1880 года (см. главу «Две недели в феврале»).
- А если хилы мы? – Так что ж?
- Исполнит наша молодёжь,
- Которой верил и любил
- Он до последних дней и сил[1452].
В основном именно молодёжь и посылала в редакции плоды своих скорбных восторгов. Но на газетные полосы прорвалось в эти дни творение совершенно исключительное. Как разъяснялось в редакционном примечании, «С.-Петербургские ведомости» не могли отказать «русскому крестьянину» в помещении его стихотворного опыта:
- Почий на лоне Авраама замечательный писатель.
- Ты был за обиженных великий воздыхатель,
- За которых ты неустанно писал и ратовал,
- Потому что сам за правду в изгнаньи живал.
- Сам испытавши великие беды и нужды,
- Тебе все несчастия бедных не были чужды,
- На пользу которых всю свою жизнь посвятил
- И на этом славном деле земное поприще прекратил.
- Твоя жизнь полна благих дел,
- Хотя перешла она земный предел,
- Но добрые дела твои никогда не умрут:
- Они на гробе твоём зазеленеют и зацветут.
Подписано было: «Глубокоуважающий почившего гениального писателя крестьянин Максим Васильев Карасёв». Сообщалось также, что при сём редакция получила «от М. В. Карасёва 1 руб. на памятник Ф. М. Достоевскому»[1453].
Стихи Максима Карасёва безграмотны, но трогательны. Исключительность момента (и возможно, некоторая доля литературного снобизма) подвигли редакцию обнародовать произведение, напоминающее вирши Симеона Полоцкого и вряд ли могшее увидеть свет при иных обстоятельствах.
Этот факт знаменателен. Художественные достоинства для публикаторов – дело десятое: важнее подчеркнуть незаурядность отклика, пришедшего из вовсе «нелитературных» сфер и вызывающего народолюбивый восторг одним фактом своего существования.
Но если от крестьянина Максима Карасёва трудно ждать перлов изящной словесности, то совсем иной спрос с титулованного автора, шталмейстера высочайшего двора, человека, во всяком случае, образованного. Пятидесятидевятилетний князь Александр Васильевич Мещерский (не путать с В. П. Мещерским, издателем «Гражданина») тоже поспешил вплести свою розу в поэтический венок на гроб Достоевского.
Лирические излияния князя Мещерского – явление изумительное.
- Пусть Петербург честит смерть каторжника вволю, —
- Россия это не поймёт.
- Зачем нам подражать? стяжать французов долю? —
- Туда народ наш не пойдёт!
- Нам динамит открыл глаза на зла причину,
- Куда нас смута доведёт…
- Нам Петербург смешон! – к чему приял личину,
- Что гению почесть отдаёт?!..
- Тут гений ни при чём и гения не бывало,
- А был когда-то романист,
- Больной, что проводил болящее начало,
- Издав «Дневник», как публицист…
Эти бесподобные строки (тогда так и не увидевшие света) могут соперничать с творениями графа Хвостова и капитана Лебядкина (хотя и не обладают, как у последнего, признаками высокой оригинальности). Князь-стихотворец, мужественно борясь с русской грамматикой, не забывает дать собственную интерпретацию важнейшим событиям в жизни своего героя: «Он с Петрашевским сослан был за преступления, Что ныне чествовать хотят, И там писал он, ради развлечения, Романы, смыслу что претят».
Далее сочинитель выказывает негодование в связи с тем обстоятельством, что автору романов, «смыслу что претят», замышляют «в святой Руси самодержавной» воздвигнуть памятник, и предлагает следующую трактовку этого кощунственного намерения: «Его (то есть памятник. – И.В.) воздвигнет здесь крамола, лишь в столице, Курсисток стая без волос, Что кандалы его везли на колеснице, – Любуйся, благородный росс!»[1454]
Нет худа без добра. Убогим косноязычием князя Мещерского вдруг подтверждается уже отмеченный другими знаменательный факт: попытка нести кандалы за гробом писателя. Мало того: в стихах даже содержится указание на тех, кто собирался осуществить это преступное намерение: «Курсисток стая без волос (очевидно, стриженых. – И.В.)».
Стихи безвестного крестьянина Карасёва и опус великосветского салонного стихотворца князя Мещерского – эти творения можно поставить рядом только по одному признаку: их литературной беспомощности. Но если у Карасёва присутствует искреннее стремление хоть как-то почтить память любимого автора, то князем Мещерским движут чувства прямо противоположные. Его эпитафия – это, так сказать, посмертный лирический донос, исходящий из светских и придворных кругов[1455].
Стихи сопровождают Достоевского в последний путь. В воскресенье, 1 февраля, они прозвучат над его раскрытой могилой.
28 сентября 1899 года шестидесятипятилетний А. С. Суворин вспомнил о событиях восемнадцатилетней давности – смерти и похоронах Достоевского. Он записал в дневнике:
«Удивительный был этот подъём в Петербурге. Как раз это перед убийством Императора. Публика бросилась читать и покупать Достоевского. Точно смерть его открыла, а до этого его не было»[1456].
Остановимся на первой фразе. О каком подъёме, казалось бы, может идти речь в минуту всеобщей скорби?
Но вот что писал тот же Суворин – тогда, в 1881 году: «Это были не похороны, не торжество смерти, а торжество жизни, её воскресение…»[1457]
«Это, – говорит другой современник, – даже мало напоминало похороны, это было какое-то народное празднество…»[1458]
«Процессия… – пишет Тюменев, – походила на какое-то триумфальное шествие…»[1459]
«Как ни странно это звучит, – замечает Н. К. Михайловский, – но в проводах было нечто даже как бы ликующее… Я видел настоящие, искренние слёзы и истинно скорбные лица у гроба Достоевского. Но я ощущал кругом себя и радость и слышал выражения радости, что вот, мол, сколько свободы и единения»[1460].
«Голос» называет событие горестным и утешительным в одно и то же время[1461].
«Торжество», «празднество», «радость» – все эти определения мало подходят для выражения чувств, вызванных печальной потерей. Получается, что скорбь сама по себе не являлась господствующим настроением тех дней. Выходит, что печаль была светла, что к ней примешивались какие-то совершенно неожиданные оттенки.
Если в траурной мелодии вдруг прорывается мажорная тема, для этого должны быть основания.
То, о чём говорят современники, можно назвать историческим оптимизмом. Разумеется, оптимизм этот имеет касательство не к самому факту смерти (увы, необратимому), а к тому, что эта смерть выявила в продолжающейся жизни и что, несмотря на горечь потери, подало повод к надежде.
На что же можно было надеяться зимой 1881 года?
Достоевский умер в исключительный момент русской истории: исключительный как в духовном, так и в политическом плане.
К началу восьмидесятых годов почти все зародившиеся ранее течения русской общественной мысли выявили себя с достаточной полнотой. Российское XIX столетие, беспримерное по объёму и напряжению духовной деятельности, «переварившее» великое множество воззрений, концепций и идеологических формул, познавшее живительную и иссушающую страсть литературных полемик (восполнявших отчасти отсутствие дела), – это столетие подошло к некой критической точке. Богатое наследство сороковых и шестидесятых было в основном исчерпано: наследники ещё спорили о деталях, но не знали, как соединить теорию с неподдающейся жизнью. Ни одно из идейных устремлений предыдущих десятилетий не сумело доказать своего права на бесспорный общественный приоритет; ни одна сила, не смогла утвердить себя в сфере практических осуществлений.
Великая распря западников и славянофилов давно утратила былую историческую непосредственность. Ясность идейных физиономий замутилась. Если раньше ещё можно было предположить, что этот старый спор, пользуясь словами Достоевского, есть недоразумение ума, а не сердца, то теперь он превратился в средство личного самоутверждения и сведения давних счётов. Западничество уже давно не сознавало себя какой-то единой общностью: сохранив тягу к европейскому конституционализму, оно – в своём народническом варианте – вполне усвоило заветную славянофильскую мечту об исторической исключительности России. С другой стороны, позднее славянофильство, формально не отрекаясь от своих духовных предтеч – Хомякова и Константина Аксакова, всё менее одушевлялось их высоким поэтическим чувством и всё более склонялось к компромиссу с существующим порядком вещей.
Русский либерализм западнического толка – внешне достаточно импозантный и сохранявший, на первый взгляд, прочные общественные позиции – был величиной довольно условной, подверженной колебаниям государственного климата. Он не обладал ни единой идеологией, ни претерпевшими гонения идеологами (без чего в России невозможен сколько-нибудь серьёзный моральный авторитет). Исполненный благородных и высокоинтеллигентных стремлений, он никогда не мог соотнести их с той тёмно, тяжёлой, непредсказуемой стихией, которая глухо ворочалась в исторической мгле, именуемой народной жизнью. Модель, предлагаемая либералами, не затрагивала этих глубин: в ней отчётливо обнаруживались черты корпоративного эгоизма. «Стихия» не принималась в расчёт: разумелось, что она может быть упорядочена и управляема с помощью «нормальных» парламентских процедур. Страшась эксцессов как правого, так и левого толка, русский либерализм никак не мог нащупать собственную точку опоры и внутренне был готов поддержать существующую власть – как меньшее из зол. Не приуготовленный к реальному политическому действию, он стремился избежать и потрясений духовных: недаром так тщательно обходились все «мировые» вопросы. Ставя перед собой весьма умеренные и, казалось бы, вполне достижимые цели, российские либералы не заботились об их нравственном «глобальном» обеспечении: в России такое пренебрежение никому не проходит даром.
Что мог предложить стране в 1881 году лагерь охранительный?
Не обладающий – за редким исключением – сильными и самобытными мыслителями, ограниченный даже в своей охранительной инициативе застарелой государственной практикой, русский общественный консерватизм поневоле отождествлялся с консерватизмом правительственным, давно утратившим свой моральный кредит. Ценности, отстаиваемые официозной или полуофициозной публицистикой, не внушали образованному обществу ни малейшего доверия. Такие понятия, как «православие», «самодержавие», «народность» – в их казённо-патриотической трактовке, – были скомпрометированы ещё в предыдущее царствование. Русское охранительство всё больше превращалось в консервативную оппозицию – тем реформам, которые были проведены в начале 60-х годов. «Московские ведомости» считали себя правее правительства: они раньше других уловили ту тенденцию, которая возобладает после 1 марта. В отличие от либералов они принимали в расчёт «стихию»: с последней – для её же собственного блага – была призвана совладать сильная государственная власть. Если теоретически и допускалось осторожное консервативное обновление, оно (как и у западников) не должно было затрагивать глубин национальной жизни и мыслилось в качестве противовеса конституционным поползновениям либеральной интеллигенции. Нельзя сказать, чтобы охранительство не заботилось о моральном обосновании своих претензий: обоснования эти носили, главным образом, национально-исторический характер (соответствие «исконного» самодержавия историческому типу нации). В 1881 году всё это выглядело изрядным анахронизмом.
И наконец, лагерь русской революции.
К 1881 году здесь обнаруживаются признаки глубокого разброда. Это вызвано не только исчезновением с исторической сцены признанных лидеров движения, но и тем обстоятельством, что после реформы 1861 года – освобождения крестьян – крестьянская антифеодальная революция делалась всё более проблематичной. Крестьянство не шелохнулось во время великого «хождения в народ» 1874 года: бесчисленные жертвы, принесённые молодыми интеллигентами ради абстрактного «мужика», реального мужика оставили вполне равнодушным. Народолюбие, обратившееся, так сказать, в официальную принадлежность русской демократии, подвергалось тяжкому испытанию. Крестьянство, всё глубже враставшее в новый общественный уклад, не спешило обнаруживать своих антибуржуазных потенций. В семидесятые годы народники столкнулись с неким социальным вакуумом, когда «мужик» уже не оправдывал возлагаемых на него революционных надежд, а иной силы, способной «раскачать» самодержавие, ещё не существовало.
Русские радикалы делают последний отчаянный шаг: они вступают в бой с правительством один на один.
Результаты этого единоборства были налицо: ошеломлённая власть впервые заколебалась. Народовольческий террор внёс глубокое смятение в её дрогнувшие ряды. «Диктатура сердца» призвана была восстановить пошатнувшееся равновесие. У правительства ещё оставались громадные материальные резервы: армия, полиция, аппарат государственной власти. В то же время «Народная воля» почти исчерпала свои ресурсы. Загадочная «стихия» никак не отзывалась на её бескорыстные усилия и жертвы.
Теоретически возможно представить, что Исполнительный комитет в конце концов сумел бы свалить правительство. Труднее вообразить, кто и каким именно образом воспользовался бы плодами этой победы.
То, что произойдёт через месяц после кончины Достоевского – достижение революционным подпольем его главной цели, явит историческое бессилие террора. Но ещё при жизни автора «Карамазовых» обнаружатся вызванные этой борьбой мучительные нравственные коллизии. Террор был всё тем же «механическим» разрешением общественных вопросов, раскольниковской «арифметикой», хотя и облагороженной самозакланием тех, кто поднимал «топор». Ибо вопрос о «слезинке ребенка» и о всеобщем счастье был поставлен задолго до того, как бомба, разорвавшаяся на Екатерининском канале и предназначенная императору, случайно покалечит и убьёт оказавшегося рядом подростка. Алёша Карамазов у Илюшиного камня призывал русских мальчиков любить друг друга – и уходил во вторую часть романа, дабы покуситься на цареубийство. Интересно, явились бы при сём дети?
Русская революция замешкалась у порога: она ещё не решила всех «предвечных» вопросов[1462].
Таков был многосоставный спектр 1881 года: от белого царя до «красного» террора; от философских прений о существовании Божьем до взрывов народовольческих бомб, подтверждавших и отрицавших присутствие нравственного закона одновременно. Это была «мёртвая точка» века: он мог сдвинуться в ту или иную сторону.
Достоевский умер – и вдруг почудилось, что дело пошло.
Так почудилось потому, что сам он был чудом: единственный человек в России, чья смерть, казалось, примирила всех. Все партии склонили свои знамёна: факт доселе невиданный и никогда в русской истории более не повторявшийся.
Всё это продолжалось только одну историческую минуту и – обернулось призраком, фантомом, обманом зрения. Но всё-таки это было, а раз так – подобный парадокс требует объяснений.
В 1881 году будущее представлялось туманным, загадочным, но – открытым: никто не знал, куда пойдёт страна и каким образом осуществится этот переход. Россия жила накануне. Все ощущали близость рубежа, но никто не ведал, что произойдёт. Это смешанное чувство надежды и неуверенности проистекало из общей жизненной неопределённости, когда известные возможности казались исчерпанными, а новые пути – достаточно сложными и гадательными. Кризис общественного сознания порождал духовную нестабильность; кризис власти – нестабильность политическую. Вместе с тем тот общественный пессимизм, который определит тональность следующего царствования, ещё не возобладал.
Будучи молчаливым свидетелем схватки правительства с революционным подпольем, большинство российской интеллигенции не имеет ни сил, ни желания встать на точку зрения одной из сторон. Оно, это большинство, психологически подготовлено к принятию идеологических моделей, сулящих близкий и желательно безболезненный выход из существующего положения.
Меньшинство рвалось в решительный бой; большинство жаждало «покоя и воли». Покоя хотя бы относительного, но твёрдо гарантированного. Воли – хотя бы умеренной, личной, без давящего ярма наглого и бесконтрольного деспотизма.
Это большинство должно было склоняться к какой-то идеальной схеме, примиряющей противоречия хотя бы в сфере духа, – как к исходному пункту «всего остального». Это большинство желало верить, что существует некое целостное решение, способное удовлетворить всех и обозначить новую эру общественной жизни.
Может быть, секрет Достоевского и заключался в том, что он не рекомендовал никаких конкретных решений. Он начинал «с другого конца»: говорил о правде, о добре, об искренности, о справедливости. Он говорил о своём понимании христианской морали. Он полагал, что здоровье государства зависит от нравственного здоровья его граждан; что никакие «механические» усовершенствования не поведут к желаемой цели, если останется несовершенным сам человек. Его называли учителем: этобыло учительство особого рода. Он не брал на себя смелость по пунктам ответить на сакраментальный вопрос: «Что делать?» Скорее он намекал на то, как делать, именно намекал, потому что в отличие, например, от Толстого у него нельзя отыскать указаний на обязательность тех или иных действий или поведенческих норм. Он доверял каждому отдельному человеку, его нравственному чутью, его свободной воле и не желал насиловать эту волю нравственной «обязаловкой», навязыванием решений, приемлемых абсолютно для всех. Он призывал поступать по совести, будучи глубоко убеждён, что это сугубо индивидуальное «качество» в конечном счёте совпадает с мирочувствованием нации и питается от него. Он указывал интеллигенции на «серые зипуны», а от последних ожидал приятия двухвековой «верхушечной» культуры, оплодотворённой этим спасительным союзом. Раздельное существование народа и образованного общества, чреватое взаимной гибелью, он хотел восполнить их схождением – прежде всего в сфере духовной.
То, что он говорил, не было «программой». Это походило скорее на чувство, но – чрезвычайно сильное, колеблющее сокровенные струны души. И если политика не предвещала исхода, то, может быть, такой исход мнился в новом жизнеустроении, когда человек сбрасывает маску и обращает к другому человеку свой открытый и доброжелательный лик.
Смерть Достоевского, соединившая вокруг его гроба людей всех верований и направлений, как бы служила первым ошеломляющим подтверждением того, к чему призывал покойный. Словно только так – умерев – мог он воочию явить свою правоту: в этом смысле его кончина принадлежала к числу его сильнейших доказательств.
Процессия, следовавшая от Кузнечного переулка к Александро-Невской лавре, была заключительным актом царствования Александра II. Она завершала собой целую эпоху. Она знаменовала крайнюю точку того общественного движения, которое началось со смерти императора Николая Павловича. Летосчисление, открытое погребением Николая, заканчивалось похоронами его бывшей жертвы. Сами эти похороны свидетельствовали о том, что минувшая четверть века не прошла для России бесследно.
Но ещё в большей степени проводы Достоевского были обращены в будущее. Десятки тысяч людей отдавали дань уважения и любви тому, кто призывал их к нравственному обновлению – как первому шагу к всеобщему (может быть, всемирному) переустройству. Те, кто следовал за гробом автора Пушкинской речи, как бы говорили сильным мира сего: мы готовы. Мы готовы «смириться» (и безропотно отдать несомые вместо венков кандалы), если сама власть в свою очередь тоже «смирится» и на деле примет те начала любви, о которых говорил покойный. Довольно обоюдных убийств, безгласности, беззакония, официального и подпольного произвола! Общество готово к реформам: оно воспользовалось случаем и вышло на улицу, чтобы открыто заявить об этом. Глядите: мы вполне лояльны; мы стройно поём «Святый Боже», вместо того чтобы распевать, положим, «Марсельезу». Вам, правительству, даётся последний шанс: не упустите ж его!
Шанс был упущен.
Был упущен последний шанс, когда самодержавие теоретически ещё могло бы найти общий язык – если не со всей интеллигенцией, то хотя бы со значительной её частью. Спасение от революции было возможно не только при помощи откровенной контрреволюции, как это произойдёт месяц-другой спустя. Созыв Земского собора и иные шаги в том же направлении, хотя, разумеется, и не повели бы к тому, о чём говорил Достоевский, но во многом могли бы изменить дальнейший ход судеб.
У самодержавия недостало для этого ни желания, ни сил. Следующее массовое шествие в городе Санкт-Петербурге – тоже мирное, хотя и совсем иное по своему составу и по вызвавшим его причинам, – власть встретит пулями: это случится 9 января 1905 года.
Это случится – и положит начало первой русской революции.
Два шествия аукнутся между собой: кровь, пролитая участниками второго, оттенит всю фантасмагоричность первого.
Да, то, что происходило в столице 31 января 1881 года, можно назвать исторической фантасмагорией. Но одновременно – и крупнейшей политической манифестацией русского XIX столетия. Манифестацией, случившейся на грани двух эпох и вдохнувшей в сердца так и не сбывшиеся надежды.
Победоносцев не напрасно тревожился, вспоминая проводы Достоевского: он знал толк в исторических предзнаменованиях.
Вечером 31 января Анна Григорьевна с детьми приехала в Духовскую церковь, чтобы присутствовать при парастасе (торжественной всенощной), совершаемой у гроба.
«Церковь была полна молящихся; особенно много было молодёжи, студентов разных высших учебных заведений, духовной академии и курсисток. Большинство из них остались в церкви на всю ночь, чередуясь друг с другом в чтении Псалтыря над гробом…»[1463]
Когда утром пришли убирать храм, в нём не обнаружилось ни одного окурка. Это чрезвычайно удивило монахов. «…Обычно, за долгими службами, – пишет Анна Григорьевна, – почти всегда в церкви кто-нибудь втихомолку покурит и бросит окурок»[1464]. Уважение к памяти покойного превысило уважение к месту.
Гроб возвышался посреди храма – под балдахином из гранатового бархата с золотыми кистями, в окружении многочисленных венков. Некоторые из них, поднятые на высоких шестах, разместились вдоль стен (что, как замечает Анна Григорьевна, «придавало храму своеобразную красоту»). С хоров свисала, осеняя гроб, огромная трёхцветная хоругвь – от редакции «Русской речи»: её необыкновенные размеры должны были, по-видимому, выкупить нападки этого издания на творчество покойного…
«Мне невольно вспомнился, – замечает очевидец, – тот момент, когда на Пушкинском празднике Достоевский взошёл на кафедру, а сзади его, как рамку, держали венок»[1465].
В субботу вечером митрополит Петербургский Исидор (тот самый, который столь твёрдо противостоял намерению похоронить автора «Карамазовых» в стенах Лавры) направился в Духовскую церковь. «Монахи, – передаёт его слова дочь Достоевского, – остановили меня у дверей, объявив, что церковь, которую я считал пустой, полна людей». Тогда высокопреосвященный избрал пунктом своего пастырского наблюдения маленькую часовню во втором этаже соседней церкви: её окна выходили внутрь храма, где стоял гроб. «Я провёл там часть ночи, наблюдая за студентами, не видевшими меня. Они молились, плакали и рыдали, стоя на коленях. Монахи хотели читать псалмы у подножия катафалка, но студенты взяли у них из рук Псалтырь и читали попеременно псалмы. Никогда я не слыхал ещё подобного чтения… Студенты читали псалмы дрожащим от волнения голосом и вкладывали свою душу в каждое произносимое ими слово».
Так смущённому этой сценой Исидору сподобилось убедиться в мудрой правоте обер-прокурора Святейшего синода, пёкшегося, чтобы врата Лавры отверзлись пред не столь заслуженным прахом…
Ранним утром в воскресенье 1 февраля Победоносцев в сопровождении брата Анны Григорьевны отправился в Лавру. «Они открыли гроб, – пишет Любовь Фёдоровна, – и нашли Достоевского страшно изменившимся». Шёл уже четвёртый день после его кончины. Почти трое суток тело находилось в душных комнатах, битком набитых людьми. Гроб несколько часов несли на руках, покачивая и встряхивая. Всё это не прошло бесследно. «Из опасения, чтобы вид изменившегося лица покойника не произвёл тяжёлого впечатления на вдову и детей Достоевского, Победоносцев не разрешил монахам открыть гроб. Моя мать никогда не могла простить ему этого запрещения»[1466].
Анна Григорьевна скорбела о том, что не смогла исполнить обряд, предписываемый православным обычаем: отдать усопшему последнее целование.
Она вообще едва попала в Александро-Невскую лавру.
На площади перед Лаврой гудела толпа. Людей собралось несколько тысяч: внутрь пропускали строго по билетам. У Анны Григорьевны билета не оказалось. Она попыталась удостоверить свою личность.
«– Тут много вдов Достоевского прошли и одни, и с детьми, – получила я в ответ.
– Но вы видите, что я в глубоком трауре.
– Но и те были с вуалями. Пожалуйте вашу визитную карточку».[1467]
Визитной карточки, разумеется, тоже не было. И только помощь случившихся рядом знакомых позволила Анне Григорьевне с детьми проникнуть в стены обители.
«Сегодня, – пишут «С.-Петербургские ведомости», – в противоположность вчерашнему дню от полиции были сделаны большие наряды чинов для соблюдения порядка…» Начальство словно спохватилось и спешило наверстать упущенное.
«К сожалению, – продолжает корреспондент, – мы должны заметить, что полицейские чины… держали себя с публикою чрезвычайно грубо… Я пробыл у ворот Лавры 20 минут и видел обращение полицейских. Градоначальник поступит весьма справедливо, если сделает замечание тем чинам полиции, которые были в наряде у ворот Лавры и на площади. Бесцельная грубость со стороны полицейских не есть ли первый повод к беспорядкам»[1468].
Беспорядков не было: был беспорядок. Правда, в самой церкви царило торжественное спокойствие: депутаты окружили катафалк, вокруг которого прибавилось новых венков: от Артиллерийской Академии, Академии Генерального Штаба, от литераторов и даже «от русских детей».
В 10 часов утра началась заупокойная литургия. Пел хор александро-невских певчих – и молодёжь негромко подхватывала слова молитвы. Власть была представлена тремя правительственными лицами: Победоносцевым, начальником Главного управления по делам печати Абазой и министром народного просвещения Сабуровым.
После литургии совершилось отпевание. Затем ректор Петербургской духовной академии протоиерей Янышев обратился к присутствующим с проповедью. «Звучный голос, тёплое чувство, которое слышалось в каждом звуке проповеди, и красноречие проповедника, – отмечается в одном источнике, – произвели сильное впечатление на слушателей»[1469]. «…Речь… мне не понравилась, – возражает И. П. Павлов, – не слышал искренности, душевности»[1470].
«Дадим теперь ему, – воззвал в заключение Янышев, – как многолюбившему, последний поцелуй нашей любви»[1471], – запамятовав, очевидно, что ввиду закрытого гроба исполнить этот призыв можно только метафорически…
Когда гроб выносили из церкви, то, как свидетельствует М. А. Рыкачёв, «поднялась суматоха и давка». «Теснота оказалась такою подавляющею, – подтверждают «С.-Петербургские ведомости», – что распорядителям стоило немало труда пробить дорогу для духовенства и гроба к последнему месту его успокоения»[1472].
Это место находилось тут же – на Тихвинском кладбище: рядом с могилами Жуковского и Карамзина.
«У могилы, – пишет воспоминатель, – также были толпы: памятники, деревья, каменная ограда… всё было усеяно пришедшими отдать последний долг писателю. Григорович просил студентов очистить путь к могиле и место около неё. Мы с трудом это сделали и выстроили венки и хоругви шпалерами по обеим сторонам прохода»[1473].
Когда гроб опускали в могилу, раздался крик одиннадцатилетней Лили: «Прощай, милый, добрый, хороший папа, прощай!»[1474]
Три года назад он произнёс несколько слов над раскрытой могилой Некрасова. Он говорил тогда, что Некрасов должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым. «Выше, выше!» – закричали в толпе.
Над его собственной могилой не раздалось никаких полемических восклицаний: все споры были ещё впереди. Среди говоривших не оказалось ни одного крупного литературного имени. Тургенев пребывал за границей, Толстой – в Ясной Поляне, Салтыков-Щедрин – больной у себя дома. Да и вряд ли кто-нибудь из них захотел бы высказаться. Майков приготовил речь, но произнести её не успел. Говорили литераторы второго ряда; брали слово люди вовсе случайные…
«Впечатление осталось от апостольской фигуры В. С. Соловьёва, – вспоминает И. И. Попов, – от его падавших на лоб кудрей. Говорил он с большим пафосом и экспрессией»[1475]. Анна Григорьевна также свидетельствует, что молодой философ «выделялся своим взволнованным видом»[1476].
«Соединённые любовью к нему, – сказал о покойном Владимир Соловьёв, – постараемся, чтобы такая любовь соединила нас и друг с другом»[1477].
Это могло напоминать речь Алёши у Илюшиного камня. Смерть оказывалась большей, чем просто смерть: она «невольно» служила тому, к чему автор «Карамазовых» направлял все свои духовные помышления.
«Самому Достоевскому, – говорит И. П. Павлов, – если бы он видел и чувствовал всё это, должно было бы быть хорошо! Сколько народу на его могиле приняло решение, дало обет быть лучше, походить на него»[1478].
«А если умрёт, то принесёт много плода…»
Его смерть не только завершила его жизнь. Она сама стала элементом «учения», первой попыткой осуществить его на практике. Смерть оказалась конструктивной: в обществе обнаружились такие идеальные силы, о которых само общество даже не подозревало. Мнилось, что цели вещественные могут быть достигнуты невещественнейшим изо всех мыслимых средств – любовью.
1 февраля казалось: до этого уже подать рукой.
1 февраля ещё позволительно было надеяться, что 1 марта (то 1 марта) может не наступить вовсе.
Это была ошибка.
Это была ошибка, в которую впадали тем легче, что в неё страстно желали впасть.
Речей на могиле произносилось много. Выступал А. И. Пальм, сотоварищ покойного по делу Петрашевского: они вместе стояли на эшафоте. Говорил никому не известный студент Павловский: имя попало в газеты. Орест Фёдорович Миллер заключил свою речь чтением стихотворения безымянной слушательницы Высших женских курсов. Сказал речь профессор Бестужев-Рюмин. Стихи собственного сочинения огласили литераторы П. Быков и П. Гайдебуров, а также несколько лиц, оставшихся неизвестными.
Главная мысль у всех выступавших была одна: покойный указал путь. И остаётся только следовать в указанном направлении: остальное приложится.
Ораторов было плохо слышно.
Около трёх часов открыли кладбищенские ворота: толпа хлынула на Невский.
«Всё закончилось, – пишет И. П. Павлов, – немножко на русский манер насильным, нежелательным для хозяев разрыванием венков»[1479].
Всё закончилось немножко на русский манер:
…триумфальные венки, осенявшие его в его последний год, обратились в венки погребальные и были разодраны жадной в своём бескорыстии толпой;
вечером того же дня некто справлял новоселье; вернувшиеся с похорон заспорили о покойном и «добеседовались» до полвосьмого утра («Пример даже в наших летописях небывалый»[1480], – замечает один из присутствовавших);
через неделю заключённый в Петропавловскую крепость (где тридцатью годами ранее обретался его бывший сосед) потомственный почётный гражданин города Ставрополя господин Алафузов будет предъявлен доставленной из Путивля Елизавете Ивановне Баранниковой и после минутного колебания признает в ней свою родную мать[1481];
через месяц русский император целым и невредимым выйдет из кареты, подорванной бомбой 19-летнего Рысакова, и вступит в непродолжительную беседу с покушавшимся, после чего второй метательный снаряд, брошенный Гриневицким, прекратит его царствование;
ещё через месяц Кавказское медицинское общество учредит стипендию имени Достоевского за сочинение на тему: «Этиология умопомешательства в общественных и нравственных условиях русской жизни по сочинениям Ф. М. Достоевского»[1482].
Он умер в годину великих потрясений и великих надежд. Россия стояла «на какой-то окончательной точке»: чаша весов колебалась.
Будущее было открытым.
Он умер – и вопросы, которые в зависимости от нужд вопрошавших именовались то вечными, то мировыми, то проклятыми, получили ещё одно обозначение: они стали называться вопросами Достоевского.
Несколько заключительных слов. Из послесловия к 4-му изданию
Эта книга начала писаться «вдруг» – поздней осенью 1979 года и была завершена осенью 1982-го (включая довольно большой перерыв, связанный с личными обстоятельствами). Во всё время писания автора не покидала счастливая уверенность, что он идёт по неторёному пути и что этот путь он обязан пройти до конца.
Несмотря на то что некоторые главы «Последнего года» печатались в «Вопросах литературы», «Новом мире», «Дружбе народов» и др., судьба отдельного издания оставалась гадательной. В «Советском писателе» рукопись перебрасывали из редакции в редакцию; направляли на дополнительное рецензирование; возвращали автору. В этих стратегических играх протекло несколько лет. И лишь после в высшей степени доброжелательных отзывов акад. Д. Лихачёва и историка Н. Эйдельмана дело сдвинулось с мёртвой точки.
Книга вышла в 1986 году. Написанная на исходе одной эпохи, она сподобилась вписаться в другую. Владимир Максимов в парижском «Континенте» расценил её как важный знак совершающихся в стране духовных перемен. Между тем, когда книга сочинялась, о переменах ещё не было и речи.
Автор писал «Последний год» свободной, как ему казалось, рукой, не заботясь о том, чтобы «понравиться» тому или иному литературному направлению, то есть – «не стараясь угодить». Он пытался также (насколько это возможно) не думать о цензуре, в то время ещё достаточно бодрой. Он полагал, что правда выгодна всем – какой бы она ни была.
Уже приходилось говорить, что биография – всегда версия: важно, чтобы она подтвердилась. За время, прошедшее после первого издания книги, не было опровергнуто ни одно из авторских предположений. Даже наиболее спорные гипотезы вызвали, как мы убедились, несогласия преимущественно эмоционального толка.
В послесловии ко второму изданию говорилось:
«Первоначально у автора было намерение по пунктам ответить своим оппонентам. Но, внимательно вчитавшись в собственный текст, он (автор) пришёл к заключению, что большинство этих ответов уже содержится в самой книге и дополнительные аргументы вряд ли убедят тех, кто не усмотрел смысла в уже явленных. Подобное открытие чрезвычайно утешило автора, ибо избавило его от полемических усилий – как показывает опыт, почти всегда бесполезных. Кроме того, по свойственному ему миролюбию автор не имеет ни малейшей охоты настаивать на своей правоте».
Отрадно, что многие впервые установленные автором факты вошли в литературный обиход (а если иметь в виду их попадание «на улицу» – даже в обиход окололитературный). Еще отраднее, что это можно отнести и к некоторым авторским соображениям.
В общем книга была принята благосклонно – как у нас, так и за рубежом.
Разумеется, при переиздании, можно было бы уделить более внимания религиозному сознанию Достоевского, характеру его христианства. Но, с другой стороны, эта тема получила достаточное освещение в литературе последних лет. Желательно также более подробно потолковать о взаимоотношениях творца «Братьев Карамазовых» с высшей государственной властью (в частности, с представителями царствующей династии): этому сюжету автор посвящает отдельную книгу[1483].
В нынешнем дополненном и уточнённом издании прояснены некоторые упущенные ранее моменты. Другие упущения, очевидно, исправит время.
Переделкино, август 2009 г.
Условные сокращения
НИОР РГБ – научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки им. В. И. Ленина, Москва
РО ИРЛИ – рукописный отдел Института русской литературы РАН (Пушкинский Дом), Санкт-Петербург
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства, Москва
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации, Москва
РГИА – Центральный государственный исторический архив, Санкт-Петербург
ОППС – Особое присутствие Правительствующего Сената, Москва