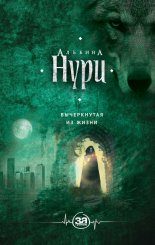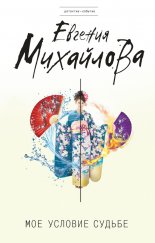Последний год Достоевского Волгин Игорь
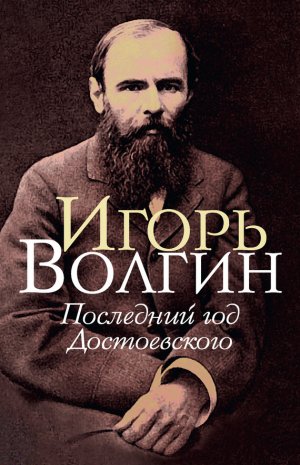
Заметим: таинственные корреспонденты княгини Юрьевской сообщают ей, что «под развевающимися знамёнами лиги» уже находятся пара великих князей, некоторые друзья Лорис-Меликова, а также один из членов подчинённой ему Верховной распорядительной комиссии[1010]. Следовательно, тасловцы вербуют своих клиентов среди людей высокопоставленных, обладающих известным влиянием. Но имя Достоевского весит, пожалуй, не меньше, чем великокняжеский титул.
Естественно возникает вопрос: действовал ли «раскаявшийся нигилист» по собственной инициативе, или же за его спиной скрывались те, кто предпочитал пока не обнаруживать своих имён?
«Мы, – заявлял один из учредителей, – торжественно поклялись, что никто и никогда не узнает наших имён… Мы основали лигу, род ассоциации, управляемой тайно и неизвестной даже полиции, которой, впрочем, и без того многое остается неизвестным». У них, учредителей, есть одно драгоценное преимущество: «Полиции бегут нигилисты, нас они не знают и принимают за своих собратьев».
Но если тайная антисоциалистическая лига – не плод искусной мистификации (ибо, как справедливо было замечено, от писем лигеров Юрьевской сильно «шибает враньём»), а существовала на самом деле (или, по крайней мере, предпринимались реальные попытки к её созданию)[1011], то визит «раскаявшегося нигилиста» к «одному из первых русских писателей» наводит на интересные соображения. Этот визит любопытен не только в политическом, но и в литературно-психологическом плане. Ведь в замыслы Достоевского входило написать роман именно о раскаявшемся нигилисте. Случайно или нет, выбор посланца для переговоров был сделан чрезвычайно удачно.
И тем не менее визитёр потерпел полное фиаско. У него не было (да и не могло быть) никаких шансов. Со своими идейными противниками Достоевский предпочитал говорить в открытую.
Но сделанное автору «Бесов» предложение примечательно не только своей изумительной безнравственностью. Оно прямо перекликается с той моральной дилеммой, которая обсуждалась Достоевским в его памятном (и – теперь это можно предположить – каким-то образом связанном с визитом «раскаявшегося нигилиста») разговоре с Сувориным (см. подглавку «Христос у магазина Дациаро» – с. 188–191).
«Раскаявшийся нигилист» предлагал действовать в соответствии с убеждениями. Но такой образ действий абсолютно неприемлем для его собеседника, ибо не только не совпадает с идеалом, с «чувством красоты», но является прямым оскорблением этого чувства.
«Добровольные полицианты» явно обратились не по адресу.
Между тем «замирение», столь трудно достигнутое, было вновь нарушено: завершился процесс 16-ти – и 4 ноября в Петропавловской крепости на эшафот взошли Квятковский и Пресняков.
«Теперь мы, кажется, с ним покончим»[1012], – сказал член Исполнительного комитета А. Д. Михайлов: через четыре месяца «Народная воля» ответит на эту казнь двумя бомбами на Екатерининском канале.
7 ноября Е. А. Штакеншнейдер записывает в дневнике: «Тяжёлое и нехорошее впечатление производит казнь даже на нелибералов. Не в нашем духе такие вещи…»[1013]
Наверное, именно в эти дни Достоевский делает уже приводившуюся выше запись о Квятковском и Преснякове, о возможности такого решения, которое бы исключало подобный акт государственной мести (см. главу «Вера Засулич и старец Зосима» – с. 56–74). В эти дни он, очевидно, ещё раз задумывается о будущей судьбе своего Алёши – героя того самого романа, который выйдет отдельным изданием всего через месяц после совершившейся казни.
На исходе года в столичных газетах появилось и затем стало повторяться объявление:
«9-го декабря вышел в свет отдельным изданием роман Ф. М. Достоевского “Братья Карамазовы”. Два тома 76 печатных листов. Цена 5 руб. Гг. иногородние, выписывающие от автора (СПб., Кузнечный пер., д. 5, книжная торговля для иногородних Ф. М. Достоевского), пользуются бесплатною пересылкою»[1014].
«Это было… – говорит Анна Григорьевна, – последнее радостное событие в его столь богатой всяческими невзгодами жизни»[1015].
Событие действительно было радостным. Однако за пятьдесят дней, ещё оставленных ему судьбой, автору романа так и не довелось познакомиться со сколько-нибудь серьёзным разбором его творения. В большинстве газетных откликов сквозило умеренное недовольство.
«Г. Достоевский… весьма и весьма крупный талант, – писала в общем расположенная к нему «Неделя», – между тем его “Братья Карамазовы” совсем не удались, хотя прекрасных частностей в них много. Это потому, что они сами, при всей их обширности, представляют лишь частность; что не захвачен в них внутренний смысл жизни, во всей его полноте и разносторонности; что они полны обличений и горьких укоров, русского же современного человека касаются лишь слегка»[1016].
«Русский современный человек» между тем жадно раскупал отдельное издание «совсем неудавшейся» книги.
«Расходится роман очень быстро, – пишет племянник, А. А. Достоевский, своему отцу в Ярославль, – уже продано на три тысячи рублей (в четыре дня); всё же издание в четыре тысячи экземпляров обошлось в четыре тысячи рублей, так что скоро книга будет продаваться в чистый барыш. Анна Григорьевна рассчитывает получить чистого барыша десять тысяч рублей, – конечно, если всё издание будет распродано…»[1017]
В последнем можно было не сомневаться.
Роман выходил без помощи издательских посредников (этот опыт – уже после смерти Достоевского – очень пригодится Анне Григорьевне в её неутомимой книгоиздательской деятельности). Предполагаемая выручка в десять тысяч – сумма почти сказочная (Штакеншнейдер замечает, что «для изображения большого капитала огромной цифрой всегда будет для него (Достоевского. – И.В.) шесть тысяч рублей»)[1018].
Он начинает рассылать экземпляры романа (вышедшего в двух томах с датой издания – 1881 год) друзьям и знакомым.
9 декабря Победоносцев письменно благодарит автора «Карамазовых» за «приятный подарок». Обер-прокурор Святейшего синода этим не ограничивается: он рекомендует «представить» роман наследнику престола, который, по его словам, «ожидал выхода целой книги, чтобы начать чтение, ибо не любит читать по кусочкам» (в таком случае следует признать, что будущий Александр III был одним из самых терпеливых русских читателей, так как печатание не только «Карамазовых», но, скажем, «Войны и мира» или «Анны Карениной» растягивалось на годы). Автор изъявил согласие, однако несколько замедлил с исполнением: не находилось приличествующего случаю переплёта. Тем временем Победоносцев проделал необходимую подготовительную работу, о чём и сообщал своему корреспонденту 15 декабря:
«Почтеннейший Фёдор Михайлович. Я предупредил письменно Великого Князя, что Вы завтра в исходе 12-го часа явитесь в Аничков Дворец, чтобы представиться Ему и Цесаревне. Извольте итти на верх и сказать адъютанту, чтобы об Вас доложили, и что Цесаревич предупреждён мною. А затем, когда выйдете от него, извольте спросить камердинера Цесаревны, чтобы Ей доложили об Вас. Дело это просто делается»[1019].
С одним из августейших супругов, а именно цесаревной, Достоевский уже знаком. Дочь его пишет, что её отец произвёл на жену наследника глубокое впечатление и «она так много говорила о нём своему мужу, что и цесаревич захотел познакомиться с отцом. Через посредничество Константина Победоносцева он передал ему приглашение посетить его». Таким образом, если верить Любови Фёдоровне, инициатива могла исходить и из самого Аничкова дворца.
У Достоевского не было причин уклоняться от этой встречи: он, как уже говорилось, рассчитывал «подтолкнуть» самодержавие в том направлении, какое представлялось ему единственно верным.
Он посещает Аничков дворец 16 декабря 1880 года.
Разумеется, первый визит к наследнику престола должен был носить сугубо протокольный характер. Но сам визитёр, по собственному его признанию, не имеющий «жеста», даже здесь ухитрился отступить от строгих требований придворного церемониала.
«Его и Её высочества, – повествует Любовь Фёдоровна, – приняли его вместе (нарушив тем самым «сценарий» Победоносцева. – И.В.) и были восхитительно любезны по отношению к моему отцу. Очень характерно, что Достоевский, который в этот период жизни был пылким монархистом, не хотел подчиняться этикету Двора и вёл себя во дворце, как он привык вести себя в салонах своих друзей (вспомним его «неуместный» рассказ о казни Млодецкого в доме великого князя Константина Константиновича. – И.В.). Он говорил первым, вставал, когда находил, что разговор длился достаточно долго, и, простившись с цесаревной и её супругом, покидал комнату так, как он это делал всегда, повернувшись спиной…»
Откуда дочери Достоевского известны все эти выразительные подробности? Вряд ли сам Достоевский мог так объективно, «со стороны» оценить собственное поведение (ему-то как раз могло казаться, что он ни в чём не отступал от правил придворной учтивости). Не исключено поэтому, что приводимая Любовью Фёдоровной информация частично исходит от Победоносцева, которому в свою очередь поведал свои впечатления будущий российский самодержец. «Наверное, – пишет Любовь Фёдоровна, – это был единственный раз в жизни Александра III, когда с ним обращались как с простым смертным. Он не обиделся на это и впоследствии говорил о моём отце с уважением и симпатией»[1020].
Задумывая эту встречу, Победоносцев, надо полагать, вряд ли рассчитывал на то, что она принесёт быстрые и ощутимые плоды. Ему важно было создать прецедент, ввести Достоевского на «предпоследнюю» ступень власти и тем самым как бы сделать его политическим заложником режима. Очевидно, предполагалось, что автор «Дневника писателя» в своей ближайшей деятельности теперь волей-неволей должен оглядываться на Аничков дворец.
Хотя, возможно, Достоевский и сам возлагал на этот визит определённые надежды, маловероятно, чтобы во время его представления высочайшей чете речь коснулась тех самых тем, которые неотступно занимают его в эти последние месяцы: казни Квятковского и Преснякова, всеобщего смятения умов и, наконец, его собственных исторических предположений.
Он не преследовал этим визитом никаких личных выгод. Ему, писателю, человеку, не состоящему на государственной службе, нечего было ждать от щедрот государства.
«Я ничего не ищу, и ничего не приму, и не мне хватать звезды за моё направление»[1021], – не в прямой ли связи с посещением Аничкова дворца появляются вдруг эти слова в его последней записной книжке?
Его собственное «направление» не совпадало с тем, за какое иные публицисты (например, Катков) действительно «хватали» чины и звёзды.
Он записывает в конце 1880 года: «Всё у него (русского общества. – И.В.) отнято, до самой законной инициативы. Все права русского человека – отрицательные. Дайте ему что положительного и увидите, что он будет тоже консервативен. Ведь было бы что охранять. Не консервативен он потому, что нечего охранять»[1022].
«Нечего охранять», – согласились бы с подобным утверждением «настоящие» охранители? Ведь они-то как раз и полагали, что защиты и социальной консервации заслуживает то, что есть; они сами были неотъемлемой частью охраняемого ими миропорядка. Достоевский ставит вопрос совсем по-иному: консерватизм в России не может иметь реальной силы потому, что он не основан на высших моральных ценностях. То здание, которое следует по-настоящему оберегать, ещё не воздвигнуто.
«Уничтожьте-ка формулу администрации! – пишет он в последней записной книжке. – Да ведь это измена европеизму, это отрицание того, что мы европейцы, это измена Петру Великому. О, на преобразования наша администрация согласится, но на второстепенные, на практические и проч. Но чтоб изменить совершенно характер и дух свой – нет, этого ни за что…»[1023]
Конечно, при желании можно истолковать эти и им подобные высказывания как подчёркнуто антизападнические. И обвинить их автора в сугубом неприятии любых форм европеизма. Такое толкование – может быть, соблазнительное для иных интерпретаторов – вряд ли, однако, будет соответствовать истине.
У Достоевского нигде и никогда мы не встретим отрицания высших достижений западной культуры. Его любовь, даже преклонение перед вершинными явлениями европейского духа – факт, не требующий доказательств. В готовности русского человека стать «братом всех людей» он усматривал великую надежду: возможность породнения России и Запада. Он верит в кровность соединяющих их духовных уз. «Русские европейцы» (выражение в устах Достоевского бранное) – это как раз псевдоевропейцы, люди, усвоившие лишь наружные формы европейской культуры и гордящиеся именно этими внешними знаками своего культурного превосходства.
Он обвиняет русский либерализм в поклонении западной цивилизации, но не культуре. Он не может согласиться с тем, чтобы видимость ставилась выше сути.
Он далеко не всегда прав в этих своих обвинениях. Русское западничество – серьёзное, позитивное и, что важнее всего, исторически неизбежное явление, находящееся на магистральной линии отечественного развития. Российский либерализм западнического толка обладает бесспорными и весьма ощутимыми культурно-историческими заслугами. Не только «энциклопедия Брокгауза и Ефрона», но и весь комплекс достижений русской науки и просвещения второй половины века были бы немыслимы при самозамыкании и самоизоляции.
Кроме того, политическая программа русского либерализма содержала такие моменты, которые в условиях безраздельного господства «непросвещённого абсолютизма» носили хотя и ограниченный, но объективно прогрессивный характер. Эволюция самодержавной монархии в сторону представительного правления с определёнными конституционными гарантиями – такой процесс, который, начнись он на самом деле, мог бы во многом изменить дальнейший ход судеб.
Трагедия российского либерализма состояла в том, что он полагался только на добрую волю власть имущих и исключал из своих политических расчётов потенциальные возможности «низов».
За это упрекали либералов русские революционеры. Но как ни парадоксально, именно за то же упрекает их и Достоевский (хотя он, разумеется, различает в народе совсем иную, нежели левые радикалы, историческую потенцию). Народ «не видит, что сохранять» – эти слова, очевидно, не вызвали бы возражений в стане русской революции. «Уничтожьте-ка формулу администрации» – именно всю «формулу», а не те или иные её части. Такое уничтожение (равносильное на деле полному слому существующей государственной машины) составляло даже не ближайшую, а отдалённейшую цель отечественных социалистов.
Его миросозерцание противостоит «классическому» славянофильству не в меньшей мере, чем «классическому» западничеству.
Русский либерализм западнического толка не имел шансов выжить в стране таких непримиримых полярностей. С одной стороны, он подвергался тотальной критике за свою половинчатость и непоследовательность, за недостаточный политический радикализм, а с другой – язвительному осмеянию за преувеличенный интерес именно к политической стороне дела, за игнорирование максималистских (столь трудно осуществимых на практике) нравственных целей. В России либеральная идея была обречена: она пала под этими двойными ударами.
Какую же альтернативу предлагает сам Достоевский? На этот вопрос невозможно ответить однозначно. Ибо, жадно интересующийся политикой, он мыслит категориями вовсе не политическими. Его «программа» не вписывается ни в одну из существующих идеологических моделей.
Он знает одно: человеческое (истинно человеческое) и общественное, сверхличное в своей сокровенной сути должны совпадать.
Но – исполнимо ли это?
В дневнике Е. А. Штакеншнейдер можно найти отголоски одного спора, разгоревшегося в её гостиной 14 октября 1880 года.
«Сознать своё существование, мочь сказать: я есмь! – великий дар, – говорил Достоевский, – а сказать: меня нет, – уничтожиться для других, иметь и эту власть, пожалуй, ещё выше».
Тут Аверкиев, – продолжает автор дневника, – которого с некоторых пр точно укусила какая-то враждебная Достоевскому муха, сорвался с места и говорит: «Это, конечно, великий дар, но его нет и не было ни у кого, кроме одного, но тот был Бог».
Достоевский стал ему возражать – что, впрочем, и неудивительно. Ибо то, что для Аверкиева есть своего рода «евангельский экстремизм», способность, превосходящая реальные человеческие возможности, для него, Достоевского, – захватывающее дух «пророчество и указание». И в его романах, и в «Дневнике писателя» всегда брезжит эта надежда. Для него новозаветная «теория» и возможная человеческая практика не отделены друг от друга непроницаемой стеной.
При бесконечной снисходительности к человеческим слабостям он предъявляет очень высокие требования самому человеку.
Итак, Достоевский стал возражать Аверкиеву, но тот «никого не слушал» и «продолжал хрипеть своё, что кроме Христа никто не уничтожается для других. А он сделал это без боли, потому что был Бог»[1024].
Надо полагать, последнее замечание, восходящее к древней экзегетической традиции, к монофизитству, к теологическим прениям Отцов Церкви, также не было оставлено Достоевским без возражений. Сын человеческий, страшащийся крестной муки (вспомним «моление о чаше»), настоящий смертник, а не божественный лицедей, «понарошку» забавляющийся со своими мучителями и недоступный никакой земной боли, существо страдающее и страждущее – только такой Христос мог быть понятен и близок автору Легенды о великом инквизиторе.
Интересные разговоры случались по вторникам у Штакеншнейдеров.
Он старался не пропускать их приёмные дни, и дневник Елены Андреевны сохранил следы этих посещений (никто более не оставил таких подробных заметок о его последних месяцах).
«Иногда сидит он понурый и злится, злится на какой-нибудь пустяк. И так бы и оборвал человека, да предлога или случая не находит, а главное, не решается, потому что… гостиные ему импонируют и он ещё чувствует в них себя не совсем удобно. Сидит он тогда, и точно подбирается, обдумывает, как бы напасть, или борется сам с собой. Голова его опускается, глаза ещё больше уходят вглубь, и нижняя губа не то отвисает, не то просто отделяется от верхней и кривится. Он сам тогда не заговаривает, а отвечает отрывисто. И удастся ему в такое время в свой ответ или замечание впустить хоть каплю ехидства, то моментально, точно чары снимутся с него, он улыбнётся и заговорит, всё, значит, прошло; иначе целый вечер может он так хохлиться, с тем и уйдёт»[1025].
Казалось бы, после своего московского триумфа, после зримого успеха «Карамазовых», окружённый всеобщим вниманием, почти поклонением, он должен хотя бы немного изменить своё обычное поведение: в нём могла бы появиться если не величавость, то уж, во всяком случае, некоторая значительность. Этого не происходит: горячо претендующий на участие в домашнем спектакле у Штакеншнейдеров, он совершенно не в состоянии сыграть собственную, положенную ему по «сценарию» роль.
Однажды он явился на очередной вторник: «что-то покоробило его, едва он вошёл, и он тотчас же съёжился и насупился». Он одиноко сидел на стуле «и, съёженный, казался особенно жалким». Хозяйка дома шепнула, чтобы ему подали кресло, и один из гостей немедленно исполнил её желание. «Достоевский хоть бы кивнул ему, хоть бы глазом моргнул, и не пересел, конечно, а только сделал движение поставить на мягкое бархатное кресло стакан с чаем. “Это, – спрашивает, – для стаканов?” – “Нет, – говорю, – не для стаканов, а для вас поставил Иван Николаевич”. Удовольствовавшись столь малым на этот раз, он тем не менее тотчас словно очнулся, с улыбкой поблагодарил… и начал говорить про новую книгу Н. Я. Данилевского…»
Наблюдательная Елена Андреевна «с удовольствием» отмечает в его поведении некие новые черты. «…С некоторого времени, – говорит она, – с прошлого года уже, кажется, Достоевский заметно изменился к лучшему. Уж он теперь очень, очень редко набрасывается на кого-нибудь, не сидит насупившись и не шепчется с соседом, как бывало»[1026].
Нет, в нём не появилось ничего связанного с бременем славы. Рост популярности привёл к результатам, прямо противоположным тем, которые обычно этому процессу сопутствуют: дистанция между ним и окружающими не только не возросла, а как бы уменьшилась. Он стал мягче, теплее, отзывчивее; он стал более терпимым. И, думается, не столько под влиянием изменившихся внешних условий (хотя они и позволяют ему теперь порою расслабиться), сколько в результате той громадной внутренней работы («самоодоления»), которая непрерывно совершалась в нём, – вплоть до его последнего дня.
«Кто его знает, – замечает Штакеншнейдер, – он ведь очень добрый, истинно добрый, несмотря на всё своё ехидство, может дать волю дурному расположению духа своего, он и раскаивается потом и хочет наверстать любезностью»[1027]. Его «самоодоление» не есть борьба с главным в себе, а наоборот, приведение своего «жеста» в соответствие с этим главным: отбрасывается, преодолевается всё наносное, преходящее, мелочное – всё неструктурное.
Когда Штакеншнейдер говорит о его доброте, она имеет в виду вполне конкретные вещи.
Она рассказывает: к ним на огонёк зашла как-то Анна Григорьевна – излить душу. Гостья жаловалась на жизнь: она ночи не спит, придумывая средства, как свести концы с концами, отказывает себе во всём – даже не ездит никогда на извозчиках. А что делает её муж? Он не только содержит брата и пасынка («который не стоит того, чтобы его пускали к отчиму в дом»), он ещё ухитряется сунуть первому встречному – «что тот у него ни попросит».
«…Придёт с улицы молодой человек, – сокрушалась Анна Григорьевна, – назовётся бедным студентом, – ему три рубля. Другой является: был сослан, теперь возвращён Лорис-Меликовым, но жить нечем, надо двенадцать рублей – двенадцать рублей даются. Придёт старая нянька: “Ты, Анна Григорьевна, – говорит он, – дай ей три рубля, дети пусть дадут по два, а я дам пять”. И это повторяется беспрестанно. Когда же Анна Григорьевна пробует возмущаться и протестовать, ответ следует неизменный: “Анна Григорьевна, не хлопочи! Анна Григорьевна, не беспокойся, не тревожь себя, деньги будут!..” “Будут, будут!” – повторяла бедная жена удивительного человека и искала в своей модной юбке кармана, чтоб вынуть платок и утереть выступившие слёзы…»[1028]
Доброта, бескорыстие, отзывчивость на чужое горе, немедленная готовность материально поддержать человека, попавшего в беду, – всё это глубоко органические, структурные черты его личности. И ему не надо прилагать ни малейших усилий, чтобы эта сторона его натуры явилась во всей своей полноте. Да, у него нет «жеста», но этот жест, естественно совпадающий с его внутренним душевным движением, у него есть. Есть потребность отдачи – и Анне Григорьевне стоит немалых усилий, чтобы хоть как-то умерить всегдашний его порыв, ставящий под удар и без того довольно шаткое благополучие их семейства.
Не так трудно быть добрым, обладая избытком или, по крайней мере, прочным достатком. Достоевский почти всегда отрывает от последнего. При этом он не спешит известить окружающих о таковых своих поступках. «Никто ведь не знает его милосердия, – замечает Штакеншнейдер, – и не пожалуйся Анна Григорьевна, и мы бы не знали».
Упомянув о пяти тысячах, следуемых её мужу из «Русского вестника», Анна Григорьевна добавила, что она купит на эти деньги землю. «Пусть ломает её по кускам и раздаёт!»
Последняя фраза – о земле – вновь заставляет вспомнить автора «Анны Карениной».
Да, следует вновь вспомнить Толстого, ибо это его проблема – неотступная и мучительная, отравлявшая его последние годы. Он, не желающий более оставаться владельцем земельной собственности, передаёт все свои имущественные права Софье Андреевне, которая в свою очередь бдительно охраняет эту собственность от всяческих на неё посягновений. Хозяин Ясной Поляны как бы самоустранился; он лишил себя возможности «ломать по кускам» землю, теперь уже ему не принадлежащую.
Автор «Воскресения», отдавший весь гонорар за этот роман на переезд в Канаду преследуемых правительством духоборов, почти никогда не откликается на частные просьбы о материальной помощи: основной мотив тот, что все средства находятся в руках жены. Если Достоевский, по словам Анны Григорьевны, «как войдёт в вокзал, так, кажется, до самого конца путешествия всё держит в руках раскрытое портмоне, так его и не прячет, и всё смотрит, кому бы из него дать что-нибудь»[1029]; если он не идёт на прогулку, не взяв с собой хотя бы десять рублей, то Толстой тщательно ограждён от подобных соблазнов: почти никогда не имея (в последние годы) собственных карманных денег, он вынужден либо отказывать бесчисленным «тёмным» (как полупрезрительно именовала их Софья Андреевна) посетителям Ясной Поляны, либо обращаться за мелкими суммами к своим близким.
Правда, в одном просители никогда не знают отказа: Толстой щедро снабжает их своими нравоучительными брошюрами.
Весьма нерасположенный к Толстому К. Леонтьев писал В. Розанову: «У меня самого и у многих других были с ним (Толстым. – И.В.) сношения по делам самого неотложного благотворения, и я, и все другие вынесли из его наглых (оставим эпитет на совести Леонтьева. – И.В.) бесед по этому поводу самые печальные впечатления. “Человек вторую неделю с семьёй корками питается”, – говорю я ему – “Наше назначение не кухмистерское какое-то”, – отвечает он (при Влад. Соловьёве); дело шло о чтении в пользу этой несчастной семьи»[1030].
Конечно, К. Леонтьев глубоко несправедлив к Толстому: стоит вспомнить самоотверженную подвижническую работу писателя во время голода. Именно «кухмистерская» деятельность представлялась тогда Толстому наиглавнейшей. С другой стороны, действительно ничего не известно об участии автора «Войны и мира» в благотворительных вечерах, то есть в том, от чего Достоевский отказывался лишь в исключительных случаях.
Конец 1880 года изобиловал подобными проявлениями общественной самодеятельности: приглашения следовали одно за другим.
Впервые после московской речи он вновь явился перед публикой 19 октября – в годовщину основания Царскосельского лицея (утренник устраивался Литературным фондом). Чтения, приуроченные к подобной дате, неизбежно должны были вызвать ассоциации с недавними московскими торжествами. Тем более что исполнялись исключительно произведения Пушкина. И даже некоторые внешние детали усиливали сходство.
«В обширной и безукоризненной в акустическом отношении зале нового дома Петербургского городского кредитного общества, – писало «Новое время», – собрались представители интеллигентного общества столицы. На кафедру, установленную впереди большого пушкинского бюста, увенчанного лавровым венком и декорированного зеленью, поочередно всходили известные литераторы…»[1031]
Всех: и писателей – Д. В. Григоровича, П. И. Вейнберга, А. А. Голенищева-Кутузова, и артистов – М. Г. Савину и И. Ф. Горбунова – встречали дружными аплодисментами. «Но всего сочувственнее, – свидетельствует «Берег», – публикою был принят Ф. М. Достоевский. Не знаем, был ли это отклик московского торжества или вполне независимо от московской речи наша публика хотела выразить свои симпатии автору “Преступления и наказания”, “Бесов” и “Братьев Карамазовых”, но всякое появление маститого романиста-психолога нашего вызывало буквально гром рукоплесканий. Публика даже злоупотребляла своим правом вызывать лектора»[1032].
«Публика, – присоединяется к наблюдениям «Берега» «Петербургская газета», – вероятно, выражала… благодарность за речь, сказанную в Москве». Далее следовал неожиданный вопрос: «Но за что вызывали его после окончания чтения?»
Он прочитал сцену из «Скупого рыцаря», и, как выразилась та же «Петербургская газета», прочёл «замечательно неудачно. Кажется, и он сам и публика забыли, что речь идёт о “скупом рыцаре”, а не о каком-то скупердяе-лавочнике, которого представил нам почтенный чтец»[1033].
Можно было бы усомниться в справедливости высказанной газетным репортёром оценки, если бы она не находила поддержки в одних позднейших воспоминаниях.
Их автор, актёр В. Н. Давыдов (кстати, приглашённый на вечер Савиной – «послушать Достоевского»), утверждает, что монолог из «Скупого рыцаря» исполнитель «читал невероятно плохо, но публика бесновалась, видя своего любимого писателя»[1034].
Итак, два независимых очевидца согласны в том, что эта пушкинская сцена не удалась Достоевскому. И мы вполне доверились бы такому совпадению, если бы не обнаружились источники, содержащие оценку, прямо противоположную только что приведённым.
В. Микулич вспоминает: зимой 1880 года Достоевский читал монолог старого барона в гостиной Штакеншнейдеров.
«…Среди наступившей почтительной тишины он начал своим глухим, но внятным голосом:
Как молодой повеса ждёт свиданья…
Он превосходно прочёл этот монолог. Не думаю, чтоб можно было прочесть его лучше. Я, по крайней мере, в жизни не слышала лучшего чтения. А когда в конце 3-й сцены он начал шептать, задыхаясь:
- Ноги мои слабеют…
- Душно!.. Душно!..
Мы испугались, думая, что у него начинается припадок. Но всё кончилось благополучно. Он выпил стакан воды и поклонился публике при громе восторженных рукоплесканий»[1035].
Полагаем, что и 19 октября Достоевский – вопреки двукратно высказанному мнению – прочёл этот монолог не столь уж дурно. В этом подозрении укрепляет нас корреспонденция, помещённая в газете «Голос». «Ф. М. Достоевский, – отмечает репортёр, – разбитым старческим голосом, как нельзя лучше соответствовавшим содержанию пьесы, прочёл “сцену в подвале”…»[1036]
Современники редко сходятся в эстетических пристрастиях: почему-то трудно (почти невозможно) адекватно оценить то, что создаётся (или совершается) на наших глазах. Как не сходятся, впрочем, и во многом другом…
Если «Новое время» хвалило, например, «безукоризненные акустические условия залы Кредитного общества», то отсюда не следует, что это мнение разделялось всеми. В тот же день, 19 октября, Штакеншнейдер записывает в дневнике, что литературное утро проходило в помещении, «где чтецов не во всех концах слышно, а Достоевский, больной, с больным горлом и эмфиземой, опять был слышен лучше всех. Что за чудеса! – продолжает Елена Андреевна. – Еле душа в теле, худенький, со впалой грудью и шёпотным голосом, он, едва начнёт читать, точно вырастает и здоровеет. Откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Он кашляет постоянно и не раз говорил мне, что это эмфизема его мучает и сведёт когда-нибудь, неожиданно и быстро, в могилу. Господи упаси!»[1037]
Он называет Елене Андреевне ту самую болезнь, которая действительно сведёт его вскоре в могилу – «неожиданно и быстро».
На том утреннике 19 октября он прочитал ещё одно стихотворение – «Как весенней тёплой порой» («и тоже плохо», – замечает актёр В. Н. Давыдов) – оно значилось в программе. И уже сверх программы, уступая настойчивым требованиям публики («стоя и с неподражаемым пафосом»), – своего любимого «Пророка». Заключительную строфу, по свидетельству газетного хроникёра, он «произнёс со слезами в голосе, чем и произвёл немалый эффект»[1038].
«При первых же строфах, – пишет воспоминатель, которому столь не понравился «Скупой рыцарь», – Достоевский весь изменился. Его нельзя было узнать! Сгорбленный, разбитый, сутоловатый, он мгновенно превратился в могучего, стального». Последнюю строфу он произнёс «с необыкновенною силою, равною приказанию, со слезами в горле. Публика застонала от восхищения, а Достоевский побледнел, и казалось, что сейчас упадёт в глубокий обморок»[1039].
Из всего «не своего», что читал он со сцены, наибольшее впечатление неизменно производило это пушкинское стихотворение. Тут был момент конгениальности – прозрения и тайновидения; интимнейшее схождение замысла и интерпретации. И в результате – разряд, вспышка, ожог.
Поэт Иннокентий Анненский (ему было тогда 25 лет) видел его в эту последнюю осень. Он вспоминает: Достоевский «поспешно» выходил на сцену; «останавливался у самого края, шага этак за три от входа, – как сейчас вижу его мешковатый сюртук, сутулую фигуру и скуластое лицо с редкой и светлой бородой и глубокими глазницами, – и голосом, которому самая осиплость придавала нутряной и зловещий оттенок, читал, немного торопясь и как бы про себя, знаменитую оду».
«Читал как бы про себя», – говорит Анненский, разумея, конечно, манеру исполнения. Но, может быть, потому так читал, что полагал: действительно – про себя.
«…В заключительном стихе, – продолжает Анненский, —
Глаголом жги сердца людей —
Достоевский не забирал вверх, как делают иные чтецы, а даже как-то опадал, так что у него получался не приказ (как воспринимал эту строчку, например, Давыдов. – И.В.), а скорее, предсказание, и притом невесёлое»[1040].
В свои последние месяцы он читает «Пророка» особенно часто: очевидно, не только потому, что это чтение неизменно вызывает восторг аудитории, но и в силу какой-то глубокой внутренней потребности. Осенью 1880 года историческое ожидание достигает своей высшей точки – и образ пророка, взыскующего и страждущего, этот достаточно хрестоматийный образ, вдруг обретает грозный конкретный смысл.
…На перепутье мне явился…
Россия стояла на перепутье.
Пушкин исходил из известного библейского сюжета. Он говорит о пророческом даре, о миссии пророка. Но не упоминает о том, какую мученическую кончину должен претерпеть богоизбранный вестник: по велению царя Манассеи Исайя был распилен деревянной пилой.
Пророческое служение всегда оканчивается трагически[1041].
За несколько дней до 19 октября Достоевский читал «Пророка» в гостиной Штакеншнейдеров – и «заэлектризовал или замагнетизировал всё общество». Он сделал это, говорит хозяйка дома, «без всяких вспомогательных средств, вроде шёпота, и выкрикиваний, и вращения глаз, и прочего, слабым своим голосом… все, самые равнодушные, пришли в какое-то восторженное состояние».
Однако и среди гостей Штакеншнейдеров нашлись тонкие эстетики, осудившие подобную манеру исполнения. После отъезда Достоевского всё тот же Аверкиев «с таким жаром и азартом» стал кричать про «Пророка», будто его следует понимать совсем не так, как Достоевский, что один из гостей спросил горячившегося драматурга: «Да что ты, в самом деле, знаком, что ли, был с Исайей?»[1042]
Между тем вопрос о том, как понимать «Пророка», носил характер не только академический: он заключал острый и злободневный исторический интерес.
«А мы-то, – пишет Иннокентий Анненский, – тогда, в двадцать лет, представляли себе пророков чуть что не социалистами. Пророки выходили у нас готовенькими прямо из лаборатории, чтобы немедленно же приступить к самому настоящему делу, – так что этот новый, осуждённый жечь сердца людей и при этом твёрдо знающий, что уголь в сердце прежде всего мучительная вещь, – признаюсь, немало-таки нас смущал».
Выходит, что пророк Достоевского – это антипророк (по отношению к традиционному, усвоенному интеллигентским сознанием образу), «не только не деятель, – говорит Анненский, – но самое яркое отрицание деятельности».
Такая не лишённая остроумия трактовка имеет, как думается, большее касательство к миронастроению начала века, когда И. Анненский писал свои воспоминания. Ведь у Достоевского «указующий перст, страстно поднятый» – это именно перст указующий, а не бесцельно устремлённый в мировое пространство. Это призыв, рассчитанный на отзвук, ответ, встречное движение.
Недаром Анненский признаётся, что такого бездеятельного пророка трудно было примирить «с образом писателя, который за 30 лет перед тем сам пострадал за интерес к фаланстере. Получалась какая-то двойственность»[1043].
Что ж, может быть, двойственность действительно имела место. В пророке Достоевского брезжило несколько различных, не исключено – даже противоборствующих, смыслов. Эти множественность, неоднозначность, неисчерпаемость (характерные для его собственного искусства) открывали простор столь же неоднозначным толкованиям.
Вечер, состоявшийся 19 октября, был повторён 26-го – в той же зале Кредитного общества. Его снова просили прочитать «Пророка» – и он читал дважды, на бис. Восторженные слушатели провожали его до подъезда. «На этот раз энтузиазм был колоссальный, – пишет Анна Григорьевна, – и Фёдор Михайлович был глубоко тронут таким могучим проявлением восторга нашей довольно холодной публики»[1044].
Петербург с некоторым опозданием пытался догнать Москву.
Между тем именно в эти осенние дни создаётся «Эпилог» «Братьев Карамазовых» (одновременно читаются и правятся корректуры отдельного издания). И автору волей-неволей приходится ограждать это главное своё дело от непомерных притязаний эстрады.
2 ноября он пишет Вейнбергу, что на прошлой неделе отказался читать на пяти вечерах. Поэтому никак не может согласиться участвовать в очередном чтении – на Бестужевских курсах. Иначе что скажут про него все остальные? «Ведь относительно их моё согласие читать для женских курсов… будет подлостью…» Если принять все приглашения, то в ноябре он был бы обязан явиться перед петербургскою публикой восемь раз. «Согласитесь, что это невозможно: скажут – это самолюбие, уверенное в себе чересчур уж слишком… Прибавлю ещё, что я, в настоящую минуту, не завален, а задавлен работой»[1045].
И всё-таки два раза в ноябре выступить ему пришлось: 21-го и 30-го. 21-го – снова в пользу Литературного фонда.
«Интерес этого чтения, – замечает «Новое время», – увеличивается ещё и тем обстоятельством, что г. Достоевский ещё никогда не читал Гоголя…»[1046]
Прошлое возвращалось. В эти последние недели его жизни смыкались начала и концы.
…В 1845 году, майским вечером, робея и дичась, он снёс Некрасову свою первую повесть «Бедные люди». Не в силах идти домой, отправился он затем к одному своему старому приятелю. «…Мы всю ночь проговорили с ним о “Мёртвых душах” и читали их, в который раз – не помню. Тогда это бывало между молодёжью; сойдутся двое или трое: “А не почитать ли нам, господа, Гоголя!”, садятся и читают, и, пожалуй, всю ночь»[1047].
Теперь, в 1880 году, он читал Гоголя уже не в тесном дружеском кругу, а перед сотнями заполнивших зал слушателей. Как уже говорилось, он не любил исполнять с эстрады чужую прозу – для Гоголя делалось исключение.
Это было прощание.
Один из современников говорит так:
«На эстраду вышел небольшой сухонький мужичок, мужичок захудалый, из захудалой белорусской деревушки. Мужичок зачем-то был наряжен в длинный черный сюртук. Сильно поредевшие, но не поседевшие волосы аккуратно причёсаны над высоким выпуклым лбом. Жиденькая бородка, жиденькие усы, сухое угловатое лицо».
Он прочитал сцену между Собакевичем и Чичиковым – и прочитал, как свидетельствует тот же мемуарист, «чрезвычайно просто, по-писательски или по-читательски, но, во всяком случае, совсем не по-актёрски. Думаю, однако, – продолжает воспоминатель, – что ни один актёр не сумел бы так ярко оттенить внешнюю противоположность вкрадчиво-настойчивого Чичикова и непоколебимо-устойчивого Собакевича…»[1048]
Спустя несколько недель на святках (за два дня до нового, 1881 года) он разговорится с В. Микулич. «Я сказала, – вспоминает его собеседница, – что жалею о том, что Гоголь не дожил до этого романа (до “Карамазовых”). Он порадовался бы тому, как хорошо Достоевский продолжает его, Гоголя… Кажется, это не очень понравилось Фёдору Михайловичу, и он сказал: “Вот вы как думаете?”»
Да, конечно: все мы вышли из гоголевской «Шинели». Но теперь-то, на исходе дней, после всего, что было им написано, он мог бы надеяться, что его не будут сопрягать с Гоголем столь непосредственным образом. Впрочем, подобное простодушие извинялось литературной неискушённостью его юной собеседницы…
В эти последние дни он всё чаще задумывается над тем, что оставит он после себя, или, выражаясь более торжественно, – какое место займёт в истории отечественной словесности.
В разговоре своём с Микулич он ни словом не упомянул Тургенева. Но – не забыл о Льве Толстом: «Да, Толстой это – сила. И талант удивительный. Он не всё ещё сказал…»[1049]
Месяца за полтора до этого разговора Штакеншнейдер занесла в дневник: «С гордостью и радостью, которые меня даже и удивили и порадовали в то же время, рассказал он мне, что получил от Страхова в подарок письмо Л. Н. Толстого, в котором он пишет Страхову в самых восторженных выражениях о «Записках о Мёртвом доме» и называет это произведение единственным, и ставит его даже выше пушкинских»[1050].
О реакции Достоевского на это письмо подробно докладывал Толстому сам Страхов: «Немножко его задело Ваше непочтение к Пушкину, которое тут же выражено (“лучше всей нашей литературы, включая Пушкина”). “Как – включая?” – спросил он»[1051].
Толстой соотнёс его имя с именем любимого им поэта – и как бы ни было приятно ему это обстоятельство, его поражает (почти пугает!) то, что автор «Войны и мира» дерзнул поставить «Записки из Мёртвого дома» выше произведений боготворимого им Пушкина. (Страхов, правда, тут же поспешил его успокоить, заметив, что Толстой и прежде был, а теперь особенно стал большим вольнодумцем.)
Всегда склонный скорее преуменьшать свои писательские заслуги, умалять своё значение именно как художника, он окидывает теперь взором всё пространство русской классики и пытается осознать – не для соблюдения «табели о рангах», а для себя самого, – что же он такое как писатель, реализовал ли он своё предназначение в этом мире, свой данный ему от Бога талант? И будет ли дорог будущим своим читателям, если таковые обнаружатся?
Пожалуй, он задумывается и над вопросом, который позднее сформулируют так: «Достоевский и мировая литература» (не забудем, что в это время – в отличие от Тургенева и Толстого – Запад с ним практически не знаком).
В. Микулич в упомянутом разговоре осмелилась задать своему собеседнику довольно рискованный вопрос: «Ну, а кого вы ставите выше: Бальзака или себя?»
«Достоевский, – говорит она, – не усмехнулся моей младенческой простоте и, подумав с секунду, сказал: “Каждый из нас дорог только в той мере, в какой он принёс в литературу что-нибудь своё, что-нибудь оригинальное. В этом – всё. А сравнивать нас я не могу. Думаю, что у каждого есть свои заслуги”»[1052].
Это не дипломатический уход от прямого ответа. Ответ вполне искренен: подобная мысль высказывалась им неоднократно. Он ценит в писателе не только верность действительности, психологический или изобразительный дар, не только литературное мастерство как таковое. Он ставит выше всего новое слово: «В этом – всё».
Не следует, однако, думать, что в тот святочный вечер 1880 года (ему оставалось жить ровно месяц) он беседовал с юной Микулич исключительно об изящной словесности. Нет, их личное знакомство, начавшееся тогда и, увы, тогда же оборвавшееся (ибо больше они уже не встретятся), их знакомство состоялось на почве не вполне литературной.
В. Микулич, регулярно посещавшая Штакеншнейдеров, часто встречала у них Достоевского, но так и не осмеливалась к нему подойти (хотя Елена Андреевна и говорила своему гостю об её первых литературных опытах). Она не осмеливалась к нему подойти, несмотря на то, что все прочие гости интересовали её в несравненно меньшей степени. До тех пор пока Достоевский не появлялся в гостиной, Микулич предпочитала обществу взрослых возню с маленьким Алёшей, племянником Елены Андреевны.
«Алёша, – вспоминает Микулич, – знал о моём пристрастии к Достоевскому и от времени до времени убегал к дверям гостиной и, спрятавшись за красной портьерой, высматривал гостей. Потом он возвращался ко мне и говорил: “Нет его; нет-с, извольте здесь оставаться”, или кричал: “Пришёл, пришёл, пришёл!..” Тогда Микулич тоже появлялась среди гостей “и, усевшись где-нибудь в уголочке, неподалёку от Достоевского, целый вечер смотрела на него и слушала его”»[1053].
…Этот декабрьский вечер проходил как обычно: что-то читали вслух, потом пили чай, разговаривали. Темы, очевидно, были не особенно захватывающие, ибо Достоевский с Еленой Андреевной, устроившись «на угольном диванчике», мирно играли в дурачки. Девицы (среди которых была и Микулич) чинно сидели в другом уголке, где некий господин, сведущий в хиромантии, занимался изучением их девичьих ладоней.
«Елена Андреевна издали поманила и позвала меня к себе: “Пойдите к нам. Фёдор Михайлович хочет вам погадать”. Я покраснела и поблагодарила, говоря, что мне не о чём гадать. “Я знаю, что через месяц я выйду замуж”».
Елена Андреевна, улыбаясь, заметила, что Достоевский может погадать Микулич об её будущей литературной судьбе. При этом она упомянула об эпизоде, на котором мы уже останавливались выше, – как родители одного юного поэта остались недовольны рекомендацией, данной Достоевским их сыну: чтобы хорошо писать, надо страдать.
«– Да, остались совсем недовольны, – подтвердил Достоевский, не переставая тасовать колоду. – Что ж, погадать вам?
– Нет, зачем, – сказала я. – Уж лучше я пострадаю.
Достоевский улыбнулся и переглянулся с Еленой Андреевной».
Он улыбнулся, говорит Микулич.
Представить Достоевского смеющимся, в отличие, например, от Пушкина, затруднительно – настолько однозначны все его внешние изображения. Ни на одной из его фотографий (не говоря уже о портрете Перова) нет и подобия улыбки. В нашем сознании прочно закрепился образ неулыбчивого, неизменно серьёзного, почти мрачного человека.
И всё же это не так. Он был не только тончайшим ироником в своих романах и в «Дневнике писателя», он прекрасно понимал и ценил шутку в жизни обыкновенной.
На одном из вечеров у Штакеншнейдеров две девушки тщетно просили его прочитать что-нибудь из его произведений. Убедившись в безуспешности их попыток, хозяйка дома заметила ему: «Что же, Фёдор Михайлович, тронетесь вы их просьбами? Взгляните:
- Пред испанкой благородной
- Двое рыцарей стоят…
Достоевский взглянул на смущённых девушек, усмехнулся и сказал: “Хороша испанка! Нечего сказать!”»[1054]
Дмитрий Карамазов замечает о глубоко презираемом им Ракитине («Семинаристе»): «Шуток тоже не понимают – вот что в них главное. Никогда не поймут шутки».
Отсутствие чувства юмора квалифицируется не только как черта сугубо индивидуальная, личностная: это ещё и знак, указующий на некую общую ущербность, некую мировую неполноценность. Мир, лишённый смеха, не есть целостный мир; он плоскостен и одномерен. Подлинно серьёзное не должно быть «слишком» серьёзным: в противном случае оно – неистинно.
Комизм бытия воспринимается Достоевским не менее остро, чем его трагизм.
«Бывали минуты, но очень редкие, – вспоминает В. П. Мещерский, – когда на Фёдора Михайловича находило особенно весёлое настроение духа. Тогда нечто, какая-то… складка на его лице придавала его умной физиономии что-то вопросительное, что-то менее сосредоточенное, что-то, если можно так выразиться, среднее между игривым и шаловливым. Обыкновенно тогда он бывал остроумен и любил увлекаться комическими и самыми невероятно фантастическими образами и загадками из сферы, однако, действительной жизни»[1055].
Он бывает в ударе не только тогда, когда говорит о вещах серьёзных, кровно его занимающих; он открыт для шутки, судя по всему, даже в тех случаях, когда речь идёт и о «заветных» его убеждениях. Настроение, выражаясь слогом князя Мещерского, «среднее между игривым и шаловливым» – это настроение способствует «игре ума», проявлению его бурной, но всегда целенаправленной («из сферы действительной жизни») фантазии.
Микулич, описывая любительский спектакль у Штакеншнейдеров (тот самый, на котором Достоевский в восторге кричал «Браво, Страхов! вызывать Страхова!»), продолжает: «Потом Дон-Жуан заколол Дон-Карлоса… Достоевский совсем развеселился. Когда на сцене выходило что-нибудь неловкое или когда плохо декламировали, он смеялся, как ребёнок, чуть не до слёз»[1056].
Справедливо замечено, что сущность человека нередко проявляется в том, как он смеётся. Автор «Преступления и наказания» смеётся откровенно, открыто, от души – «как ребёнок».
У него в жизни случалось не так уж много поводов для смеха.
Он улыбнулся, говорит Микулич: в ответ на выраженную ею готовность «пострадать». Он улыбнулся, хотя речь шла о предмете весьма для него серьёзном: готовность к страданию и само страдание играют в его «системе» исключительную роль.
Нет, мы вовсе не собираемся повторять известные («мировые») банальности о «русском де Саде», о садомазохистских началах его художественного метода. Эти увлекательные сюжеты вызывают в последнее время не столь большой интерес. Между тем совет «пострадать» даётся автором «Записок из Мёртвого дома» вовсе не ради красного словца.
Страдание для Достоевского – момент не только очищающий (катарсический), но – созидательный, момент, без которого мир утрачивает свою естественную целокупность и глубину.
Счастье покупается страданием: это цена. Да и сам человек может ощутить свою полноту, только пройдя через страдание. Страдание созидательно именно потому, что оно делает из человека – личность, сближает его со всем остальным страждущим миром. «Самовыработка», «самоодоление», иными словами – самовоспитание – немыслимы без тяжёлой духовной борьбы.
Страдание духовно по своей природе. Как справедливо замечено, не существует абсолютного противоборства между духом и плотью: это в конечном счёте схватка между духом и духом.
В своих воспоминаниях Д. И. Стахеев приводит следующий эпизод.
Однажды Достоевский зашёл к автору воспоминаний (последний, как помним, жил в одной квартире со Страховым), когда у них сидел Владимир Соловьёв. «Фёдор Михайлович был в мирном настроении, говорил тихим тоном и с большою медлительностью произносил слово за словом, что… всегда замечалось в нём в первые дни после припадка… Владимир Сергеевич что-то рассказывал, Фёдор Михайлович слушал, не возражая, но потом придвинул своё кресло к креслу, на котором сидел Соловьёв, и, положив ему на плечо руку, сказал:
– Ах, Владимир Сергеевич! Какой ты, смотрю я, хороший человек…
– Благодарю вас, Фёдор Михайлович, за похвалу…
– Погоди благодарить, погоди, – возразил Достоевский, – я ещё не всё сказал. Я добавлю к своей похвале, что надо бы тебя года на три в каторжную работу…
– Господи! За что же?
– А вот за то, что ты ещё недостаточно хорош: тогда-то, после каторги, ты был бы совсем прекрасный и чистый христианин».
Можно ли вполне доверять свидетельству Стахеева? Обращение Достоевского к Соловьёву на «ты» режет слух: они никогда не были так коротки. Что же касается самого приводимого диалога, он не кажется столь уж неправдоподобным.
«Соловьёв засмеялся, – завершает сцену Стахеев, – и не возражал»[1057], расценив слова Достоевского как шутку.
Конечно, шутка; однако шутка, следует признать, не очень весёлая.
Может быть, блестящий и холодноватый ум Владимира Соловьёва, его приверженность к отвлечённой диалектической игре, особенности его миросозерцания, не всегда согретого живым сердечным чувством, – может быть, всё это – при несомненных симпатиях Достоевского к молодому философу – внушало ему некоторые опасения? (Вспомним восклицание Анны Григорьевны, что Владимир Соловьёв – прототип не Алёши, а Ивана Карамазова.) Не желал ли собеседник Соловьёва намекнуть последнему, что, как бы сами по себе ни были хороши тонкие философские умствования, они обретают совсем иной смысл и совсем иную меру, если подкреплены личным страданием, тяжким опытом души?
Приведённый Стахеевым случай следует сопоставить с ещё одним сюжетом.
Е. П. Леткова-Султанова рассказывает, что осенью 1880 года в среде студенческой молодёжи то и дело поминалось имя Достоевского.
«Когда кто-то попытался напомнить товарищам, – говорит мемуаристка, – о значении Достоевского как великого художника, с его скорбной любовью к человеку и великим состраданием к нему, это вызвало такие резкие споры и пламенные раздоры, что пришлось перевести разговор на страшные переживания Достоевского, на каторгу, перестраданную им. Кто-то закричал:
– Это всё зачёркнуто его же заявлением: Николай Первый должен был так поступить… Если бы не царь, то народ осудил бы петрашевцев!»[1058]
«Такого высказывания, – лаконически замечает комментатор этих воспоминаний, – ни в «Дневнике», ни в письмах Достоевского не содержится»[1059].
Действительно, в текстах самого Достоевского подобных утверждений нет. Тем не менее можно указать достаточно авторитетные источники, где подобные высказывания зафиксированы.
14 февраля 1881 года состоялось заседание Славянского благотворительного общества, посвящённое памяти Достоевского. В своей речи Аполлон Николаевич Майков (речь эта была прочитана О. Ф. Миллером) поведал присутствующим следующий примечательный «анекдот».
Некто (Майков именует его старым приятелем Достоевского) встретил автора «Записок из Мёртвого дома» после возвращения последнего с каторги.
«– Какое, однако, несправедливое дело было эта ваша ссылка, – заметил вышеуказанный приятель.
– Нет, – коротко, как всегда, обрезывает Достоевский, – нет, справедливое. Нас бы осудил русский народ (почти дословное совпадение с текстом Летковой-Султановой. – И.В.). Это я почувствовал там только, в каторге. И почём вы знаете, – может быть, там наверху, то есть, Самому Высшему, нужно было меня привести в каторгу, чтоб я там что-нибудь узнал, т. е. узнал самое главное, без чего нельзя жить, иначе люди съедят друг друга, с их материальным развитием…»
Мысль вполне для Достоевского закономерная: народу нет дела до фаланстеров, до фурьеристских утопий, он усматривает во всем этом лишь «барскую затею». Каторга, испытание болью открывает путь к «главному». И это «главное» по сути своей – духовно. (В разговоре с Владимиром Соловьёвым подразумевался, по-видимому, именно такой духовный урок.)
Майков заканчивает свой «анекдот» тем, что знакомый Достоевского отходит от него «с искреннейшим сожалением, качая головою»:
– Экая жалость, экая жалость!
– Что такое? – осведомляются окружающие.
– Да вот, Достоевский – совсем сумасшедший. Бог знает какой мистицизм несёт[1060].
Собеседник Достоевского предвосхитил то обвинение, которое вскоре так полюбится отечественным критикам. Пройдут годы, и «Братья Карамазовы» тоже будут объявлены «мистико-аскетическим романом».
Свидетельство Майкова было впервые обнародовано в аксаковской газете «Русь». При этом издатель «Руси» снабдил майковский «анекдот» следующим примечанием.
Однажды, пишет И. С. Аксаков, проезжая через Москву, Достоевский «зашёл к нам и с увлечением разговорился о покойном государе Николае Павловиче». Во время беседы к Аксакову явился известный английский путешественник Уоллес Мэкензи, хорошо знающий русский язык и знакомый с русской литературой. Убедившись, что перед ним Достоевский, Мэкензи «загорелся любопытством и с жадностью стал слушать прерванную было и снова возобновившуюся речь Фёдора Михайловича о Николае Павловиче». Достоевский вскоре уехал. «Вы говорите, что это Достоевский? – спросил нас англичанин. – Да. – Автор “Мёртвого дома”? – Именно он. – Не может быть. Ведь он был сослан на каторгу? – Был. Ну, что же? – Да как же он может хвалить человека, сославшего его на каторгу? – Вам, иностранцам, это трудно понять, – отвечали мы, – а нам это понятно, как черта вполне национальная»[1061].
И. С. Аксаков ответил заморскому гостю как истинный славянофил. Думается, однако, что в данном случае для Достоевского была важна не столько славянофильская трактовка взаимоотношений русского государя с его подданными, сколько то обстоятельство, что император выступил в качестве «орудия провидения»: исполнив, так сказать, волю рока, замысел самой судьбы.
Но вот вопрос: откуда дискутирующим о Достоевском студентам стали известны все эти подробности? Ведь и речь Майкова, и примечание к ней Аксакова были опубликованы уже после смерти Достоевского, а упомянутые споры, согласно Летковой-Султановой, ведутся ещё при его жизни?
Тут, скорее всего, мы имеем дело с ошибкой памяти. Очевидно, Леткова-Султанова имела в виду пересуды, связанные с публикацией майковской речи в газете «Русь» весной 1881 года, но невольно сдвинула хронологию к осени 1880 года.