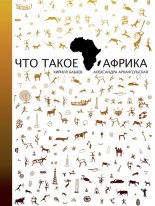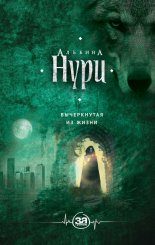Учись видеть. Уроки творческих взлетов Москвина Марина

Диктор пояснил:
– Негритянского боксера вы можете отличить по светло-голубой каемке на трусах».
«Самое большое несчастье моей жизни – гибель Анны Карениной!»
Все это вошло потом в его повести и рассказы.
«Записные книжки» Довлатова поэт Виктор Некрасов назвал собранием новелл, одни из которых занимают полторы строки, а иные растягиваются до целой страницы, но это всегда законченные новеллы со всеми чертами настоящей прозы: изяществом, ясностью, юмором и глубиной.
То же можно сказать и про «Монохроники» Юрия Коваля, которые автор считал хотя и неполной и разрозненной, но все-таки хроникой его жизни. Они были изданы в толстой книге «АУА». В издательстве «Подкова» вышли целых два тома – «АУА» и «Листобой»: рассказы, песни, стихотворения, повести – с живописными картинами Коваля, его рисунками и фотографиями.
Но я видела «Монохроники», сделанные рукой Юры: альбом внушительных размеров, записки, рукописные заметки, рисунки, я ведь говорила вам, что Коваль – художник!
Вот первая запись – «Рябиновый год». (Обратите внимание, какие разные у авторов дневников объект наблюдения, угол зрения, интонация и «градус» взаимодействия с НАТУРОЙ. Но есть одна общая черта: любовное и глубокое погружение в случайную, казалось бы, картину жизни, которая неожиданно предстает перед твоими глазами. Читать такой текст надо медленно, смакуя каждое слово, как его творил мастер.)
«Повсюду, под Москвой, очень много рябин. Зрелые полные гроздья. Какой-то рябиновый год. Не успевши выехать из Москвы и не доехавши до Загорска, купили для смеху и наслаждения ящик помидоров. Рябина и помидоры чем-то похожи меж собой.
Рябиновые годы, как я знаю, случаются редко. Я помню несколько за свою жизнь. Годы эти не были для меня безмерно счастливы, зато уж пожалуйста – сколько угодно рябины».
И маленькая приписка его рукой – прямо в книге:
«…Говорят, високосные годы – рябиновые».
«Нашли на дороге убитого, как видно, сокольцом козодоя. Необыкновенность его облика – крупные глаза, странные волоски, торчащие из широко распахнутого рта. Нет, наверное, не соколец. Скорее – сова. Козодой – птица вечерняя. Крылья у него стройные, узкие, стремительные».
«Болотная дорога привела меня вначале к брошенной в ольшанике ржавой барже. Будто из-под баржи вытекал торфяной ручей. С полсотни шагов прошел я по ручью, и, окруженная лесами, открылась мне медленная болотная река. Это и была – Модлона.
Модлона – ударение ставят местные жители на первом слоге. Это обычно в вологодских краях – Модлона, Сухона…
Как ни поставь ударение, Модлона – слово удивительное. Медленно течет Модлона, и не от этого ли слова “медленно” происходит ее названье?
…Модлона течет модлонно… Дремучая, по-болотному ласковая река. А водятся в ней чернейшие окуни и воронёная сорога. Обычно нет рыбы светлей и серебристей сороги, а тут – темна, глаз и плавник красен, брюшко тёмного серебра, а уж спина – воронёная».
«Вадик указал мне на звезду Арктур. Но выше было созвездие Персея. Я быстро нашел Арктур и сказал, что под Персеем нет яркой звезды. А это была взошедшая уже прекрасная – Капелла».
«Ночью кричали над Горой уходящие на юг табуны гусей».
Там обо всем в «Монохрониках» Коваля, это ведь абсолютно всеобъемлющий жанр – о друзьях, поэтах и художниках, о случайно встреченных людях, о зверях, о звездах, о деревьях, о северных городках и деревнях… Разрозненные отрывочные записи, эскизы, наброски. Но есть в этом и склад, и лад, и ритм, и единая мелодия, сыгранная на разных инструментах.
Как-то раз после открытия Недели детской книги (мы выступали перед детьми в Колонном зале Дома союзов) вчетвером – Яков Аким, Юрий Коваль, поэт Марина Бородицкая и я – зашли пообедать в ресторан Дома литераторов. Ну и, слово за слово, зашла речь о дневниках писателей. Как раз я прочитала в журнале выдержки из дневников Марины Цветаевой, опубликованные на выбор, – я точно не помню чей, что-то вроде «полковника А. Николаева».
Мне публикация очень не понравилась. Казалось, этим человеком были отобраны заметки, которые написаны явно «для себя», и сама Марина Цветаева не стала бы их публиковать ни при какой погоде.
Мы стали говорить о том, как лучше отбирать наиболее интересные дневниковые записи для публикации.
Я говорю:
– Вот я читаю свой дневник позапозапрошлого августа – там написано: «Был вечер, солнце клонилось к закату. В деревне Уваровке пошла я к забору выбрасывать помойку. А за забором Толя Паскин – наш сосед. Вообще он выпивает основательно, орет, дерется, без всякой меры употребляет нецензурные выражения, но он добрый малый, всегда мне огурчиков перезрелых дает или подкинет ненужный его маме кабачок, я, кажется, к нему неравнодушна. Короче, иду я на закате вдоль забора, а Толя Паскин окучивает картошку…..Он так на меня посмотрел!..»
– И что же? – воскликнула я возмущенно. – Стану я знаменитым писателем, умру, а кто-нибудь возьмет эту ерунду и обнародует!!!
Коваль рассмеялся и сказал:
– Я б эту запись обнародовал!
– Зачем? – воскликнула я. – Ведь все подумают: «Марина – дура».
– Ну и пускай, – сказал Коваль. – Зато здесь есть спонтанность бытия.
Глава 22
Дневник на стол!
К счастью, мы с вами пока что живы и наши дневники делать достоянием широкой общественности еще не пора. Но это не значит, что нам не пора начинать вести ДНЕВНИК наблюдений за окружающим миром и нашей жизнью. Пора, мой друг, пора!.. Причем есть смысл с самого начала слегка позаботиться о том, чтоб наши записи были содержательны, приметливы, эмоциональны… А то циничные потомки прочтут невзначай и скажут: «Какой нудный перец!» А нам – красней на том свете, даже подзатыльник вундеркинду не отвесишь!
То ли дело – посмертная писательская слава актрисы Фаины Раневской. Каждая шутка, случай, каждый афоризм Фаины Георгиевны, которые были простыми заметками ее рукописных дневников, теперь опубликованы в самых серьезных изданиях:
«Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей, – пишет Раневская в “Дневнике на клочках”. – Не знаю ни одной человеческой жизни, которая так восхищала и волновала меня. В Ташкенте, в эвакуации, к Ахматовой однажды вошла степенная старушка. Ахматова мне сказала, что старушка в большой нужде. Они разговаривали об общих знакомых ленинградцах светским тоном. По уходе старушки я узнала, что это была Миклухо-Маклай, но кто, как и кем ему приходится – я не спросила».
Вот она выписала цитату из Андерсена – его отношение к искусству Раневской близко: «В искусстве путь всегда идет вверх, по раскаленной лестнице, но к небу».
А сколько рассказано трагикомических случаев из жизни, причем каждый рассказ или диалог – маленький шедевр!
«– Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим, – требует капризная молодая актриса.
– Все будет настоящим, – успокаивает ее Раневская. – Все: и жемчуг в первом действии, и яд – в последнем».
«Когда я слышу приглашение – “приходите потрепаться”, мне хочется плакать».
«Бог мой, как прошмыгнула жизнь, я даже никогда не слышала, как поют соловьи».
«В жизни была у меня только одна встреча с Константином Станиславским. В Леонтьевском переулке я увидела его едущим на извозчике, кинулась к пролетке и завопила: “Мальчик мой дорогой!” Он расхохотался, я очень горжусь, что рассмешила К. С.»
«…А может быть, поехать в Прибалтику? А если там умру? Что я буду делать?»
«Бог мой, как я стара – я еще помню порядочных людей!»
После спектакля Раневская часто смотрела на цветы, корзину с письмами, открытками и записками, полными восхищения, – подношения поклонников ее игры – и печально замечала:
– Как много любви, а в аптеку сходить некому.
А ведь, в сущности, она не была Пишущим Человеком. Она была просто ЧЕЛОВЕКОМ – как видите, этого достаточно, чтобы каждое твое слово было дорого читателю, о чем бы ты ни заговорил.
«Все думаю о Пушкине. Пушкин – планета! Он где-то рядом. Я с ним не расстаюсь. Что бы я делала в этом мире без Пушкина…»
Да, чтобы так писать, надо прожить жизнь, многое понять и не растерять ни любви, ни чувства юмора…
В нашем же с вами случае есть смысл все это накапливать, делая ежедневные записи в дневнике. Мы будем всматриваться в самих себя, в окружающий мир. И постепенно, о чем бы мы ни заговорили, это будет затрагивать и волновать не только нас самих, но и других людей. Потому что, любовно исследуя жизнь во всех ее проявлениях, мы найдем точки соприкосновения со всем человечеством. В чем, собственно, и состоит писательское ремесло.
И это ремесло мы потихоньку продолжаем осваивать.
Сергей ТишковМой ПушкинЭто было очень давно. Пушкин шел рядом и сочинял. Он всегда сочинял, когда мы шли. Когда мы останавливались, Пушкин пел. Шел дождь, и ветер сносил крыши с домов, которые оставались выситься грудой развалин. После войн Пушкин вспомнил, что его жизнь уже закончилась. На меня упал последний обломок неба. Пушкин остановился и запел. Я выбрался из-под кусков бетона, и мы пошли дальше. Когда Пушкин вспомнил, он стал сочинять. Мы идем с ним, борясь с ветром, дождь заливает за шиворот, покрывает обгоревшую землю. Пушкин морщится и перестает сочинять. Его сочинения летают вокруг него и удивленно смотрят на своего папу. Пушкин смотрит на развалины, и ветер уносит его мысли туда, куда он уже унес крыши. Но Пушкин останавливается и поет. Он поет хрипло, иногда невозможно разобрать слова. Я подхватываю его песню – и мы поем навстречу ветру и крышам, и духи тех, кто остался, слетаются послушать песнь незнакомого им мира. А завтра мы пойдем обратно.
Саша Новосельцев приносит мне фотографию, он сам сделал ее: легкий парусник взлетает на волну, оранжевое полыхающее солнце в алом небе, темные разводы туч и плавные изгибы волн. К этой фотографии прилагается текст:
Главное – создать иллюзию. Не подпускать себя к реальности. Она слишком обыденна и проста. Как и предметы, ее составляющие. Они только в определенном свете обретают свое истинное лицо. Подчиняясь законам физики, вещи глумятся над этими законами, порождая миражи.
Все это потому, что любая форма источает свет. Фонарик на полтора вольта – это то же Солнце, только маленькое, а шарф, лет пять провалявшийся в нафталине, – те же волны и то же море. Вполне однородный фон от горящей свечи выпускает на волю полутона, а кораблик, всю жизнь простоявший на полке (правда, с книгами Рафаэля Сабатини), устремляется, наконец, в то дальнее и безвозвратное плаванье, о котором всегда мечтал.
Просто разрешить вещам быть тем, чем они хотят, реализовать их глубинное предназначение – и они ликующе исчезают с поверхностного плана бытия, растворяясь в бездонных измерениях, которым они органически принадлежат.
А мне остается только нажать на кнопку.
Вы поняли, что он сам сделал волны из шарфа, установил на нем парусник, в качестве солнца сфотографировал фонарик. И соединил фотографию с текстом. Работа отточена, «смонтирована». Меня поразила ее вдумчивая рукотворность. С большим уважением я отношусь к подобному кропотливому и в то же время масштабному подходу. Какой это жанр? По-моему, дневниковое эссе.
Также некоторые ваши работы я рассматриваю как дневниковые зарисовки – по живости, движению, легкости и даже некоторой безалаберности.
Пушкин на дуэли
Особую нежность я испытываю к Слову за то, что оно – не всемогуще. Поэтому иногда, чтобы выразить переполняющие чувства, приходится прибегать к другим формам искусства – вязать свитеры, писать картины, лепить скульптуры или шить куклы… Я пытаюсь воссоздать растение, животное или человека, впечатлившего меня. У поэта Марины Цветаевой есть книга «Мой Пушкин». А у меня – мой.
Денис БатяевПинокШел я по Комсомольскому проспекту. Настроение самое распрекрасное, солнце светит, хочется всем улыбаться и идти вприпрыжку. Вдруг вижу: впереди знакомая фигура. Пригляделся: ну, точно, Юрка! Идет своей дурацкой походочкой вразвалку, руки, как всегда, в карманах, спешит куда-то.
– Юрка! – кричу ему я.
Он даже не повернулся.
– Курицын, твою мать!
Идет, зараза, не оборачивается.
Ну, думаю, гад, ща я тебе устрою. Разбегаюсь хорошенько и со всей дури даю ему пинка. Даже перестарался немного.
Тут он поворачивается, и я чувствую, как волосы на голове становятся дыбом. Сказать ничего не могу, воздух вдохнулся, и не выдыхается, только руками размахиваю бестолково. Стоит передо мной какой-то бородатый мужик, с Юркой моим ничего общего не имеющий.
– Ты чего, охренел, что ли? – спрашивает.
Я могу только головой кивать, речь ко мне еще не вернулась.
Народец вокруг нас хихикает, смотрит, как из положения выходить будем. Ну, я так же молча поворачиваюсь: давай, мол, пинка – и квиты.
Не стал он мне мстить, не мстительный оказался. Похлопал по плечу:
– Ничего, – говорит, – и не такое бывает.
Да и пошел своей дорогой.
А я своей.
Глава 23
Поцелуй через бочку с солеными огурцами
Блокноты и дневники дают нам возможность оттачивать свою неотточенную наблюдательность. Впечатления к нам врываются в огромном изобилии. Их надо постоянно фиксировать, что само по себе уже творчество и к тому же отличное сырье для художественных и документальных произведений.
Есть такой режиссер авангардного кино Йонас Мекас. Когда он решил снимать кино, он пошел в магазин, купил камеру… и, как гласит легенда, попросил не упаковывать. Говорят, с тех пор – а прошло уже много десятков лет – он ее ни разу не выключал. Деревья, люди, пожары, новорожденные, покойники, свободные, заключенные, Литва, Нью-Йорк, земля, небо, трава, жест, жестокость, любовь, река, камень, облако, разговоры о смысле жизни – все является объектом его яростной, скачущей, алчущей камеры.
«Моя задача в том, – сказал Йонас Мекас, – чтобы полностью открыться. Я иду, как лунатик, ожидая хотя бы слабого знака или зова».
Мне кажется, про таких людей сказал мастер дзен Мумон: «Он идет по лезвию меча. Он бежит по крутому обрыву ледника».
Каждое мгновение представляет собой такое острие меча.
Я лично до того уже докатилась, что, как Йонас Мекас, фиксирую все без разбору. Каждый момент бытия имеет свою ценность, каждое услышанное слово – вес и аромат. Как я люблю проходные реплики, мелькающие в толпе лица, движущиеся на эскалаторе фигуры. Метро, троллейбус, общественный транспорт, какая-нибудь забегаловка – для меня упоительный и непревзойденный театр.
Двор, магазин, улица, соседи, моя семья – бесконечно любимые мной и дорогие люди, близкие и далекие, неведомые, тающие вдали – все для меня натура, все – палитра.
Я и сама – простой персонаж некой драмы, комедии, чистого водевиля, фарса, великолепная модель для собственного наблюдения, а также документального и художественного отображения. Вся глупость и нелепость мира заключены во мне, все амбиции, я – арена борьбы между манием величия и комплексом неполноценности. Все тут есть. Только успевай записывать.
Я – царь Кощей над златом. Мои дневники – это исключительная коллекция пейзажей, героев, ситуаций, портретов, реплик… Мешки! Вы не поверите: мешки рукописных книг – мои наблюдения за этим миром.
Кроме того, у меня чудовищная память. Знаете анекдот? Ходжа Насреддин жалуется:
– У моей жены ужасная память.
– Она что, ничего не помнит?
– Нет, – ответил Насреддин. – Она помнит все!
Я – маньяк натуры. Мои дневники никогда и никто не сможет разобрать. Даже творческое наследие чудесного еврейского поэта Овсея Дриза, который прожил жизнь в России, а писал исключительно на языке идиш, и то легче будет разобрать, чем горы моих ликующе вдохновенных каракулей.
Иногда мне кажется, когда я их сожгу, я просветлюсь. Мне станет доступно единство мира. А пока мир предстает в моих записках раздробленным и слишком многомерным.
Единственное спасение в том, что я наблюдаю жизнь и людей не холодным взглядом рептилии, а жарким, любящим взглядом. Мне чужд отстраненный холодный взгляд наблюдателя. Это очень важно. Запомните: при наблюдении за этим миром ОБЯЗАТЕЛЕН горячий взгляд, исполненный любви. Иначе ты не наблюдатель божественной игры – лилы, а просто негодяй.
Вот некоторые мои заметки. С поверхности – не слишком углубляясь:
«Как-то раз к нам на семинар пришел Юрий Коваль. Все сразу испугались читать свои произведения при Ковале. Только один не побоялся и стал читать стих, мол:
- – Чтобы нарисовать снег – куплю я мел,
- чтобы нарисовать ночь – куплю я уголь…
Коваль очень внимательно слушал. Слушал-слушал да и говорит:
- – А чтоб над мостом рисовать Ильича,
- Куплю я красный кусок кирпича».
«К моей маме Люсе из Казани приехал ее первый муж и остановился у нее на неделю. Она звонит мне по телефону и говорит:
– У меня мужья такие смешные! Я им рассказываю что-нибудь, а у них обоих глаза слипаются. Я им говорю: ну, идите, спите! А они: нет!!! Мы чай хотим пить!.. Ну, умора!»
«Звонит из Екатеринбурга художник Саша Шабуров:
– Я открыл в Екатеринбурге памятник литературному герою. 280 кг металла на него ушло. Это памятник… Человеку-невидимке! Постамент – и два следа: один – мой след, один – его…»
Игорь Макаревич из форточки снимает своих героев, а наш студент Сережа Тишков снизу, с улицы, снимает Игоря Макаревича. Он делает дипломный фильм об Игоре. Но Сережа не подозревает о том, что Игорь Макаревич сейчас снимает Сережу. Взгляд одного исследователя мира встречается со взглядом другого. Наблюдающий становится Наблюдаемым. Круг замыкается.
«Пилот Кучегоров
Пассажирка Коровина
Библиотекарь Кассандрова
Таксист Лоэнгрин Иванович Минаев (все правда!)»
«Валерий Медведев, автор бестселлера “Баранкин, будь человеком!”, говорил нам на семинаре:
– Вот я считаюсь остроумным человеком. А я родился не таким, совсем не остроумным. Я этот юмор в себе натренировал!»
«Юрий Коваль – гордо:
– В свою новую повесть “Бильярд по-кармановски” я смело ввел эротическую сцену – поцелуй через бочку с солеными огурцами.
«– Я тебе не забыл, – сказал Вася Лысенко, мой одноклассник, – как ты нам всем писала сочинения по Чингизу Айтматову “Прощай, Гульсары!”. Кольке на “пять”, Крюкову на “четыре”, себе на “три”, а мне на “единицу”!»
«Я, вернувшись из долгой командировки – маме:
– Ну, как ты жила тут без меня?
– Очень хорошо, – отвечает мама. – Мне тебя отлично заменял зефир в шоколаде».
«Гуляет во дворе наш сосед с попугаем. Его спрашивают: “Продаете?” “Что вы! – отвечает. – Покупать говорящего попугая – надо знать хозяина. А то купишь прохвоста и матерщинника”».
«Мой муж Лёня надевает носок за очень важным разговором об искусстве, и у него пятка с треском оголяется.
– Так проходит слава мира, – не растерявшись, говорит Лёня».
«У Сережки и у Люси в купе ехала девушка. У ее жениха фамилия ШПРОТ!
– Какой ужас! – сказал Сергей. – Когда они поженятся, она станет Шпротихой, а дети у них будут Шпроты».
«Я моей маме Люсе – нежно:
– Ты – наша Полярная звезда…
– А вы – мой Южный Крест, – отвечает Люся».
«Прекрасный детский поэт Яков Аким на утреннике, посвященном его шестидесятилетию, сказал: “Вот, ребята, как быстро летит время. Просто поверить не могу, что мне уже пятьдесят!”»
Тень от памятника выразительнее, чем сам памятник.
«Редактор журнала “Наша школа” Дина Крупская ходила в гости к Якову Акиму за стихами для журнала. Потом позвонила, потрясенная, и говорит:
– У таких людей надо учиться всему: как слушать, как говорить, как ходить, как улыбаться…»
«Яков Аким тоже мне позвонил и рассказал о ее посещении. Он ей пожаловался, что ближе к 80 годам стихи стал сочинять очень редко…
– Надо влюбиться! – со знанием дела порекомендовала Дина».
«Самое опасное в мире – думать, что вы что-то понимаете!»
Дзёсю
«В Уваровке сосед Леша от радикулита настоял для растирания поясницы водку на мухоморе. Ну, захотелось выпить. А ничего больше не было. Думал-думал, поставил рядом с собой телефон (в случае чего позвать на помощь), выпил и смотрит в зеркало. Видит: не побледнел, ничего. И тогда он спокойно выпил все».
«Лёня приходит вечером домой:
– Чем сегодня занималась? – он спрашивает. – Целый день искала свою сокровенную природу Будды? И, конечно, не нашла и отложила на завтра?..»
«Дзен – это религия неуважительного уважения и уважительного неуважения».
«Испанского поэта Гарсиа Лорку спросили:
– Зачем вы пишете?
– Чтобы меня любили, – ответил Гарсиа Лорка».
«Лёня: “Свечка – это замочная скважина солнца”».
«Не бойтесь грозы, монахи, вы увидите бесчисленные звезды в небе, когда она закончится!»
«Лёня: “Лучшее средство от мании величия – не иметь никаких достижений”».
Памятник Будде – со спины. Полностью необычный ракурс: как правило, Будду изображают лицом – к лицу созерцателя. И что же мы видим? Только то, о чем мы всегда и подозревали: Будда – это существо, у которого повсюду открыты окна.
«У нас тетя Нюра в Уваровке творог делала, у нее сыворотка осталась. Дай, думает, поросенку отнесу – Тамариному, у колодца. Он съел да отравился.
Тамара:
– Ты – колдунья! Мне поросенка отравила.
А тетя Нюра:
– Господи! Ты все видел! Не хотела я поросенка отравить! Я только хотела его угостить».
«Знакомый астрофизик рассказывает, что в Америке посетил обсерваторию, куда пускают обычных людей. На выходе – транспарант: “Соотечественник, потрясенный величием и масштабностью Вселенной! Зайди пропустить стаканчик”».
«Сын мой Серёня с другими первоклассниками чествовал весной выпускников, размахивал цветами, кричал: “Ура!” – и, наконец, вручил букет старому лысому десятикласснику.
– Ты что такой лысый? – спросил Серёня.
– Поучишься с мое – таким же станешь, – ответил тот».
«Однажды я позвонила актрисе Рине Зеленой и попросила ее озвучить Черепаху в моем мультфильме “Подарок на новоселье”.
– ОБРАТНО ЧЕРЕПАХУ??? (Она только что сыграла Черепаху Тортилу в “Золотом ключике”.)»
«Рина Зеленая – мне:
– Вы будете у меня через полчаса.
– Нет, часа через полтора.
– Откуда же вы претесь?»
«Рина Зеленая объясняет, как к ней доехать:
– Доезжайте до “Парка культуры”, одна остановка на троллейбусе «Б», всех дураков спрашивайте, все будут говорить разное, никого не слушайте, идите мимо громадного дома на курьих ногах, дальше тайга, по ней асфальтовая дорожка, спокойно плетитесь и будьте осторожны – кругом все пьяные! Дом, подъезд, этаж, квартира и код: ДЕВЯТКА, ПЯТЕРКА, ТРОЙКА. Я говорю как Пиковая Дама, вы должны запомнить.
– Все это я помню, я ж у вас была…
– Почему вы должны помнить? Разве можно что-нибудь помнить в вашем возрасте?
– Я помню все, связанное с вами.
– Да, это может быть, – задумчиво сказала Рина Зеленая. – Так бывает».
«Мой папа Лев ждет меня около Театра Ермоловой. Там начинается спектакль по пьесе Теннесси Уильямса в переводе друга папы – Виталия Вульфа. Виталий Яковлевич выходит на улицу раз, второй, меня все нет, папа злится, я опаздываю на полчаса по техническим причинам, короче, наш поход в театр полностью провалился. Папа встречает меня разъяренный и произносит в великом гневе – чистым ямбом:
- – К чему привел богемный образ жизни —
- Вне времени, пространства… и зарплаты?!!»
«Как-то раз на занятия со студентами я принесла книжки поэтов Овсея Дриза, Даниила Хармса, Якова Акима, Романа Сефа, Генриха Сапгира и Юрия Кушака. Я читала вслух – книжка за книжкой. Особенно Овсея Дриза, поскольку мы собрались пойти на вечер, посвященный его жизни и творчеству.
Приехали в условленное место – на “Тургеневскую”, где я договорилась встретиться с Яковом Акимом. Ждем-ждем, а его нет и нет. Я ужасно разволновалась, потому что Яков Аким никогда не опаздывает, отпустила студентов по домам. (А жаль: он вскоре пришел, и вечер был интересный!)
В следующий раз я спрашиваю у ребят:
– Кого мы с вами читали?
Они – с трудом – коллективно – воспроизводят диковинные имена поэтов:
– …Дриз… Сеф… Хармс… Сапгир… Кушак… Аким…
– А кто к нам должен был прийти в метро, но опоздал?
Они – еще более растерянно:
– …Хармс?..»
Яков Аким и Марина Москвина.
«Дорогой Яков Лазаревич! С днем рождения. Живите долго! В конце концов, что для нас с вами ваши восемьдесят? Только начало…»
Глава 24
Хармс… Чармс… Чардамс…
Разумеется, это случилась ДО нашего с вами похода в Музей личных коллекций на выставку «Кабинет Хармса» художника Сергея Якунина.
Мне хотелось соединить ваше знакомство с Даниилом Хармсом и с очень изобретательным художником – нашим современником Сергеем Якуниным.
В Москве с огромным успехом прошел спектакль по инсценировке повести Гоголя «Шинель». Спектакль назывался «Башмачкин». Я видела его на малой сцене в Театре на Таганке. В спектакле был занят один актер Феклистов. Он играл остро, нервно, сдержанно, с большим внутренним накалом. Крошечный, обездоленный, угловатый. Одна, но пламенная страсть бушевала в нем, она стала для него всем: его мечтой, любовью, надеждой, лучом света в темном царстве – обычная шинель затмила Вселенную.
Друзья мои! Читайте Николая Васильевича Гоголя, читайте и перечитывайте! Особенно таинственнейшие повести «Нос», «Шинель», «Невский проспект», «Коляска», «Записки сумасшедшего». «Миргород». «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Но, умоляю, не говорите, что вы уже все это «проходили» в школе. Только теперь, став учениками Волшебника, вы сможете хоть отдаленно почувствовать умопомрачительное великолепие Гоголя, его нездешнее мастерство. Чтобы так писать, как Николай Васильевич Гоголь, многие работники пера душу бы прозакладывали! Все в его прозе живет, поет, дышит, созданный им мир движется, мерцает, один в другой перетекает, двоится. Что явь, что сон? Что здравомыслие, а что – безумие?
Пересекаются параллельные миры. Вий поднимает свои тяжелые веки, Нос, живущий отдельной жизнью от своего хозяина майора Ковалева, встречается с ним в Казанском соборе, сбегает от него, где-то болтается под видом статского советника, и так далее, и так далее, не могу пересказывать и поминать всуе, а то мурашки бегут по спине от страха и восхищения.
В этом спектакле, о котором я веду речь, практически не было ни слова. Ни одного гоголевского слова, Башмачкин только бормотал что-то нечленораздельное или издавал неясные звуки, междометия. Повторяю, на сцене он был один-одинешенек.
Он и Шинель, которая к концу истории вырастает до небес и страшно колышется на ветру. Но вокруг этих двоих было выстроено такое пространство, которое, как проза Гоголя, дышало, двигалось, мерцало, взаимодействовало с Шинелью и Башмачкиным, окутывало их и пронизывало, опутывало незримыми нитями – это была гоголевская проза, переведенная на язык сценографии.
Декорации к этому спектаклю из бумаги сделал художник Сергей Якунин.
Мне было очень интересно: что он придумал с «кабинетом» Хармса? На этот раз Якунин – опять из дерева и жесткой желтой бумаги – выстроил иную атмосферу. Он сконструировал странные предметы: часы, отмеривающие вечность, письменный стол с искусно сделанными книгами, тысячью ящичков, всяких разных штукенций, сундук с тусклым светом электрической лампочки, в который можно залезть, закрыться, сесть на стул и читать записки Хармсу. В главном зале стоял деревянный конь-качалка, высокий здоровенный конь с крыльями – Пегас. Хоть на него садись, качайся и читай стихи!
А у меня случилась небольшая загвоздка. Дело в том, что перед нашим походом я собиралась ознакомить вас с текстами Хармса, но не успела: выставка закрывалась, мы заторопились и пришли, ни сном ни духом не имея понятия, что это за такой Хармс и не его ли мы ждали в метро на прошлой неделе?
Вообще-то я обычно готовлю вас к его текстам. Специально рассказываю о нем разные легендарные истории, что он отличался эксцентрическим характером: желая быть поближе к небесам, залезал на дерево и сочинял стихи, сидя на ветке, как птица. Или мог, остановившись у газетного киоска, спросить совершенно серьезно: «Скажите, пожалуйста, здесь живет Петр Алексеевич Силантьев?»
А впрочем, и без мистификаций Хармс был рассеянным и путаником, жил рядом с улицей Бассейной. Вполне возможно, Маршак выбрал Хармса в качестве прототипа «рассеянного с улицы Бассейной».
Я рассказываю вам о его семье, о странной судьбе, удивительной жизни, аресте во время сталинских репрессий и смерти в тюремной больнице в 1942 году.
А также об одном невероятном обстоятельстве: когда художник Лёня Тишков был со своей выставкой в Венесуэле в городе Каракасе – это Южная Америка, – он познакомился с женой Даниила Хармса Мариной Малич! Ей за девяносто. Она уцелела чудом, ее судьба неописуема, она прошла все – голод в блокадном Ленинграде, войну, плен, концлагерь, оттуда совершила побег, скиталась, жила во Франции, в разных странах и, наконец, остановила свой выбор на экзотической и жаркой Венесуэле.
Лёня сфотографировался с Мариной Владимировной и привез эту фотографию Владимиру Глоцеру, знатоку и фанату Хармса и его друзей – поэтов Николая Макаровича Олейникова (Макара Свирепого), Александра Введенского и других талантливых, веселых, мудрых поэтов-обэриутов.
Глоцер был счастлив как дитя. Он немедленно отправил письмо в Южную Америку и, получив согласие Марины Владимировны, очертя голову ринулся в Венесуэлу.
Они встретились и подружились. День за днем Марина Владимировна рассказывала о Хармсе, каким она запомнила его, о том, как они встретились, полюбили друг друга, как странно вместе жили и как страшно расстались. Потом она рассказывала о своей жизни – уже без Дани, а Глоцер все записывал и записывал ее рассказ на диктофон, а когда вернулся в Москву, опубликовал книжку Марины Малич «Мой муж Хармс».
Владимир Иосифович мне рассказывал, что спросил у Марины: помнит ли она «Случаи» Хармса, которые тот ей посвятил? Марина Владимировна ответила, что не помнит. Он стал ей читать их вслух, она слушала, как в первый раз, и хохотала. (Будь я на месте Глоцера, у меня бы точно крышу снесло от таких скрещений судьбы, пространств и времен…)
Но мы-то с вами не настолько продвинутые слушатели текстов, наполненных абсурдом этой жизни, поэтому чтение Хармса для нас экстремальное происшествие. Хармс – потрясающий мудрец, бездонный, безграничный, юмор у него черный, диковатый, все на грани жизни и смерти. Вот я и подбираюсь к его рассказам с вами потихоньку, вокруг да около.
А тут мы без предуведомления заваливаемся к нему в «кабинет», вы ошарашенно озираетесь, не понимая, на каком свете очутились. По выставочному залу расхаживают другие посетители, и я понятия не имею, как вас в подобной обстановке ввести в курс дела.
Внезапно Катя Лысенко, одна из самых образованных и начитанных девушек нашего времени, отважно входит в дальний зал, садится на Пегаса, раскачивается и – наизусть! – принимается читать стихи Даниила Хармса. Дорога проторена! Ура! Я вслед за ней взгромоздилась на коня, раскрыла книгу «Случаи», посвященную Марине Малич, проиллюстрированную Лёней Тишковым, с предисловием Глоцера (обратите внимание, как сошлись звезды!), и начала читать:
«Был один рыжий человек, у которого не было глаз и ушей. У него не было и волос, так что рыжим его называли условно. Говорить он не мог, так как у него не было рта. Носа тоже у него не было. У него не было даже рук и ног. И живота у него не было, и спины у него не было, и хребта у него не было, и никаких внутренностей у него не было. Ничего у него не было! Так что непонятно, о ком идет речь.
Уж лучше мы о нем не будем больше говорить».
Смотрю, вы сидите вокруг на мрачных черных банкетках, серьезные, кроме Кати, никто даже не улыбнулся. Я дальше читаю, сидя на коне, он раскачивается, а я читаю: