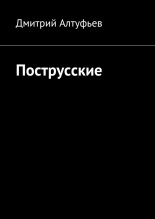Все к лучшему Барановская Юлия
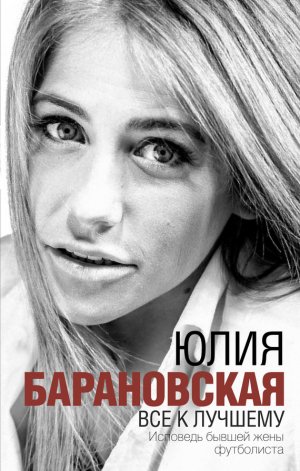
— Ты сегодня отлично выглядишь, — не унимается Норм.
— Спасибо. Что вам принести?
— А что у вас самое вкусное?
— Не знаю. Чего бы вам хотелось?
— Вообще-то я привык познакомиться с женщиной поближе, прежде чем отвечать на такие вопросы, но раз уж ты спросила… — Норм громко смеется своей шуточке, заговорщицки подталкивая меня локтем и улыбаясь окружающим — невольным свидетелям его остроумия.
— Норм, — цежу я сквозь зубы.
— Прошу прощения, — продолжает он, не сводя глаз с официантки, — моему сыну не нравится, когда его старик заигрывает с девушками.
— У вас неплохо получается, — комментирует Пенни.
Норм хохочет, не замечая сарказма, как будто она кокетничает с ним.
— Если я сделаю красивой девушке комплимент, никто ведь не упадет в обморок, верно?
— Я сейчас упаду в обморок, — перебиваю я, и Норм опять разражается смехом.
Я ловлю взгляд Пенни и хочу ей объяснить, что мы с ним много лет не виделись и он уломал меня прийти сюда, а потом извиниться за беспокойство.
— Нам надо подумать, — уныло сообщаю я.
— Тогда я к вам попозже подойду.
Пенни с улыбкой возвращается к стойке, и я понимаю, что переоценил ее реакцию на Норма.
— А я буду на вас смотреть, — обещает Норм, наклоняясь вбок на стуле.
— Будьте умницей, Норм, — девушка бросает на него игривый взгляд.
— Как скажете, — кричит он ей вслед и улыбается окружающим его невольным свидетелям этой сценки, принимая их безразличие за одобрение. Затем бросает очередной жадный взгляд на задницу Пенни и выпрямляется.
— Да, с такой ночью не замерзнешь, — восхищенно тянет он.
— Норм, как тебе не стыдно! — морщусь я.
— А что такое?
— У нее и так дерьмовая работенка, а тут еще всякие грязные старикашки пристают.
— Вроде она была не против, — замечает Норм.
— Она была вежливой, вот и все, потому что это ее работа, и если она пошлет тебя, то потеряет чаевые или место.
— Знаешь, что я об этом думаю? Раз уж работа трудная, а вечер будет долгим, так пусть хоть легкий флирт ее немного развлечет и поднимет настроение. К тому же, мне кажется, я ей понравился.
— Что? Ты — ей? — переспрашиваю я, не веря своим ушам. — Ты правда думаешь, что у тебя есть шансы?
— А почему бы и нет? — обижается Норм. — Чем я плох?
— То есть ты всерьез полагаешь, будто эта двадцатилетняя красотка спит и видит, что в один прекрасный день в ее ресторан придет такой вот толстый лысый старик, в которого она влюбится с первого взгляда?
В глазах Норма мелькает боль, улыбка сползает с лица, губы печально кривятся, и я тут же жалею о своих словах.
— Извини, Норм, я не хотел тебя обидеть. Просто я тут живу, понимаешь? Я тут ем каждый день, и мне было немного неловко.
— Прошу прощения, что поставил тебя в неловкое положение, — говорит Норм. — Да, я общительный человек. Что уж тут поделать. Если вижу красивую женщину, обязательно говорю ей комплимент. Быть может, мне повезет, и у нас что-нибудь получится. Если нет, так я хотя бы сделал человеку приятно. И извиняться за это не собираюсь.
— Никто тебя и не просит, — бросаю я, чтобы положить конец разговору, заметив, что к нам возвращается официантка.
— Вы что-то выбрали? — интересуется она.
— У вас вкусный минестроне? — спрашивает Норм.
— Разумеется.
— Тогда я возьму суп и сыр на гриле.
Я заказываю салат и сыр на гриле.
— Нам с ним всегда нравилось одно и то же, — с гордостью сообщает Норм Пенни.
— Ну так что? — как ни в чем не бывало, говорю я, когда официантка уходит. — О чем ты хочешь поговорить?
Мне все еще неловко из-за того, что я его обидел: меня мучает совесть из-за печали, которая сквозит в его жалкой улыбке. Какая разница, действительно ли он верит в то, что окружающим нравятся его шуточки, а юным официанткам — ухаживания, или же это всего лишь маска, защитный механизм, все равно такое поведение говорит о глубоком одиночестве, диктующем каждый его шаг.
— О тебе, — отвечает он, откинувшись на спинку стула. — Как дела в «Спэндлере»?
— Откуда ты знаешь, где я работаю?
— Пока ждал, просмотрел бумаги у тебя на столе.
— Ничего себе, — возмущаюсь я. — Ну ты даешь!
— Похоже, отличная компания. Чем ты там занимаешься?
— Я не хочу говорить о работе.
— Тогда расскажи мне о Хоуп.
— И о ней тоже не хочу.
— Ты все еще мечтаешь написать сценарий?
— He-а. Я никогда не думал об этом всерьез. Норм грустно кивает.
— Знаешь, Зак, — начинает он. — Работа и любовь — две самые главные вещи в жизни каждого мужчины. Ты же не хочешь говорить ни о том, ни о другом. На твоем месте, если бы ко мне вдруг нагрянул никуда не годный отец, которого я сто лет не видел, я бы из кожи вон лез, чтобы похвастаться. Я бы с наслаждением расписывал ему, каких успехов добился, как меня ценят на работе, какая у меня замечательная девушка. И это было бы вполне естественно. А ты не хочешь обсуждать со мной ни то, ни другое. Как думаешь, почему?
— Потому что все эти годы тебе было на меня плевать, — отвечаю я громче, чем хотел, и краем глаза замечаю, что другие посетители смотрят на нас. — Тебе не кажется, что ты слишком много на себя берешь? Думаешь, стоило тебе заявиться, как я тут же примусь перед тобой душу наизнанку выворачивать? Ты к моей жизни не имеешь никакого отношения. И мои дела тебя не касаются. Говоришь, работа и любовь? Молодец, Норм, хорошо сказано. Ты изменял жене чаще, чем я могу себе представить, и ни на одной работе не удержался дольше пары лет, если, конечно, за последнее время не изменился, в чем я сильно сомневаюсь. Ах да, ты забыл про детей. Может, их тоже стоило включить в список? Как думаешь? Нас бы ты так просто не потерял, хотя и это тебе в конце концов удалось.
Норм слушает мою тираду, затаив дыхание и не сводя с меня глаз; его лицо покраснело от натуги.
— Ты совершенно прав, — нахмурясь, кивает он, — С этим не поспоришь. Я действительно сам сломал себе жизнь. Так оно и есть. Но чутье мне все равно подсказывает, что ты нервничаешь, потому что у тебя серьезные проблемы. Я волнуюсь за тебя, Зак.
— Все ты врешь, эгоист чертов! — я почти кричу на него. — Ты волнуешься, потому что тебе приспичило поволноваться, чтобы прикинуться настоящим отцом, которым ты никогда не был.
— И тем не менее.
— Не стоит беспокоиться. У меня все отлично. Просто замечательно. Большое тебе спасибо.
Норм отпивает глоток воды из стакана.
— По тебе заметно, — криво ухмыляется он.
Не успеваю я рта раскрыть, как к нам подходит официантка и ставит на стол суп Норма и мой салат с осторожностью человека, который высовывает голову из укрытия и в любую минуту готов нырнуть обратно.
— Ладно вам, погорячились и хватит, — неловко произносит она. — Успокойтесь. Не надо так нервничать. Не чужие все-таки.
— Пенни, — говорит Норм. — Прошу прощения, если я вас чем-то обидел. В моих словах не было ничего дурного.
— Ну что вы, Норм, — она треплет его по плечу, — вы были очень любезны.
Мы едим в неловкой тишине, нарушаемой лишь громким хлюпаньем, с которым Норм втягивает суп. Спустя некоторое время отец отрывает взгляд от тарелки и смотрит на меня.
— Как у Пита дела?
— Отлично.
— Я каждый год посылаю ему открытку на день рождения, — признается Норм.
— О да, это все меняет, — усмехаюсь я.
Норм кладет ложку на стол и упирается в меня взглядом. На лбу у него бисеринки пота — то ли от горячего супа, то ли от напряжения, вызванного общением с дерзким старшим сыном.
— Что-то у нас с тобой разговор не клеится, — замечает он.
— Есть такое, — устало соглашаюсь я.
Норм промокает потный лоб салфеткой, а потом ею же вытирает губы. Интересно, почувствовал ли он вкус собственного пота?
— Послушай, — говорит он, — мне казалось, можно найти тему для нормального разговора за едой. Поговорить о чем-то, что не вызовет у тебя раздражения. Но как я ни пытался, у меня ничего не вышло. Может, попробуешь сам?
Я смотрю, как отец подбирает остатки супа в тарелке луковым кольцом, а потом отправляет эту разбухшую массу в рот. Меня ужасно бесит, что он прав: вот так вот явился спустя годы и назвал вещи своими именами. Не может быть, чтобы такой недалекий тип оказался настолько проницательным.
Наверно, простое совпадение. Мои личные неприятности совпали с его ни на чем не основанным убеждением, будто он по-прежнему имеет право считаться хорошим отцом. Мне ужасно не хочется признавать его правоту, подтверждать, что его выстрелы наугад тем не менее попали в цель. У него на рубашке крошки, на пузе — пятна от супа. Мягкие седые пряди его волос свисают чуть не в тарелку, а когда он берет еще одно луковое кольцо, я замечаю, что ногти у него обгрызены. Совсем как у меня.
— Возможно, у меня рак, — признаюсь я.
Мы обсуждаем вероятность того, что я смертельно болен, и за эти сорок минут или около того я незаметно для себя выкладываю ему все про Хоуп, работу, Тамару. Я признаюсь в своих тайных страхах и раскрываю секреты единственному человеку, которому сроду бы не подумал изливать душу. Я умалчиваю лишь о том, что вчера чуть не изменил Хоуп на концерте «ВЕНИСа». Если Норм хочет, чтобы мы поговорили, как родные люди, за ужином, — пожалуйста. Но я не допущу, чтобы он подумал, будто мы с ним похожи и в этом. Отец внимательно слушает, нахмурив лоб, и лишь время от времени вставляет очередной предсказуемо-никчемный совет по работе. Когда я выдыхаюсь, мы заказываем кофе и прихлебываем его в молчании.
— Скорее всего, там ничего страшного, — наконец говорит Норм.
— Не исключено, — соглашаюсь я.
— Зак, — Норм решительным жестом ставит чашку на стол, — я понимаю, что меньше всего ты нуждаешься в моих советах.
— Да уж, — отвечаю я, — но мне почему-то кажется, что тебя такая мелочь не остановит.
— Иначе это был бы не я, — ухмыляется Норм, и я впервые замечаю, что у него улыбка Мэтта, а может, и моя. — Я хочу тебе кое в чем признаться. Я боялся признаться в этом даже самому себе. Самая большая ошибка в моей жизни — то, что я расстался с твоей мамой. Мне шестьдесят лет, и я наделал немало глупостей, но все они в конечном счете сводятся к той роковой ошибке. Именно из-за нее моя жизнь сложилась так криво, и все беды, которые свалились на меня, стали следствием того ложного шага. Я знаю, тебе сейчас кажется, будто дела у тебя хуже некуда, но я бы отдал все на свете, чтобы оказаться на твоем месте. Потому что у тебя еще все впереди. Тебе предстоит принять решения, которых ты пока не принял. У тебя есть возможность — которую я упустил — разобраться в себе, заглянуть себе в душу и сделать правильный выбор. Ты должен радоваться, что все сложилось так, а не иначе, и воспользоваться шансом изменить жизнь. Для меня уже лет двадцать как все кончено, и должен тебе сказать, это были далеко не лучшие годы. Я часто вспоминаю то время, когда мы с твоей мамой еще были вместе, и мечтаю, чтобы кто-нибудь вот так же все мне объяснил, как я тебе сейчас. Может, тогда я бы взялся за ум и попытался понять, чего хочу на самом деле.
Запыхавшись от долгого монолога, отец откидывается на спинку стула.
— Норм, — говорю я.
— Что?
— Я подумаю над этим. Спасибо тебе.
— Пожалуйста, — он расплывается в улыбке. Прежде чем уйти из ресторана, Норм направляется к стойке, лично вручает Пенни чаевые и обеими руками сжимает ее ладонь. Он что-то шепчет девушке, а она в ответ — невероятно, но факт — наклоняется, чмокает его в щеку и бросает на меня многозначительный взгляд. В эту минуту я вижу Норма ее глазами, его красивую улыбку, доброе лицо и понимаю, что недооценил отца.
— Не забудьте, — кричит он ей на прощанье, когда мы шагаем к двери, — толстяки больше стараются!
С этими словами он хлопает себя по животу, и от его хохота дребезжат оконные стекла.
Мы молча выходим на Бродвей, в ветреную осеннюю темноту. Дни давно уже стали короче, но я все равно никак не могу привыкнуть к тому, что темнеет так рано. Мне так хочется, чтобы жизнь замедлилась хоть на минуту. Какие-то подростки на тюнингованном «хаммере» кивают в такт рэпу, оглушительно грохочущему в колонках, и Норм пританцовывает, шаркает ногами и щелкает пальцами. Лицо его раскраснелось от ходьбы, ветер то и дело раздувает волосы, которые за ушами торчат как солома. Норм шагает по тротуару, словно дервиш, откровенно разглядывает женщин, кивает прохожим и здоровается со швейцарами так, будто весь квартал принадлежит ему. Когда я был маленьким, мне так и казалось. Теперь же я задаюсь вопросом, действительно ли он знал всех и каждого, как мне запомнилось, или всегда был таким же самовлюбленным индюком, как сейчас, а у меня просто не хватало мозгов это понять. У меня до сих пор голова кругом от нашего разговора. Я не собирался распахивать перед ним душу и сейчас испытываю смутное разочарование. Я всегда мечтал — точнее, даже планировал, — как в один прекрасный день Норм вернется, раскаивающийся, без гроша в кармане, и увидит, что я добился успеха во всем, что ему не удалось. Я состоятельный бизнесмен, у меня красавица-жена, может, даже дети. Я забуду обиды, прощу его и выпишу солидный чек, чтобы помочь ему поправить дела. Дорого бы я дал, чтобы посмотреть, как вытянется его лицо, когда он увидит сумму! И вот он наконец пришел — как по заказу, а я, вместо того чтобы хвастаться успехами, рассказываю ему, до чего у меня все плохо. Понятия не имею, как ему удалось вызвать меня на откровенность, да это уже и неважно. Мечте конец. Глядя, как он вышагивает рядом со мной с таким гордым видом, будто возглавляет оркестр на параде, явно довольный, что ему удалось сломить мое сопротивление, я чувствую, как в душе поднимается, точно ртуть в градуснике, горькая обида, и если он посмеет сейчас на меня взглянуть, если только отважится осветить своей торжествующей улыбкой мрак моей пещеры, клянусь, я его с радостью придушу.
И поверьте, постоянно видеть его непрекращающуюся эрекцию — удовольствие ниже среднего.
Глава 18
Утро. Добрый доктор Сандерсон предупреждал, что несколько дней после процедуры, возможно, будет немного неприятно мочиться. Оказывается, он еще приуменьшил. Меня пронзает жгучая боль, как будто я писаю расплавленным свинцом. Согнувшись пополам над унитазом, я испускаю сдавленный крик, моча брызжет на пол и мне на ноги. Та малость, которая все-таки попадает в унитаз, темна от крови. Пошатываясь, я забираюсь под душ, писаю под водой, тихонько постанывая, и чувствую, как пустеет мочевой пузырь. Последние капли выходят, словно осколки стекла, и боль тут же стихает, как по волшебству.
Что-то мне подсказывает, что сегодня меня ожидает не лучший день.
Вот так оно и бывает. Приходишь на работу, и все кажется чужим. Разумеется, на самом деле ничего не изменилось, но ощущение, словно попал в незнакомое место. Как будто офис заменили на его точную копию. Как обычно, здороваешься с коллегами, шагаешь мимо похожих на пчелиные соты ячеек к своей кабинке, плюхаешься на потрепанное эргономичное кресло с решетчатой спинкой, копию работы известного немецкого дизайнера, и недоуменно оглядываешься по сторонам. Все тот же стол Г-образной формы, тот же монитор с клавиатурой, металлическая подставка для документов, радиотелефон и портрет Хоуп в стильной рамке, которую она купила специально для тебя, потому что не могла допустить, чтобы ты приколол ее фотографию к стене кабинки вперемешку с распечатками разнообразных данных по компьютерному дизайну, присланных техническим отделом. Вот и все. Это и есть то место, которое ты ухитрился отвоевать за без малого десять лет в компании. Мигает автоответчик; компьютер пиликает с завидной регулярностью, сообщая, что пришло новое письмо, и этот ритмичный звук действует на нервы. Вот об этой работе ты рассказывал бы в интервью «Энтертейнмент уикли» как о каторге, на которой ты гнул спину, пока не реализовал мечту стать сценаристом. На что она еще годится, кроме этого?
Глухой топот моих коллег, спешащих к своим кабинкам, сливается в равномерный гул. Я в ступоре таращусь на стену и жду, пока что-нибудь произойдет, Вселенная даст знак, который подтолкнет меня в том или другом направлении. Взгляд падает на фотографию, на которой мы с Джедом и Раэлем в смокингах и галстуках-бабочках стоим у барной стойки на свадьбе Раэля и Тамары: Раэль в середине, счастливый, раскрасневшийся от волнения и почти трезвый; сбоку Джед, как всегда безупречный, словно юный Джеймс Бонд; с другого края стою я, как две капли воды похожий на официанта, если бы не потрепанная бутоньерка на лацкане.
Привет, Раэль. Какого черта я тут делаю?
Я ловлю себя на том, что не могу думать ни о чем, кроме рака и головокружительной карьеры в какой-нибудь другой сфере. Нервное возбуждение сказывается дрожью в ногах; я барабаню пальцами по столу и понимаю, что не хочу закончить, как Клэй, не хочу дойти до белого каления из-за того, что моя карьера в несуществующей отрасли складывается ни шатко ни валко. Я хочу заниматься тем, что мне интересно. Трясясь от волнения, я сижу за столом и таращусь в пространство, и какие-то смутные мысли зловеще роятся в моей голове. Такое ощущение, будто мозгам стало тесно в черепной коробке, а внутренности распирают туловище. Внезапно меня охватывает клаустрофобия в тесных стенках моей кабинки, и я понимаю, что пора отсюда сваливать.
По мобильному звонит Тамара.
— Я почувствовала, что у тебя что-то не так, — говорит она.
— Ты даже не представляешь, как ты вовремя.
— Что случилось?
— Меня все достало, — отвечаю я.
— Я внизу.
— Ура.
Тамара ждет меня в фойе. На ней джинсы, длинный кардиган с поясом и ботинки на каблуках, которые прибавляют к ее росту добрых пять сантиметров. Я бросаюсь к ней в объятия. Я заметил, что последнее время мы стали обниматься как-то иначе. Если раньше мы сразу же разжимали руки, то теперь стоим, обнявшись, чуть дольше и теснее приникаем друг к другу. А еще Тамара как-то по-особенному прижимается щекой к моей щеке и кладет руку мне на плечи так, чтобы обхватить меня за шею — жест многозначительный, даже несколько вызывающий. Это уже не просто объятия, это невербальное выражение… да, собственно, чего? Этого я не знаю, но то, что она вот так меня обнимает, пугает и возбуждает, и пусть мы никогда не обсуждали это с Тамарой, ни разу, такие объятия вошли у нас в привычку. Они ни секунды не случайны. Это не приветствие и не прощание: они сами по себе цель.
— Как все прошло? — спрашивает она меня.
— Пока непонятно, — отвечаю я. — Кажется, что-то нашли.
С мелочным эгоистичным удовольствием я замечаю, как Тамара меняется в лице.
— Что? — тихо уточняет она.
Я рассказываю ей про пятнышко и биопсию, умолчав о кровавых подробностях процедуры.
— То есть, может, ничего страшного? — заключает Тамара.
— Статистика в мою пользу, — соглашаюсь я.
— Ты так говоришь, будто это плохо.
Я бросаю на нее взгляд.
— Я пошел к врачу, чтобы мне сказали, что у меня ничего нет. Тебе не кажется, что с точки зрения статистики это было бы гораздо лучше?
— Понимаю, о чем ты, — она слегка улыбается. Почему-то сегодня я не могу оторвать от нее глаз, рассматриваю каждую малейшую черточку вместо того, чтобы видеть целое.
— Чего ты? — смущается Тамара. — У меня что-то между зубов застряло?
— Нет, — отвечаю я. — Просто ты сегодня отлично выглядишь.
Она расплывается в польщенной улыбке.
— Ты так говоришь, потому что это правда, — покраснев, замечает Тамара.
У меня звонит телефон. Я не беру трубку, дожидаясь, пока сработает автоответчик.
— Шифруешься? — Тамара удивленно поднимает брови.
Посредники всегда шифруются.
— Просто я сегодня не в настроении.
Тамара берет меня за руку и ведет за собой к выходу.
— Тебе нужно пройтись по магазинам, — заявляет она.
Тамара с видом знатока перебирает вешалки с нарядами в отделе вечерней одежды в «Блумингдейле», снимает платья и вешает на руку, передавая мне, когда их гора грозит рухнуть на пол, и, не умолкая ни на минуту, доказывает, что с точки зрения статистики шансы в мою пользу.
— Это может быть что угодно, — настаивает она, — камень в почке, трещина в мышце, миллион других мелочей.
Опытное ухо может различить в ее речи еле уловимый акцент уроженки Нью-Джерси; и хотя Тамаре почти удалось от него избавиться, но чуть более мягкое «р» и растянутые гласные выдают юность с фастфудами, начесанными и налаченными челками и альбомами Бон Джови. Говорок становится явственнее, когда Тамара чем-то взволнована, рассержена или, как сейчас, проявляет материнскую заботу. Мне втайне всегда приятно слышать, как шероховатые звуки срываются с ее языка, — и осознавать, что я один из немногих, кто знает ее такой.
— Я знаю, — отвечаю я.
— Не спеши с выводами, — продолжает Тамара. — А то доведешь себя до белого каления.
— Я не могу не думать о том, что это что-то серьезное. Слишком гладко последнее время у меня все складывалось. Такое чувство, будто расплата не за горами.
Мы направляемся к примерочным.
— Нельзя так мрачно смотреть на жизнь, — хмурится Тамара. — Что толку стараться стать счастливым, если постоянно будешь оглядываться, дожидаясь, когда же придется расплачиваться по счетам?
— А что конкретно мы ищем? — спрашиваю я ее сквозь дверь, стараясь не думать о том, как она сейчас снимает и надевает платья.
— Платье для твоего праздника.
— Какого еще праздника?
Дверь распахивается, и выходит Тамара, поправляя обтягивающее черное коктейльное платье.
— Для твоей помолвки. Как ты помнишь, у тебя в субботу помолвка.
— Ах да, — вспоминаю я.
— Ты забыл про собственную помолвку?
— На секунду.
Тамара с любопытством смотрит на меня и явно собирается что-то сказать, но молчит.
— Ей с тобой очень повезло, Зак, — криво улыбается она.
Тамара возвращается в примерочную, и не успеваю я оглянуться, как она перекидывает платье через дверь. Как ей удается так быстро раздеваться?
— Застегни мне молнию, пожалуйста, — просит она.
О боже.
Я захожу в кабинку; Тамара поворачивается ко мне спиной и критически разглядывает платье в зеркале. Я берусь за молнию; платье чуть отстает от спины, нечаянно открывая моим глазам изгиб, где талия переходит в ягодицы, и я вижу два крутых бугорка, прикрытых тонкими трусиками. Я тяну молнию вверх, вдоль нежно-кремовой спины и чуть выступающих лопаток, и чувствую, как у меня дрожит рука. Застегнув платье, я поднимаю глаза и ловлю в зеркале пристальный взгляд Тамары, которая смотрит на меня со странным выражением на лице. Несколько секунд мы стоим, глядя друг на друга в отражении; наконец она поворачивается ко мне лицом.
— Что скажешь? — спрашивает Тамара как ни в чем не бывало. — Не слишком откровенное?
Я отступаю на шаг назад и с видом критика оглядываю ее с головы до ног.
— Откровенное — это еще мягко сказано.
— Даже так? — польщенно тянет Тамара. — Значит, то, что нужно.
Из магазина мы выходим к полудню и шагаем в центр, ко мне на работу. Холодный октябрьский ветер хлещет нас по щекам. Улицы запружены толпой спешащих на обед или с обеда офисных служащих; они мрачно смотрят прямо перед собой, поднимая глаза лишь на переходе, чтобы смерить взглядом очередное пропускающее их такси.
— Мне пора домой, — сообщает Тамара, посмотрев на часы. — Силия сидит с ребенком, и я обещала ей вернуться к двенадцати.
— Где ты припарковалась?
— У тебя за углом.
— Ты опоздаешь.
— Я всегда опаздываю. Не веришь, спроси ее.
— Вы не ладите?
— Ладим, насколько вообще это возможно с матерью покойного мужа, особенно если у нее такой властный характер, — отвечает она.
— То есть нет, — резюмирую я.
— Пожалуй, так. Они с Полом постоянно проверяют, как там Софи, будто я не способна за ней ухаживать без помощи Раэля. Может, мне это только кажется, но рядом с ними я чувствую себя так, словно больше не имею права на счастье. Как я могу радоваться жизни, когда их сын умер?
— А такое случается?
— Что?
— Тебе бывает хорошо?
— Иногда, — вздыхает Тамара.
К офису «Спэндлера» мы подходим под дождем — не сильным, так, чуть моросит. На Шестой авеню сумрачно и промозгло. Тамара дрожит без пальто под козырьком здания, обхватив себя руками, чтобы согреться; пакет с платьем зажат у нее между коленями. Я неуверенно заглядываю в фойе.
— О чем ты думаешь? — спрашивает Тамара.
— О том, что мне ужасно не хочется возвращаться на работу, — признаюсь я.
— Ты волнуешься из-за биопсии.
— Разумеется, волнуюсь. Я не хочу умирать. Тамара сжимает мою руку.
— Зак… Ты не умрешь.
Я киваю.
— Все вдруг стало так сложно.
— О чем ты?
— Не знаю, — вздыхаю я. — Жизнь, работа, женитьба. Такое ощущение, будто все это потеряло смысл.
— Ты же только что говорил, как все здорово складывается, — возражает Тамара.
— Я так думал, — не отрицаю я. — Но теперь все иначе. Я столько всего хочу в жизни успеть, а вместо этого занимаюсь чем-то другим. Если я умру, мои мечты так никогда и не сбудутся.
— И что ты собираешься делать?
— Не знаю, — признаюсь я. — Пожалуй, лучше мне сбежать отсюда на несколько дней, чтобы хорошенько все обдумать.
— Будешь до пятницы сидеть дома и ждать результатов анализов? — переспрашивает она. — Так и свихнуться можно.
— Здесь я еще скорее свихнусь, — замечаю я. — Еще чуть-чуть — и начну на людей бросаться.
Тамара встает передо мной и берет меня за руки.
— Зак, — тихо произносит она. — По-моему, ты преувеличиваешь.
Я смотрю в ее большие темные глаза, скольжу взглядом по нежным изгибам ее губ. Почему меня сегодня так тянет к ней?
— Боюсь, я еще преуменьшаю.
Тамара понимающе улыбается.
— Все будет хорошо, — успокаивает она. — Я в этом уверена.
— Возможно, — отвечаю я. — Но пока все не выяснится, я не хочу здесь находиться.
— Не хочешь — не надо, — соглашается Тамара.
Ее лицо разрумянилось от дождя; она приплясывает на месте, чтобы согреться, и выглядит при этом обворожительно. Меня охватывает нежность.
— Ты лучшая в мире, — признаюсь я.
Она улыбается, делает шаг ко мне, и мы снова заключаем друг друга в наши фирменные объятия. Я вдыхаю свежий запах миндального шампуня и душистого мыла.
— Все будет хорошо, — шепчет она мне на ухо и чмокает в висок.
И тут я без предупреждения поворачиваю голову и прижимаюсь к ее губам. Мы целуемся, приоткрыв рот, почти не касаясь друг друга языками. Может, впоследствии мне бы удалось объяснить все это случайностью, если бы я вдобавок не гладил прохладную, влажную щеку Тамары. Ее соблазнительные, словно созданные для поцелуев губы как будто машинально охватывают мои, открываются им навстречу, хотя я вовсе не уверен, что она отвечает на мой поцелуй. Ритмичный стук дождевых капель прерывает только шуршание шин такси, проезжающих по лужам. Наконец я отрываюсь от Тамары, она смотрит на меня с изумлением, чуть приоткрыв рот.
Минуту мы не сводим друг с друга глаз, мои губы горят от нашего поцелуя. Наконец Тамара медленно кивает, словно отмечает в памяти случившееся, смущенно улыбается и спрашивает:
— Что это было?
В ее голосе не слышно раздражения — лишь приятное удивление и любопытство.
— Сам не знаю, — отвечаю я. — Мне вдруг показалось, что это нужно сделать.