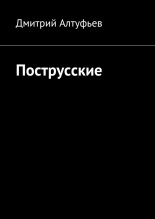Все к лучшему Барановская Юлия
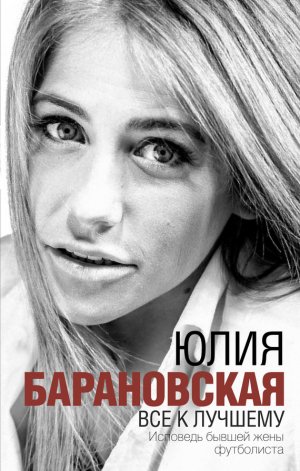
— Не высовывай язык.
— Ладно.
— Ты же мальчик, а не собака.
— Я не мальчик, я мужчина.
Мама кивает и расплывается в ласковой улыбке:
— Прости, дорогой.
Пит смеется и кидает мне мяч, приглашая снова включиться в игру.
— Бросай повыше, — говорит он.
На крыльцо выходит Норм и оглядывает нас с неприкрытым удовольствием.
— Ну что, поехали поговорим насчет машины, — предлагает он.
Норм чертовски горд собой, не скрывает ликования и расценивает эту ничем не примечательную семейную сцену как личный триумф, и я едва сдерживаюсь — так хочется засветить ему мячом в лицо.
Семья Сатча держит хозяйственный магазин. Вообще-то добропорядочный торговец не стал бы продавать Питу машину. Я запомнил Сатча высоким, крепко сбитым, с жесткими темными волосами и суровым взглядом. В лысеющем типе с туповатым лицом, который докуривает сигарету под зеленым козырьком магазина, не наберется и ста восьмидесяти сантиметров роста. Но из закатанных рукавов фланелевой рубашки торчат волосатые мускулистые руки, а роспись на щуплых руках Мэтта, которая, как мы надеялись, должна была произвести на Сатча угрожающее впечатление, бледнеет перед татуировкой с девизом морской пехоты. Редеющие волосы пострижены ежиком, отчего голова Сатча кажется квадратной, а грубые скулы наводят на мысль о том, что бить его так же больно, как и получить от него сдачи.
— Привет, Сатч, — здороваюсь я.
— Как дела, Зак? — он пожимает мне руку. — Сто лет не виделись. — Судя по голосу, он меня ждал. — Послушай, — произносит он, оглядывая Мэтта и Норма, прислонившихся к машине, которую Норм вопреки правилам припарковал на автобусной остановке перед магазином. — Пит отличный парень. Не подумай чего, я сам всегда стараюсь покупать обувь только у него в магазине. Машина две недели стояла с табличкой «продается». Пит каждый божий день заглядывал ко мне и просил продать ему тачку, а я только посмеивался в ответ. Но потом он на полном серьезе явился с чеком на мое имя. Сказал, что собирается получать права. Раз уж он работает, так почему бы ему не сдать на права, верно? Откуда мне было знать? Не подумай чего, но я ему сразу дал понять: если что, деньги не верну.
Ненавижу людей, которые начинают предложение с фразы «не подумай чего». Что это вообще значит?
— Понятно, — соглашаюсь я. — Поэтому я сам приехал, чтобы с тобой поговорить. Пит очень хорошо о тебе отзывается. Он по-своему смышлен, и я верю, что ему удалось тебя убедить, будто ему могут дать права. Но это не так, и машина ему совершенно не нужна, поэтому мы хотели бы по-доброму ее вернуть и списать все на недоразумение.
Сатч на мгновение задумывается, пытаясь понять, что происходит.
— Если хочешь, я помогу Питеру сбыть ее с рук, — наконец предлагает он.
— Мы здесь не для того, чтобы просить тебя о помощи, — поясняю я. — Мы приехали вернуть машину, которую по-хорошему вообще не следовало ему продавать.
— Извини, конечно, — хмурится Сатч, — но я с Питером четко договорился и обратно товар не возьму.
— Не подумай чего, Сатч, — насмешливо тянет Мэтт, — но мы не собираемся тебя упрашивать. Машину мы тебе вернули. Отдавай деньги.
— Помолчи, — быстро обернувшись к Мэтту, отрезаю я, — сейчас разберемся. — Я с извиняющейся улыбкой поворачиваюсь к Сатчу. Это же переговоры, а если я что и умею, так это договариваться на равных. — Я понимаю, что, поскольку машина два дня не была в продаже, ты, возможно, потерял нескольких потенциальных покупателей. Мы готовы уступить тебе пятьдесят баксов за доставленное беспокойство. Идет? По-моему, это справедливо.
На лице Сатча мелькает легкая улыбка. Он понял, куда я клоню, и готов мне подыграть.
— Я возьму ее обратно за пять сотен, — кивает он.
— Пошел ты, — фыркает Мэтт.
— Девятьсот, — предлагаю я.
— Пятьсот пятьдесят.
— Начнем с того, что у тебя вообще не было никакого права продавать ему машину, — замечаю я. — Восемьсот пятьдесят, и это мое последнее слово.
— Шестьсот, — настаивает Сатч. — Кто вообще открыл умственно отсталому банковский счет?
— Хватит! — выкрикивает Норм, подходит к нам и окидывает Сатча презрительным взглядом. — Не могу больше это слушать. Вам должно быть стыдно за то, что вы обманули больного человека. Я этого так не оставлю и не позволю вам его унижать. Вы не только должны нам тысячу долларов: вы обязаны перед нами извиниться. Впрочем, без ваших извинений я как-нибудь обойдусь, учитывая, кто передо мной, но без денег не уйду. Так что решайте: либо вы отдадите нам их по-хорошему, либо мы сами возьмем. У меня нет времени на пустые разговоры.
Сатч вразвалку подходит к Норму и встает прямо перед ним.
— А это еще кто такой?
— Я отец Пита, — отвечает Норм. — Я знал вашего отца, Джорджа. В семидесятых я помог ему заколотить досками вон ту витрину, когда хулиганы разбили стекло. И я уверен, он согласился бы со мной, что вы обязаны взять машину и вернуть нам деньги.
— Слышь ты, отец Пита, — ухмыляется Сатч. — Джордж — мой дед, а не отец. Если хочешь, можешь навестить его в доме престарелых и все ему рассказать. Правда, едва ли в его плотном графике найдется для тебя минутка: он только и делает, что пачкает штаны да спрашивает, как его зовут.
— Сочувствую, — с достоинством произносит Норм, делает шаг к Сатчу, так что его живот упирается в ремень этого типа, и пристально смотрит ему в глаза. — Ладно, хватит трепаться. Верните нам деньги моего сына.
— Черт! — Сатч отшатывается назад. — Ты что, трешься членом о мою ногу? — И действительно, в штанах Норма торчит бугорок. — Извращенец!
— Да! — орет в ответ Норм, выпучив глаза и оскалив зубы. — Я извращенец и просто тащусь от всякого дерьма. А больше всего мне нравятся такие козлы, как ты, так что лучше отдавай мои деньги, да побыстрее.
— Да пошел ты! — Сатч грубо толкает Норма, тот теряет равновесие и плюхается на задницу.
— Не смей его трогать! — рычит Мэтт, прыгает Сатчу на спину, обхватывает его руками за шею, и все летит ко всем чертям.
Мэтт успевает пару-тройку раз врезать Сатчу в висок, после чего этот верзила резко пятится назад и впечатывает голову Мэтта в облицованную кирпичом стену магазина. Сатч пытается схватить Мэтта за волосы и сдирает с него парик, а Мэтт падает на землю.
— Что за фигня? — с отвращением произносит Сатч, переводя взгляд с парика на лысую голову Мэтта.
Тут я, воспользовавшись замешательством противника, пинаю его в пах, пусть не сильно, зато метко. Сатч оборачивается ко мне, но от боли у него подкашиваются ноги, и он падает на колени, а от второго удара, в грудь, валится на землю. Я прыгаю на него, одной рукой хватаю за рубашку, а второй молочу по лицу и никак не могу остановиться — даже когда на третьем или четвертом ударе чувствую, как ломается его нос, даже когда мне в лицо брызжет его кровь и я ощущаю ее медный привкус во рту, распахнутом в долгом первобытном крике, даже когда кулак пронзает такая боль, словно я размозжил руку о череп Сатча, даже когда он перестает отбиваться. Потому что, несмотря на всю боль и ужас происходящего, я получаю огромное удовольствие от драки, словно от долгожданного освобождения или первого жадного глотка воздуха, после того как выныриваешь из темной глубины на поверхность, и ощущение это не проходит, даже когда Норм с Мэттом оттаскивают меня от Сатча, даже когда я блюю на тротуар, даже когда приезжает полиция с сиренами и мигалками, патруль надевает на нас наручники и запихивает на заднее сиденье машины.
Глава 24
Мама с Питом приехали забрать нас из участка на ее «хонде сивик». Норм устроился на переднем сиденье — уж не знаю, случайно или по старой привычке, — а мы с братьями расположились сзади. Кажется, будто семейство Кинг едет на обычный пикник, вот только пузыри со льдом предназначены не для картофельного салата с мясом, а для моего опухшего, ноющего кулака и фиолетовой шишки на голове Мэтта. Несколько часов назад я с замиранием сердца наблюдал, как врачи «скорой» вынимали осколок зуба, застрявший между моими окровавленными костяшками, потом наложили три шва и забинтовали рану. Мэтт изо всех сил старается удержать на голове парик, прижимая лед к шишке размером с мяч для гольфа. Радует одно: все обвинения с нас сняли.
Норм в своей обычной шутливой манере заговорил с заднего сиденья с полицейским, который нас арестовал, Джимом Шихеном, и сообщил, что когда-то они с отцом Джима по очереди подвозили друг друга, давным-давно, когда Норм еще жил в Ривердейле. Оказалось, мистер Шихен-старший скончался в прошлом году, и добрые слова Норма о покойном, похоже, тронули его сына. Выслушав рассказ Норма о том, что произошло, Шихен оставил нас в кабинете и отправился пообщаться с сидевшим в соседней комнате потерпевшим, над которым хлопотали врачи. Два часа спустя Шихен вернулся, договорившись с Сатчем, что тот не будет выдвигать против нас обвинения, если мы согласимся забрать «мустанг» и не требовать с него денег. Судя по словам Шихена, мне показалось, что тому пришлось надавить на Сатча, чтобы добиться своего.
— Не подумайте чего, — на прощанье сказал нам Шихен, — но он, конечно, редкая сволочь, что продал вашему сыну машину. Надо было его еще не так отделать.
И вот мы, обломки одной семьи, временно собрались вместе в «хонде» Лилы, не представляя, как склеить то, что было разбито, во что может вылиться наше воссоединение и нужно ли это нам вообще. Неловкая тишина окутывает нас, Лила включает радио, и Пит в одиночку самозабвенно подпевает Дейву Мэтьюсу. Я прошу маму отвезти нас на Джонсон-авеню, где оставил машину Джеда. С минуту мы стоим вокруг автомобиля, пытаясь понять, кто с кем поедет и кто где сядет. Наконец Норм предлагает выбраться куда-нибудь поужинать, но этого я уже не вынесу: у меня внутри до сих пор все дрожит, а в голове, точно на закольцованной записи, крутятся картины драки. Я отвечаю, что мне пора возвращаться, а у Мэтта концерт. Тогда Норм решает отправиться с Лилой и Питом домой на «мустанге» и поужинать там. Но сперва благодарит нас с Мэттом за то, что «поддержали» его во время разборки с Сатчем.
— Вот так команда! — восклицает он, раздуваясь от гордости. — Кинги — короли ринга!
Да, мы такие. Кинги — короли ринга. Берем не силой, так непредсказуемостью: тут стратегически выставим напоказ эрекцию, там неожиданно сверкнем лысиной, захваченный врасплох противник отвлекается на этот паноптикум и получает по голове. Норм восхищается нашими плевыми ранами, совершенно забыв о том, что дрались мы из-за Пита, а не из-за него, и что деньги нам вернуть так и не удалось. Как обычно, Норм оценивает успех по масштабам произведенной шумихи, а не по результату. Чего еще ждать от человека, для которого само путешествие всегда было важнее пункта назначения.
Мы с Мэттом стоим на обочине и, морщась от боли, смотрим вслед нашим родителям — зрелище, еще сегодня утром казавшееся немыслимым. Норм объявился всего несколько дней назад, надеясь на быстрое примирение — план, граничивший с бредом, — и вот вам пожалуйста: без труда включился в жизнь семьи, как будто никуда не уходил. «Неужели все может быть так просто?» — недоумеваю я. Неужели можно, наплевав на причиненную тобой боль и былые обиды, сломить чужое сопротивление и переиграть все по-новому, с пользой для себя? Есть в этой мысли что-то притягательное, что заставляет меня остановиться и задуматься над собственными проблемами. Быть может, мне не хватает дурацкого упрямства. Еще вчера я бы не подумал, что способен на такое, но сегодня все иначе. Теперь я из тех, кто дерется на улицах, кого возят в наручниках в полицейской машине, у кого из костяшек врачи вытаскивают осколки чужих зубов.
Вот только дрожь никак не унимается.
— Знаешь что, — говорю я Мэтту, который стащил с головы парик Элтона Джона и осторожно потирает ушибленный висок. — Отвези-ка ты машину обратно в город, мне еще кое-что нужно сделать.
— Здесь? — недоверчиво уточняет Мэтт.
— Хочу проведать Тамару и Софи.
Он забирает у меня ключи и нажимает на кнопку. Мигают фары, замки открываются, и «лексус» заводится.
— Как у нее дела? — интересуется Мэтт.
— У кого?
— О ком мы говорим?
— У нее все в порядке, — отвечаю я.
Мэтт бросает на меня понимающий взгляд.
— А у тебя?
— Жить буду, — я поднимаю разбитый кулак.
— Я не об этом.
Я смотрю ему прямо в лицо и глазами признаюсь в том, что не могу сказать вслух.
— Я догадался, — говорю я.
— Когда Хоуп возвращается?
— Завтра днем.
— А…
В открытом взгляде Мэтта читается сочувствие, и меня так и подмывает излить ему душу. Как было бы здорово произнести это вслух, чтобы слова стали чуть-чуть реальнее, чуть-чуть правдоподобнее, но я знаю, что этого не будет.
— Подвезешь? — вместо этого спрашиваю я.
Мэтт смотрит на меня и пожимает плечами.
— Разумеется.
На мой взгляд, Мэтт едет слишком быстро: гонит во весь дух на прямой дороге и на высокой скорости входит в повороты.
— Может, когда-нибудь потом, — говорю я, заполняя пустоту невысказанного признания, когда мы подъезжаем к дому Тамары. Мэтт с любопытством следит, как я вылезаю из машины, и кивает, расплываясь в широкой детской улыбке, которую я так редко вижу у него.
— Поживем-увидим, — с этими словами Мэтт отъезжает от тротуара и исчезает в сгущающихся сумерках.
Глава 25
— Вот уже неделю мне снится один и тот же сон, — рассказывает Тамара. — Как будто я среди ночи захожу в ванную и понимаю, что забыла там Софи. Включаю свет и вижу, что она плавает лицом вниз. Она лежит там уже несколько часов. Я вытаскиваю ее из ванны, пытаюсь привести в чувство, трясу ее, делаю искусственное дыхание, но она холодная и тяжелая, как будто пропиталась водой. Я понимаю, что она умерла и в этом виновата я.
Мы с Тамарой сидим на синем кафельном полу, а Софи весело плещется в ванне. Тамара положила мою больную руку к себе на колени и прижимает к ней пакетик со льдом. Светлые волосы Софи прилипли к голове и от воды кажутся гораздо темнее, пухлые щечки разрумянились. Девочка мурлычет себе под нос: «Винни-Пух, Винни-Пух, глупый милый медведь».
— Но самое интересное, — продолжает Тамара, — что каждый раз я вздрагиваю от ужаса, хотя в глубине души знаю, что это всего лишь сон, и удивляюсь, как же я снова могла так ошибиться, ведь я уже знаю, чем все закончится. — Взгляд ее туманится при мысли об этом, и она смущенно улыбается. — Даже в собственных снах я плохая мать.
— Эти сны — лишь отражение твоего страха оказаться плохой матерью, — успокаиваю я. — По-настоящему плохие матери никогда не боятся, что они плохие. Так что, как видишь, это доказывает, что на самом деле ты хорошая мать.
Тамара ласково улыбается мне.
— Что бы я без тебя делала?
— Даже и не знаю, — отвечаю я и думаю: «Была бы счастлива и не овдовела бы?»
Потому что без меня Раэль никогда не поехал бы в Атлантик-Сити, или, если бы я отказался, уговорил бы Джеда, и тот отвез бы его на своем «лексусе», или миллион других возможных сценариев, между которыми нет ничего общего, кроме итога: роковой аварии не было бы. Похоже, Тамара догадалась, о чем я думаю, потому что в ее глазах мелькнула грусть, и она отвернулась, оставив меня наедине со своими мыслями.
Нет ничего чище двухлетней малышки, которая плещется в ванне. Софи встает на коленки, чтобы посмотреть поверх края ванны на мою руку, и нечаянно брызгает на пол водой, намочив Тамарины шорты.
— У Запа бо-бо? — спрашивает девочка.
— Да, — отвечает Тамара. — У Запа бо-бо.
— Дай чмокну.
Я поеживаюсь при мысли о том, что розовые кукольные губки Софи коснутся моего ободранного распухшего кулака, покрытого синяками и запекшейся кровью, но Тамара улыбкой подбадривает меня, и я протягиваю руку, стараясь наклонить ее так, чтобы малышка не достала до раны. Софи сжимает мою ладонь маленькими влажными ручками и внимательно ее разглядывает.
— Ой, — изумленно тянет она. — У Запа большая бо-бо.
Я сижу на мокром полу нога к ноге с Тамарой. Когда Софи наклоняется и принимается с серьезным видом целовать мою руку, я с трудом сдерживаю слезы, столько во всем этом невинности и красоты — в лице и позе Тамары, в щечках с ямочками и ясных глазках Софи. Весь их мирок в этой маленькой ванной, и больше всего на свете мне хочется стать его частью, жить их нехитрой одинокой жизнью. Я бы любил Тамару и растил вместе с ней Софи, переехал бы к ним, оставил прежнюю унылую жизнь. Сейчас это кажется настолько реальным, настолько возможным, что я чувствую, будто мог бы просто остаться здесь навсегда и никуда не уходить, а все остальное как-нибудь образуется.
— Зак?
Тамара обеспокоенно смотрит на меня, и я осознаю, что на лице моем отражается больше чувств, чем я думал. Я силюсь улыбнуться, понимаю, что улыбка получилась вымученная, и убираю руку из ладошек Софи. Откидываюсь на стену и прислоняюсь к Тамаре; она обнимает меня.
— У меня был трудный день, — признаюсь я.
— Теперь пусть мама чмокит, — настаивает Софи.
Тамара с улыбкой подносит мою руку к губам.
— Вот, — шепчет она, целуя мои костяшки. — Уже не болит.
Софи стоит в кроватке в углу своей синей детской и руководит мной, чтобы я выполнил все необходимые церемонии, прежде чем уложить ее спать. Когда Тамара была беременна, она не хотела выяснять, кто родится, мальчик или девочка: боялась сглазить. До самых родов наотрез отказывалась покупать вещи для малыша; ей казалось, что, если заранее узнать пол ребенка, непременно случится беда. Но Раэля это не смущало. Эхограмма показала, что вроде бы будет мальчик, и Раэль, который любил все делать заблаговременно, купил в детскую темно-синий ковер, такие же шторы и подушки для кроватки. Родилась девочка. Тамара пожала плечами и заявила, что так ему и надо, надеясь, что неправильный цвет отведет дурной глаз. В спальне Софи не хватает теплых розовых оттенков, типичных для комнаты маленькой девочки, поэтому Тамара разбавила холодный декор кремовым постельным бельем и стегаными шариками на стенах.
— Чашку, — требует Софи, протягивая руку. Я подаю ей чашку, девочка делает символический глоток и аккуратно ставит чашку на перила кроватки.
— Соску, — говорит она. Я протягиваю ей соску, малышка засовывает ее в рот и мягко опускается на подушку.
— Одеяка с Винни.
Я укутываю ее в одеяло с Винни-Пухом. Софи переворачивается на бок, обнимая подушку своими маленькими пухлыми руками.
— Гладь ме спику, — просит она.
Я поглаживаю ее по спинке в махровой пижаме, и девочка закрывает глаза. Лицо спящей Софи кажется составленным из кружков: пухлая щека, закрытый глаз, сжатые губки. Легкая, чистая прелесть, не омраченная ни заботой, ни дурными мыслями. Любуясь ею, я чувствую, как ярость в душе утихает. В приливе нежности я легонько провожу пальцами по щеке Софи.
— Я люблю тебя, маленькая, — шепчу я.
Дыхание девочки замедлилось, стало ровным:
Софи уснула. Я встаю на колени, чтобы послушать, как она дышит, и у меня перехватывает горло. На глазах неожиданно выступают слезы, бегут по моим щекам и падают темными пятнышками на синий ковер.
— Что мне делать? — шепчу я ей в тихом полумраке спальни.
Я смотрю, как она спит, сквозь вертикальные прутья кроватки, словно я заключенный, который старается разглядеть солнце в крохотное окошко камеры. Софи — все, что есть светлого в моей жизни, и она даже не моя.
Тамара просит девушку-соседку побыть с ребенком, чтобы отвезти меня домой. Сидя на пассажирском сиденье, я смотрю, как пляшут на тонких чертах Тамары тени от мелькающих дорожных фонарей.
— Что? — смущенно спрашивает она, приглаживая пальцами волосы.
— А что?
— На что ты смотришь?
Если бы я мог сказать правду, я признался бы ей, что ищу изъяны, как это обычно бывает, когда влюбляешься в женщину, которую любить нельзя. Тогда стараешься разглядеть в ней мельчайшие недостатки, представляешь, как она состарится, как поблекнет со временем ее кожа. Ловишь ее в самых неудачных ракурсах, замечаешь, как неловко посажена голова, до чего нелепо торчат руки и ноги. Отчаянно отыскиваешь дефекты, радуешься, если что-то находишь, мысленно раздуваешь их до чудовищных размеров и надеешься, что это поможет тебе освободиться.
Я признался бы, что парализован, что вижу то, до чего не могу дотянуться, испытываю зуд, который мне не унять. Что тело мое как будто онемело. Что каждый день меня мучит безмолвный страх, причина которого как в ней, так и в чужеродной массе, разрастающейся на моем мочевом пузыре. Что я так сильно в нее влюблен, что не могу дышать, и теперь это единственная краска в моем мире, густая, кроваво-красная, по сравнению с которой все остальное кажется черно-белым. Я не хочу жить в черно-белом мире, но ужасно боюсь, что все равно этим все кончится.
Я сказал бы ей, что люблю ее всей душой, что она отвечает самым сокровенным моим желаниям, о которых я раньше даже не подозревал.
Я убедил бы ее, что ничему из этого нельзя верить. У нее своя беда, у меня — своя, она одинока и несчастна, у меня, может быть, рак, а после всего, что ей пришлось пережить, я не имею права так с ней поступать, все это неправильно по целому ряду причин, ничем хорошим не кончится и вообще бессмысленно. Скорее всего, это невероятное совпадение желания и возможности, проекция собственных надежд и страхов, комплекс спасителя, слившийся со скорбью и отчаянием, завернутый в одиночество и перевязанный красной лентой вожделения.
Я признался бы ей: несмотря на то что в это невозможно поверить, я все-таки верю.
Я хочу сказать ей все это. Потому что она и так знает. Если у нее и были сомнения, вчерашний отчаянный поцелуй их наверняка рассеял. Раз она знает, так почему бы мне не признаться ей во всем? Наверно, потому, рассуждаю я, что тогда придется что-то с этим делать, и мы вновь окажемся каждый в своем мирке. Я не могу быть с ней, а если и могу, то она к этому не готова. А что делать, если она готова, а я все равно женюсь на другой? Или я признаюсь ей в любви, и окажется, что она меня не любит? Заговори мы об этом, получится, что мы нарушили еще невысказанное обещание. После такого разочарования едва ли мы сможем относиться друг другу с той чистой нежностью, которая сейчас переполняет нас обоих.
Поэтому я не говорю ничего. Тамара убирает ладонь с рычага переключения скоростей и, как ни в чем не бывало, кладет на мою руку. Остаток пути проходит в многозначительном, но естественном молчании; невысказанные запретные мысли витают между нами в салоне Тамариного «вольво».
Она паркуется вторым рядом перед моим домом, и с минуту мы просто сидим и смотрим в темноту за окнами.
— Мне страшно, — наконец признаюсь я.
— Все будет хорошо, — успокаивает меня Тамара.
— Не только из-за биопсии.
— Тогда из-за чего же?
Я гляжу в ее глаза цвета листьев кувшинки.
— Из-за всего остального.
Она встречает мой взгляд улыбкой.
— Все остальное тоже будет хорошо.
— Откуда ты знаешь?
— Иначе и быть не может, — отвечает она.
— Иногда мне кажется, будто я задыхаюсь, — продолжаю я.
— У меня такое тоже бывает.
— И что ты делаешь?
— Звоню тебе, — говорит она. — Ты для меня кислород.
Я вылезаю из машины, Тамара тоже выходит, чтобы заключить меня в рискованное беззаконное объятие в ослепительном свете ксеноновых фар «вольво». Резкий холод пробирает до костей: наступающая зима понемногу берет верх над осенью, и я, прижавшись к Тамаре, невольно дрожу.
— Ты для меня, — шепчу я.
Тамара смущенно поднимает на меня глаза.
— Что?
— Ты для меня кислород.
— А…
Она целует меня в щеку. Мы стоим, прижавшись лбами, и, устало улыбаясь, смотрим друг на друга. Ее губы мучительно близко, в считаных сантиметрах от моих, но я понимаю, что это будет ошибкой. Спустя мгновение Тамара чмокает меня в подбородок и садится в машину, а я недоумеваю: а вдруг она ждала, что я ее поцелую?
— Позвони мне завтра, — говорит Тамара.
Я обещаю непременно позвонить, ступаю на тротуар и провожаю ее взглядом. Обернувшись, чтобы подняться по ступенькам в подъезд особняка, я с изумлением замечаю в окне гостиной голого по пояс Джеда, который мрачно и сурово смотрит на меня.
— Это была Тамара? — спрашивает он, когда я захожу в квартиру.
Джед, как обычно, сидит на диване и с сердитым видом смотрит «C.S.I.: место преступления».
— Она меня подвезла, — поясняю я.
— Как мило.
— Ты чего?
— Ничего.
— Она всего лишь подбросила меня до дома. Джед делает знак, чтобы я замолчал.
— Меня это не касается, — бурчит он, не отрывая глаз от экрана.
Глава 26
К половине одиннадцатого утра в пятницу я сижу как на иголках. Сегодня доктор Сандерсон должен сообщить мне результаты биопсии. Почему он до сих пор не позвонил? Если бы все было в порядке, он бы, скорее всего, уже позвонил, радуясь возможности избавить меня от мук неизвестности. Если же новости неутешительны, тогда он наверняка подождет, пока у него выдастся свободная минутка, чтобы ответить на мои вопросы и обсудить лечение. Никто не любит сообщать дурные вести. Наверно, за эти годы у него выработался целый ритуал: если результаты анализов хорошие, он немедленно звонит пациенту, а трудные разговоры оставляет на потом и звонит в конце рабочего дня, после приема больных. Садится в дорогое кожаное кресло за стол из красного дерева, отпивает для храбрости глоток виски из бутылки, хранящейся в ящике стола, и принимается звонить тем, чьи дела плохи. Он тоже посредник между лабораторией и пациентами, и пусть он в этом не виноват, но решать проблему все-таки приходится ему. Мы всегда перезваниваем клиенту сразу же, как узнаем, что товар прибыл раньше срока, или нам удалось выяснить недоразумение с поставщиком. Если же все плохо, мы оттягиваем до последнего, а позвонив, надеемся, что клиент окажется занят и нам удастся ограничиться сообщением на автоответчике. Для Сандерсона я Крейг Ходжес, мои раковые клетки — свуши не того цвета, и пусть доктор ни в чем не виноват, все равно он понимает, что разговор будет неприятный.
Черт. У меня рак. Я так и знал.
Я уже раз пять звонил в приемную, но бросал трубку после первого же гудка. Я боюсь нарушить хрупкое космическое равновесие, как будто от моего звонка результаты анализов изменятся. Нет, уж лучше с буддийским спокойствием ждать, пока Сандерсон позвонит сам. Но какое уж тут спокойствие, когда по спине течет холодный пот, ладони влажные и ледяные, а ноги дрожат. Так что я поднимаюсь и иду в душ. Стоя под струями воды, я представляю, как рассказываю Хоуп и Тамаре о своем диагнозе и что за этим следует. Хоуп рыдает, обнимает меня и принимается звонить родителям; поплакав, они с мамой обсуждают, что отец должен найти лучших специалистов и подключить все связи, дабы нас немедленно приняли; все это Хоуп говорит, решительно вздернув подбородок. Тамара, с трудом сдерживая слезы, бросается мне в объятия, заключив всю свою затаенную страсть в бесконечном поцелуе, а потом молча ведет меня в спальню, чтобы мы наконец смогли выразить невысказанные чувства перед предстоящей мне битвой со смертью. И только час или два спустя, после того как мы торопливо и нежно занимаемся любовью, она заливается слезами, спрятав лицо у меня на груди, и мы лежим в отчаянии, обнявшись, голые и мокрые.
Представив себе это, я испытываю такое возбуждение, что никакие грустные мысли не способны его унять. Да пошло оно все к черту, надо же как-то убить время! «Все равно ты болен», — говорю я себе, спустя несколько минут выходя из душа.
В половине двенадцатого я сдаюсь и с кухни звоню Сандерсону. Джед с Нормом в гостиной смотрят CNN.
— Добрый день, — любезно здороваюсь я с секретаршей, как будто ее расположение мне чем-то поможет. — Могу я поговорить с доктором Сандерсоном?
— Представьтесь, пожалуйста, — низким голосом просит она с русским акцентом, выговаривая слова со старательностью новичка.
— Закари Кинг. Мне на этой неделе делали цистоскопию.
— Доктора сейчас нет, — отвечает она.
— Не подскажете, когда он будет?
— В понедельник.
— В понедельник? — изумляюсь я. — Но я должен был созвониться с ним сегодня.
— Сегодня его нет.
— Он в клинике? С ним можно как-то связаться?
— Доктор уехал на выходные, — поясняет она. — Сегодня дежурит доктор Пост. Если хотите, я передам ему ваше сообщение.
Я чувствую, как во мне нарастает паника.
— Послушайте, — говорю я. — Как вас зовут? Секретарша озадачена.
— Ирина, — отвечает она.
— Так вот, Ирина, — продолжаю я. — Результаты моей биопсии должны были быть готовы сегодня. Я не знаю, кто кому должен был звонить: я доктору Сандерсону или он мне. Но я должен был сегодня узнать результаты. Их передадут доктору Посту?
— Нет, — говорит Ирина. — Их доставят сюда.
— Вы не знаете, они уже пришли?
— Конверты с результатами анализов имеют право вскрывать только врачи.
— Поэтому я был бы очень благодарен, если бы вы передали сообщение доктору Сандерсону на пейджер.
— У него нет пейджера, — настаивает она. — И в эти выходные доктора в клинике не будет.
— Но вы ведь наверняка знаете, как с ним связаться.
— Доктор вернется в понедельник, — упорствует секретарша.
— Давайте называть вещи своими именами, — не выдерживаю я. — Вы предлагаете мне все выходные сидеть и гадать, есть ли у меня рак, только потому, что вам лень позвонить доктору?
— Как только доктор узнает результаты анализов, он с вами свяжется.
— Но результаты уже пришли, — я почти срываюсь на крик. — Просто нужно позвонить в лабораторию, или открыть конверт, или что там у вас в таких случаях делают!
— Извините, мистер Кинг, я ничем не могу вам помочь.
Я швыряю телефонную трубку и испускаю вопль отчаяния.
— Зак, что случилось? — окликает меня из гостиной Норм.
Я сажусь на диван к Норму с Джедом и рассказываю о разговоре с секретаршей.
— Что за бред! — Норм возмущенно вскакивает на ноги. — Поехали.
— Куда? — недоумеваю я.
— В клинику.
— Зачем?
— Затем, что при личном общении я куда убедительнее, — поясняет Норм, заправляя рубашку в брюки.
— Что ты собираешься делать?
— Что и всегда, — отвечает он. — Скандалить и бить на жалость.
Я открываю рот, чтобы возразить, и понимаю, что возразить-то мне нечего. За последние несколько дней не раз оказывалось, что слепое упрямство Норма приносит плоды. Что плохого, если теперь оно поможет мне добиться своего? Я постою в сторонке, а Норм пусть сам во всем разберется. Говорят, отцы обычно так себя и ведут.
На пороге мы вдруг слышим, как телевизор замолкает. Я оборачиваюсь и вижу, что Джед встает с дивана, смущенно пожимает плечами и улыбается мне, на время забыв о вчерашнем недоразумении.
— Подождите минутку, я только оденусь, — говорит он.
Мы втроем заходим в приемную, где царит характерное для таких мест гнетущее, тяжелое молчание, или, скорее, сумма отдельных молчаний; пациенты, дожидающиеся, пока их примут врачи, бросают на нас рассеянные взгляды поверх журналов, отмечая наше присутствие, и снова впадают в притворное забытье. Ирина оказывается дородной женщиной средних лет с грустными славянскими глазами и волосатой родинкой на жесткой щеке. На лице секретарши, кажется, навсегда застыло свирепое выражение — вероятно, от долгих лет, проведенных на леденящем ветру суровых российских зим. Но как бы ни была трудна прежняя жизнь Ирины, ей явно не доводилось сталкиваться с типами вроде Норма, который нарушает тишину приемной, точно булыжник, брошенный в пруд, и с точно рассчитанной жестокостью извергает на секретаршу поток бессмысленного юридического жаргона.
— Доктор вернется в понедельник, — отвечает ему Ирина, грозно подняв сросшиеся брови.
Над ее столом висят фотографии и листы с отпечатками детских ладошек, обведенных цветными карандашами, — видимо, подарки от внуков, которые ее до смерти боятся.
— Слушайте меня внимательно, — цедит Норм, нависая над ее столом. — Если вы через пять минут не позвоните доктору Сандерсону, у вас будут серьезные неприятности с законом. Вы готовы за это отвечать?