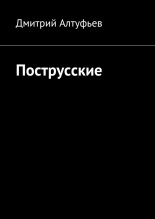Все к лучшему Барановская Юлия
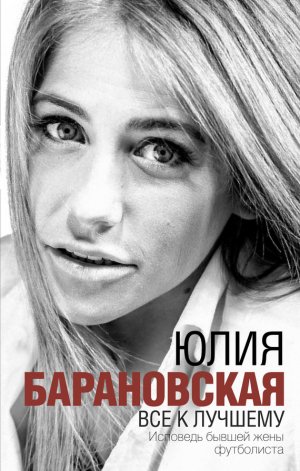
— Офигеть! — выдыхаю я, и мы с Джедом несемся вслед за ними.
Норму почти удается добежать до поля. Четверо игроков внизу замерли как вкопанные и, опустив клюшки, с открытыми ртами таращатся на приближающуюся к ним толпу. Охранники хватают Норма, едва он ступает на газон, и втроем валят его на землю. Как и в первый раз, они летят кувырком по траве, точно перекати-поле, — клубок из рук и ног. Мы с Джедом очертя голову бросаемся вниз, и я на бегу замечаю, как взмывают в воздух дубинки и опускаются на извивающегося на земле Норма. Нам ничего не остается, как ввязаться в потасовку: сцепившись с охранниками, мы, то и дело оскальзываясь, стараемся перехватить их мельтешащие руки, мокрые от травы, и отвести удар. Мы падаем, но не сдаемся, устоять на скользкой траве почти невозможно, и драка продолжается на земле. Наконец нам удается остановить охранников, те орут на нас, чтобы мы перестали сопротивляться, а мы в ответ кричим, что подадим на них в суд за жестокое обращение. На нас с Джедом приходится по одному охраннику, а Норма держат сразу двое. Он стоит между ними на одном колене и тяжело дышит, покрасневшее лицо его забрызгано грязью. Что-то в его позе не так — голова неестественно клонится к плечу. Норм судорожно моргает.
— Норм! — кричу я, вырываясь. — Что с тобой? Охранник пытается меня перехватить, но, заметив, как плачевно выглядит Норм, отпускает. Его напарники отходят в сторону, пропуская меня.
— Норм! — кричу я. — Папа!
Он поднимает голову и смотрит на меня, наши взгляды встречаются, и на мгновение его лицо светлеет.
— Все хорошо, — задыхаясь, отвечает Норм еле слышно, улыбается мне, закатывает глаза и со словами «нацисты чертовы» оседает на траву.
Глава 29
Норма отвозят в кабинет врача. Мы с Джедом наблюдаем, как худая чернокожая медсестра помогает ему снять майку, чтобы послушать сердце. Посередине его вздымающейся груди красуется длинный розовый шрам.
— Вам делали операцию на открытом сердце, — замечает медсестра.
— Восемь лет назад, — соглашается Норм, который, едва пришел в себя, когда мы сажали его в гольф-карт, старается дышать размеренно. Живот его весь в царапинах, грязи и траве.
— Что вы принимаете? — спрашивает медсестра.
— Липитор и топрол, — отвечает он.
— Нитроглицерин не пьете?
— У меня нет болей в груди.
— И сейчас не болит? — скептически уточняет девушка.
— Я просто немного запыхался, — признается Норм.
— Говорят, вы бежали очень быстро, — продолжает медсестра, бросая многозначительный взгляд на его пузо. — Не похоже, чтобы вы регулярно занимались бегом.
— Ваша правда.
— С таким диагнозом вам не стоило рисковать.
— Вы прямо как моя мама, — Норм силится улыбнуться, но медсестре не до шуток.
— Вам бы следовало вызвать скорую.
— Лучше позвоните моему доктору. Его зовут Ларри Сандерсон, он член этого клуба. Он сейчас где-то на поле.
— Он сегодня здесь?
— Да.
Извинившись, медсестра выходит из кабинета. Норм приободряется и улыбается нам.
— Вот видите, — говорит он. — Я не зря старался.
— Невероятно! — Джед качает головой и смеется. — Так вы притворялись?
— Всегда должен быть запасной план, — подтверждает Норм.
Мне же не до смеха.
— Но шрам у тебя на груди настоящий, — замечаю я.
— Да, — соглашается Норм, оглядывая шрам. — Настоящий.
— Что с тобой случилось?
— У меня был сердечный приступ. Прямо во время бизнес-ланча. Пришлось делать шунтирование. — Норм слезает со смотрового стола и натягивает свитер.
— У тебя была операция на открытом сердце, и ты мне даже не позвонил? — недоумеваю я. — Неужели тебе не хотелось, чтобы в такой момент рядом были близкие люди?
Норм грустно смотрит на меня.
— Еще как хотелось. Я боялся, что умру, так и не помирившись с вами. Поверь, ни о чем другом я тогда не думал.
— Так почему же ты нам не позвонил?
Норм опускает глаза, хмурится и качает головой.
— Я не имел на это права, — произносит он голосом, хриплым от затаенной боли. — Знаешь, нет ничего страшнее, чем проснуться в реанимации и не увидеть рядом ни единой родной души. Понять, что никому нет до тебя дела, как будто тебя вообще в природе нет. Умри я тогда, никто бы обо мне даже не вспомнил. Доктора меня поздравляли, а я жалел, что не умер у них на столе. — Норм откашливается, утирая набежавшую слезу тыльной стороной грязной ладони. — Это был худший день в моей жизни, — признается он наконец. — При том что мне и без того жилось несладко.
— Надо было позвонить мне, — настаиваю я.
— Эх, если бы да кабы…
— Какая же ты все-таки скотина.
Норм поднимает на меня глаза.
— Старая песня.
Наш разговор прерывает приход медсестры, которая привела доктора Сандерсона. Его присутствие здесь после злоключений этого дня кажется чем-то фантастическим — настолько нереальным, что я лишаюсь дара речи. Со времени нашей последней встречи он ничуть не изменился, разве что без белого халата кажется шире в бедрах. Как и прочие члены клуба, он одет в белую рубашку и коричневые хлопчатобумажные брюки; доктор встревоженно оглядывает нашу заляпанную грязью одежду и чумазые лица.
— Прошу прощения, — бросает он Норму, — мы с вами знакомы?
— Вы знакомы с моим сыном, — отвечает тот, указывая на меня.
— Здравствуйте, — тупо говорю я. — Я Закари Кинг, ваш пациент.
— Я вас помню, — соглашается Сандерсон и хмурится, пытаясь понять, что происходит. — Что случилось?
— Сегодня мне должны были сообщить результаты биопсии, — поясняю я. — Но вас не было в клинике, и никто мне ничего не сказал.
Тут до Сандерсона доходит, в чем дело, и широко распахнув глаза от удивления, он спрашивает меня:
— Значит, вы приехали сюда, чтобы встретиться со мной?
— Я всего лишь хотел узнать результаты анализов, — киваю я.
На виске Сандерсона бьется багровая жилка, на скулах играют желваки. Доктор впивается в меня взглядом.
— Это неслыханно, — раздраженно произносит он. — Это просто недопустимо.
Он резко разворачивается и хочет уйти, но Джед опережает его и загораживает дверь.
— Послушайте, — говорит он. — В конце концов все мы ошибаемся. Я верю, что вы никогда сознательно не заставили бы пациента лишних три дня в холодном поту дожидаться результатов биопсии. Я понимаю ваше раздражение, но есть вещи и поважнее, вы согласны? — Он снимает с пояса сотовый телефон и протягивает доктору. — Пожалуйста, позвоните в клинику.
Сандерсон сверлит Джеда взглядом, достает собственный телефон и отходит в угол, чтобы пообщаться без лишних ушей. Я жду, пока доктор договорит, и мое сердце отбивает отчаянную морзянку, воздух густеет, словно я вдыхаю сироп. Я лихорадочно пытаюсь помолиться, сочинить хоть какое-нибудь связное послание Всевышнему, но при мысли о Боге представляю себе картинку из книги о сотворении мира и рае, которую читал ребенком: у Адама были темные глаза и рыжеватые волосы, а Ева была брюнеткой с красными, как вишня, губами и такими большими наивными голубыми глазами, что мне уже тогда хотелось встряхнуть ее и сказать: даже дураку понятно, что от змея ничего хорошего ждать не приходится. Бога изобразили в виде бьющих из облака лучей света, похожих на спецэффекты, но в детстве я об этом не задумывался. Тогда я воображал себе Бога похожим на Адама. Тут меня осеняет, что образ Господа, с детства сложившийся у меня в голове, на самом деле не что иное, как грубое подобие того нарисованного Адама с фиговыми листьями на причинном месте. Вот кому я молился в те редкие минуты, когда на меня нападала такая блажь, и последствия этой путаницы с религиозной точки зрения оказались самыми плачевными.
Сандерсон захлопывает телефон и с невозмутимым видом подходит ко мне. Спустя мгновение он заговорит, но сейчас время застыло, оно больше не движется. Как сквозь лупу, я вижу темные поры на его носу, круглые волосяные фолликулы бороды, бритвенные порезы вокруг кадыка. Я успеваю разглядеть каждую морщинку на коже, даже те, которые только намечаются, заметить щупальца лопнувших капилляров в его левом глазу.
— Результаты биопсии отрицательные.
Норм заключает доктора в медвежьи объятия и отрывает его от пола, а Джед издает сдавленный вопль и хлопает меня по спине. Внутри меня хлопают двери, войска идут в атаку и отступают, и облегчение затапливает улицы, все мои органы дрожат, меняют форму и положение, приспосабливаясь к новой реальности.
— Что за команда! — восклицает Норм и, отпустив Сандерсона, обнимает нас с Джедом. — Ну не молодцы?
— Пришли, увидели, получили! — добавляет Джед, и они с Нормом хохочут.
Сандерсон кивает мне.
— Скорее всего, это было обычное скопление кровеносных сосудов, — поясняет он. — Если кровь в моче не прекратится, мы можем их удалить, но, я думаю, все и так рассосется.
— Понятно, — говорю я. — Огромное вам спасибо.
— Не за что, — отвечает он. — А теперь вам лучше вернуться домой и переодеться.
На прощание он еле заметно улыбается, показывая, что даже таким чопорным самовлюбленным кретинам, как он, изредка все же приятно сообщить хорошую новость.
Медсестра протягивает нам три клубные рубашки взамен наших мокрых вещей — жест гостеприимства, который кажется неоправданно щедрым, пока в кабинет не заходит член правления и не предлагает нам подписать три заявления об отказе от всяких претензий. Норм с деланым вниманием читает документ, отчего сотрудник клуба принимается нервно шаркать ногами, но в конце концов мы все подписываем и выходим из клуба, на этот раз через парадную дверь.
— Вот видишь, — произносит Джед, обхватывая меня за шею, когда мы идем к машине. — Ни полиции, ни рака. Все хорошо.
Я улыбаюсь и киваю, недоумевая, почему же это меня совсем не радует.
Глава 30
— Не понимаю, — говорит мне Джед. — Ты только что узнал, что у тебя нет рака. Почему же ты сидишь с такой кислой миной?
Мы зашли отметить хорошую новость в кафе «Люксембург». Норм, утомленный сегодняшними волнениями, попросил отвезти его домой — хотел принять душ и подремать — и велел принести что-нибудь из кафе.
— Нет, почему, я рад, — отвечаю я.
— По тебе заметно, — язвит Джед. — Ты даже не позвонил Хоуп, чтобы ее успокоить.
— Хоуп не знает, что мне было из-за чего волноваться.
Брови Джеда взмывают так высоко, что смахивают на два вопросительных знака.
— Ты не сказал Хоуп про биопсию?
— Не-а.
Подгоревшим кусочком картошки фри Джед чертит в кетчупе закорючки.
— Так что у вас с Тамарой? — наконец интересуется он.
— Ничего, — машинально отвечаю я, но под пристальным взглядом Джеда признаюсь: — Кроме того, что я, похоже, в нее влюбился.
Джед выпрямляется и опускает взгляд на тарелку.
— Ты с ней спишь?
— Ты в своем уме? — возмущаюсь я. — Нет, конечно.
— А что тогда?
Я со вздохом откидываюсь на спинку стула.
— Сам не знаю, — отвечаю я. — Полная неразбериха. Я люблю Хоуп и уверен, что она тоже меня любит. Но на самом деле на моем месте мог оказаться кто угодно. У нее есть свой список требований к мужчине. Каким-то из них я отвечаю, и она считает, что сумеет меня изменить, чтобы со временем я стал соответствовать и остальным. Мы встретились, нас потянуло друг к другу, и мы решили, что это любовь. С Тамарой все иначе. Нам ничего не надо объяснять: мы понимаем друг друга без слов. Мы это не выбирали: так вышло само собой, как будто давно нас поджидало. Это как настоящая, чистая любовь, такая, какой я ее представлял, пока не отчаялся и не решил, что так не бывает, — я умолкаю, чтобы перевести дыхание. — Похоже, я слишком рано сдался.
— К тому же Тамара красива, — Джед бросает на меня хмурый взгляд.
— Я не собираюсь отрицать, что она мне нравится как женщина.
— Черт возьми, Зак, ты говоришь о жене Раэля!
— Нет, — поправляю я. — О его вдове.
— Ты совсем чокнулся, — Джед раздраженно встает. — Она одинока, убита горем, ты ее белый рыцарь, всегда готовый прийти на помощь. Это не любовь, а дружеская жилетка. Куда уж Хоуп с этим тягаться: она тебя любит, но не нуждается в твоей поддержке. А Тамара страдает, ей страшно жить, ты же, вместо того чтобы быть ей другом, пользуешься ее слабостью, потому что можешь почувствовать себя героем.
— Раэль умер два года назад! — взрываюсь я, вскакиваю и оказываюсь с Джедом лицом к лицу. — Не нужно мне об этом напоминать, потому что я там был. Я видел, как он умирал. Ты злишься, потому что мы с Тамарой живем дальше, а ты почему-то нет. Ты прячешься за своей болью, которая давным-давно прошла. Это уже не горе, а какое-то ненормальное потакание себе. Раэль умер. Смирись с этим и прекрати уже себя жалеть.
Несколько секунд мы сверлим друг друга глазами. Воздух между нами заряжен электричеством.
— А знаешь, что самое печальное? — наконец произносит Джед.
— Что же?
— То, что мы оба правы. Но это не значит, что ты не виноват. — Он выуживает из кармана несколько купюр и бросает на стол. — Поздравляю с тем, что у тебя нет рака, — кивает он. — Если, конечно, тебя это вообще волнует.
С этими словами Джед хватает куртку и стремительно выходит из кафе.
Я опускаюсь на стул и делаю глоток пива, чтобы унять кипящую во мне злобу. У меня нет рака, и это отличная новость. Но Джеду никогда не понять, что рак — или, скорее, его угроза — был для меня чем-то вроде пропуска в новую жизнь. С человеком, у которого рак, никто не станет спорить, что бы он ни натворил. Это все равно что дипломатическая неприкосновенность. Пока я полагал, что болен, я стал решительнее. Послал босса к черту. Подрался. Поцеловал женщину, в которую влюблен. Я безумно рад, что, как выяснилось, совершенно здоров, но кто знает, чего бы мне удалось добиться, поживи я еще какое-то время с мыслью, что у меня рак. Теперь же мне остается лишь гадать, какое себе подобрать оправдание.
Глава 31
Хоуп вернулась из Лондона и хочет секса. Она встречает меня в фиолетовом прозрачном белье, едва я переступаю порог ее квартиры, как Хоуп толкает меня на дверь и страстно целует.
— Соскучился по мне?
— Сама знаешь.
Она ведет меня по темному коридору в свою спальню, где горят свечи, и снова набрасывается на меня с поцелуями. Ее язык с силой раздвигает мои сжатые губы и зубы, чтобы переплестись с моим, а пальцы властно шарят за поясом моих джинсов.
— Как съездила? — спрашиваю я.
— Молчи и раздевайся, — отвечает она, тяжело дыша, и рывком расстегивает на мне рубашку.
Я по привычке сжимаю ее задницу и отвечаю на поцелуй, но не испытываю никакого возбуждения. Хоуп отсутствовала всего три дня; мне же кажется, будто меня не было гораздо дольше, и я никак не могу поверить, что я снова с ней. Она опускается на колени, чтобы снять с меня джинсы, проводит языком по низу моего живота, обхватывает пальцами мой член, и он твердеет, но когда Хоуп поднимается и целует меня, я чувствую, как он тут же обмякает. Я один-единственный раз целовался с Тамарой, но и этого хватило, чтобы все полетело к чертям, потому что сейчас, обнимаясь с полуобнаженной Хоуп, я чувствую себя так, будто изменяю сразу обеим, а ничто так не убивает желание, как нечистая совесть.
Хоуп толкает меня на свое ложе с балдахином, садится сверху, жадно и влажно целует меня, ее пальцы сжимают и гладят меня, стараясь привести в боевую готовность.
— Я хочу, чтобы ты засунул в меня свой член, — стонет она мне на ухо.
У Хоуп в постели несколько амплуа, и в этом ее заводят грязные словечки. Признаться, когда мы только начали встречаться, меня это возбуждало, сейчас же я не могу отделаться от ощущения, будто снимаюсь в любительском порнофильме.
— Засунь в меня свой член, — шепчет она и влажно трется об меня, но без толку.
— Что не так? — спрашивает Хоуп, на мгновение выходя из роли.
— Ничего, — вру я, прикрываясь очередным поцелуем.
— У тебя там до сих пор болит?
— Нет. Мне просто нужно немного времени.
Но Хоуп так просто не проведешь. Секс для нее — еще одна сфера, в которой она обязана добиться успеха, и она усердно оттачивала мастерство, чтобы ни в коем случае не потерпеть неудачу. Хоуп обрушивает на меня весь арсенал своих умений, сосет, лижет, гладит, теребит, вскоре ей удается найти верное сочетание, и дело сдвигается с мертвой точки. Она прижимает меня к себе, вцепившись острыми ногтями мне в задницу, и когда я наконец вхожу в нее, Хоуп запрокидывает голову и громко стонет. Мы бешено совокупляемся, не замечая ничего вокруг, и это больше похоже на спортивное состязание — со стонами, потом и нешуточным риском получить травму половых органов. Когда Хоуп кончает, в ее вопле удовольствия слышится радость победы. Она ложится на спину, наслаждаясь чувством удовлетворения от хорошо выполненной работы, меня же раздирают противоречия; беспомощный свидетель фарса, в который с каждым днем все больше превращается моя жизнь, я лишь усугубил свое и без того непростое положение. Вот и все удовольствие.
Хоуп говорит о Лондоне, нашей помолвке, свадебных залах, подарках подружек невесты и списках гостей. Это моя Хоуп, красивая, оживленная, немного назойливая, — девушка, которая, ни минуты не смущаясь, добивается своего. Я слушаю ее, и меня мучат мрачные предчувствия, которые не спрятать ни за какими тайными мыслями, а Хоуп знай себе болтает, не замечая нарастающего отчуждения. Я боюсь, что, несмотря ни на что, все равно не решусь ничего изменить, и ничуть не меньше боюсь потерять Хоуп — что вы хотите, я посредник до мозга костей. Я жду знака свыше, который заставит меня выбрать либо одно, либо другое, сломит мою инерцию.
Хоуп переворачивается на бок, берет меня за руку, и я невольно морщусь от боли.
— О боже! — ахает она, разглядывая разноцветный синяк. — Что с тобой случилось?
— Подрался, — поясняю я с таким видом, будто для меня это обычное дело.
— То есть как это подрался?
Я рассказываю ей про «мустанг» Пита и нашу встречу с Сатчем, а заодно и про то, как нас арестовали, а потом отпустили. Я так увлекаюсь, что едва не выбалтываю то, что произошло сегодня, но осекаюсь, вспомнив, что Хоуп ничего не знает про биопсию.
— Раньше мне нравилось, что ты общаешься с отцом, — заявляет она, когда я заканчиваю, — теперь я в этом не уверена.
— Ты о чем? — недоумеваю я. — Драку затеял не Норм.
— Мне кажется, он на тебя дурно влияет.
— Он на меня двадцать лет никак не влиял, так с чего бы мне вдруг теперь поддаваться его влиянию?
— Да ладно тебе. Ты же прекрасно понимаешь, что так или иначе он влияет на тебя всю жизнь. — Она садится на кровати, стыдливо прикрывшись простыней: забавная перемена в поведении женщины, которая всего лишь несколько минут назад требовала, чтобы я засунул в нее член. — Ты же не станешь отрицать, что с тех пор, как он появился, ведешь себя странно.
— В каком смысле странно?
— Ты сегодня ходил на работу?
— Нет.
— Вот видишь. Ты три дня подряд безо всякой видимой причины прогулял работу. И за все это время даже не удосужился позвонить мне в Лондон. Ах нет, погоди, один раз ты позвонил, правда, ты тогда был обкуренный. А теперь оказывается, что ты еще и в драку полез.
— Норм тут вообще ни при чем, — оправдываюсь я. — Просто у меня была сумасшедшая неделя.
Хоуп хмурится и отводит взгляд.
— Зак, что с тобой происходит?
Это мой шанс. Решительный момент настал, надо лишь ухватиться за подвернувшуюся возможность, но мне почему-то кажется, что сейчас, когда я лежу на влажных простынях, а мои бедра все еще липкие от засохшей спермы, не самое лучшее время признаваться в грехах и сомнениях.
— Кажется, я уволился с работы, — говорю я.
— Что значит «кажется»?
— Я ушел во вторник и не возвращался. Не отвечал на звонки, не проверял почту, ничего.
— Это еще почему? — допытывается Хоуп, и кончики ее выщипанных бровей почти касаются морщинок на сердито нахмуренном лбу.
— Потому что эта работа — дерьмо.
Хоуп раздраженно качает головой.
— А тебе не кажется, что сперва нам не мешало бы все обсудить?
— Мне как-то в голову не пришло, что нужно спрашивать у тебя разрешения.
На глаза Хоуп наворачиваются слезы, как будто ей влепили пощечину.
— Ничего себе! — восклицает она, слезает с кровати и накидывает короткий атласный халатик. — Достаточно и того, что, пока меня не было, ты не догадался мне позвонить. Видимо, был слишком занят: курил траву и дрался. Но ты принял серьезное решение, которое меня тоже касается, нравится тебе это или нет, и даже не посоветовался со мной. — Хоуп плачет, у нее дрожат губы. — О чем ты только думал?
— Ты бы настаивала, чтобы я остался.
— Я бы помогла тебе придумать план.
— Мне не нужен план! — кричу я со злостью, которая пугает нас обоих. — Я сыт по горло планами. Я всю жизнь что-то планирую, а толку чуть. Мне нужна передышка. Я хочу спокойно поразмыслить и понять, кто я на самом деле.
Хоуп замирает и, наклонив голову, наблюдает за моей подростковой вспышкой. Я жду, что она скажет, заранее готовясь возражать, но она молчит, лишь медленно кивает головой и вытирает слезы обратной стороной ладони. Глядя в ее мокрые от слез глаза, я вдруг понимаю, что Хоуп догадывается обо всем, о чем я умалчиваю. Она видит, что меня мучат сомнения, но, как бы сильно мне этого ни хотелось, я не решаюсь что-либо изменить. Однако она не собирается своими руками ломать наши отношения и, если понадобится, пойдет на попятный. Хоуп осознает, что предстоит изнурительная битва, и сдаваться не намерена.
— Я и так знаю, кто ты, — мягко произносит она. — И люблю тебя таким, какой ты есть. Я не хочу ругаться с тобой из-за этого.
— Я тоже, — отвечаю я, чувствуя себя последней сволочью.
Хоуп идет в ванную, я провожаю ее взглядом, рассматриваю сзади ее гладкие ноги, плавный изгиб ее попы, выглядывающей из-под халатика, когда Хоуп наклоняется над раковиной. В зеркале я вижу ее влажное красное лицо, на котором написана решимость. Она не заслужила такого обращения, и мне ужасно стыдно за то, что я не оправдываю ее ожиданий. А ведь каких-нибудь несколько недель назад я подавал большие надежды.
Среди ночи Хоуп будит меня, чтобы еще раз заняться любовью, и мы молча, как будто в полусне, ласкаем друг друга. И только когда заканчиваем и я чувствую на языке соленую влагу с ее щеки, я понимаю, что она снова плакала.
Глава 32
— Что ты делаешь? — спрашивает Норм, зайдя ко мне в комнату.
Я одеваюсь к помолвке.
— Хоуп просила, чтобы я приехал пораньше, — поясняю я.
Он качает головой.
— Нет, я не об этом. Зачем ты это делаешь? Ты же не хочешь на ней жениться.
Я бросаю на него удивленный взгляд.
— Почему это не хочу? Хочу.
— А как же Тамара?
— Она мой друг.
— Несколько дней назад ты мне говорил совсем другое.
Я принимаюсь завязывать галстук «Берберри», подарок Хоуп.
— Забудь, — бросаю я. — У меня тогда в голове творилось черт-те что. Я нервничал из-за рака и не мог трезво рассуждать.
— По-моему, рак тут ни при чем, а в голове у тебя до сих пор черт-те что. С таким настроем жениться нельзя.
— С каких это пор ты у нас стал экспертом по вопросам семьи и брака?
— Если я в чем и понимаю, так это в неудачных браках, и мне ясно как день, чем закончится твой.
Узел галстука съезжает влево, и я развязываю его, чтобы начать все заново.
— У меня все будет хорошо.
— Дай-ка я. — Норм подходит ко мне и берется за галстук. — Когда я женился на твоей маме, я ни секунды не сомневался, что мы с ней родственные души. У меня не было ни единой задней мысли.
— И мы все знаем, чем это кончилось.
Не отрывая взгляда от галстука, Норм борется с узлом, старательно нахмурив лоб.
— О том и речь, — говорит он. — Я был уверен на сто процентов, и все равно наш брак распался. А теперь сам подумай, каковы твои шансы развестись, если ты уже сейчас сомневаешься.
— Ты кое-что забыл.
— И что же? — Он поднимает взгляд на меня.
— Я не ты.
Норм смотрит мне в глаза и грустно кивает.
— Ты прав, Зак. Ты не я. Ты человек ответственный. Сколько ты уже на одной и той же паршивой работе, лет восемь? А все потому, что ты не такой вертопрах, как твой отец. И ты будешь жить со своей женой, несмотря на то что в глубине души прекрасно понимаешь, что никогда не полюбишь ее так, как мог бы полюбить другую. Потому что ты принял на себя обязательства, а значит, все решено.
— Что тебе от меня надо? — дрожащим голосом спрашиваю я. — Ты хочешь, чтобы я был как ты? Яблоко от яблони, да? Тебе кажется, что, если я пошлю все к черту, у нас с тобой прибавится общего, вроде сэндвичей с сыром гриль? За всю свою жизнь ты никогда не брал на себя ответственность ни за кого. Ты всегда был уверен, что достоин лучшей доли. Может, так, может, нет, но я не хочу в шестьдесят лет остаться в одиночестве и без гроша за душой из-за того, что не умел ценить то, что у меня есть, пока не потерял.
Норм отступает на шаг назад и смотрит мне в лицо.
— Думаешь, я не понимаю, чего лишился? — наконец произносит он. — Думаешь, я не переживаю эту боль заново каждый божий день?
Я качаю головой.
— Мы любили тебя. Мы твои дети, твоя семья. А ты бросил нас, как будто мы ничего для тебя не значим. Неужели ты думал, что может быть что-то лучше твоих сыновей?
Я вижу, как его лицо искажается от застарелой боли, под глазами и в уголках рта собираются морщины, однако усилием воли Норм отгоняет мрачные воспоминания, точно назойливое насекомое, смеривает галстук напряженным взглядом и шагает ко мне, чтобы закончить узел.
— Вот, — наконец произносит он и отходит, чтобы полюбоваться делом своих рук. — Как всегда, идеально. — Оборачивается и смотрит на меня в зеркале. — Знаешь, Зак, что меня беспокоит?
— Что? — интересуюсь я, трогая узел.
— Что ты, стараясь не стать мной — цель сама по себе достойная, — так и не стал собой.
— Может, я такой и есть, — слабо возражаю, сажусь на кровать и закрываю лицо руками.
— Не похоже. В каком-то смысле ты лучше и сильнее меня. Мне кажется, ты просто боишься.
— Чего?
— Разочаровать других, как я. — Норм садится рядом со мной. — Послушай, Зак, я понимаю, ты считаешь, у тебя есть определенные обязательства, но это не так. Ты еще не принес клятву перед алтарем. И если ты не уверен, что принял правильное решение, то нужно прекратить это как можно скорее. Боль, которую ты причинишь невесте сейчас, не идет ни в какое сравнение с тем, что будет после того, как вы поженитесь.
Я со стоном откидываюсь на кровать и закрываю глаза.
— Что с тобой? — тревожится Норм.
— Голова раскалывается.
— Так выпей таблетку.
— Я уже принял алеве.