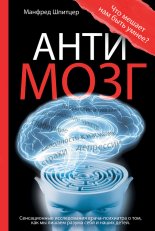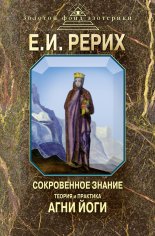Уроки русской любви Голованивская Мария

– Ну, в постельку?
Тотчас же встав и раздеваясь, заботливо посоветовала:
– Ты тоже весь разденься, так лучше будет…
А через час, сидя на постели, спустив ноги на пол, голая, она, рассматривая носок Клима, сказала, утомленно зевнув:
– Надо заштопать.
Клим дремал.
После пяти, шести свиданий он чувствовал себя у Маргариты более дома, чем в своей комнате. <…>
“Я стал слишком мягок с нею, и вот она уже небрежна со мною. Необходимо быть строже. Необходимо овладеть ею с такою полнотой, чтоб всегда и в любую минуту настраивать ее созвучно моим желаниям. Надо научиться понимать все, что она думает и чувствует, не расспрашивая ее. Мужчина должен поглощать женщину так, чтоб все тайные думы и ощущения ее полностью передавались ему”.
Эта мысль очень понравилась Самгину, он всячески повторял ее, как бы затверживая. Уже не впервые он рассматривал Варвару спящей и всегда испытывал при этом чувство недоумения и зависти, особенно острой в те минуты, когда женщина, истомленная его ласками до слез и полуобморока, засыпала, положив голову на плечо его. Голова у нее была странно легкая, волосы немного жестки, но приятно холодные, точно шелк. На виске, около уха, содрогалась узорная жилка; днем – голубая, она в сумраке ночи темнела, и думалось, что эта жилка нашептывает мозгу Варвары темненькие сновидения, рассказывает ей о тайнах жизни тела. Во сне Варвара была детски беспомощна, свертывалась в маленький комок, поджав ноги к животу, спрятав руки под голову или под бок себе. Но часто казалось, что полуоткрытые губы ее улыбаются хитровато и что она смотрит сквозь длинные ресницы взглядом не побежденной, а победившей. А порою лицо ее так незнакомо изменялось, что Клим ощущал желание внезапно разбудить ее и строго спросить:
“Что ты думаешь?”
Его волновал вопрос: почему он не может испытать ощущений Варвары? Почему не может перенести в себя радость женщины, – радость, которой он же насытил ее? Гордясь тем, что вызвал такую любовь, Самгин находил, что ночами он получает за это меньше, чем заслужил. Однажды он сказал Варваре:
– Любовь была бы совершенней, богаче, если б мужчина чувствовал одновременно и за себя и за женщину, если б то, что он дает женщине, отражалось в нем.
– Не отражается?
Но он видел, что слова его не поняты и спросила Варвара из вежливости. Тогда он подумал, что, если Лидия была почти бесстыдно болтлива, если она относилась к любви испытующе, Варвара – слишком сдержанна и осторожна, даже, пожалуй, туповата.
“А я ожидал, что она окажется разнузданной, склонной к излишествам, к извращениям. Конечно, я хорошо ошибся, но… ”
Через день он снова спросил:
– Скажи, ты хотела бы чувствовать то, что чувствую я?
– О, разумеется, – ответила она очень быстро, уверенно, но он ей не поверил, подробно разъяснил, о чем говорит, и это удивило Варвару, она даже как-то выпрямилась, вытянулась.
– Но ведь я тебя чувствую! – тихо воскликнула она, и ему показалось, что она сконфузилась.
– Но – как, что чувствуешь?
– Я не умею сказать. Я думаю, что так… как будто я рожаю тебя каждый раз. Я, право, не знаю, как это. Но тут есть такие минуты… не физиологические.
И, уже явно сконфуженная, густо покраснев, попросила:
– Пожалуйста, не говори об этом, милый! Тут я боюсь слов. Клим приласкал ее. Но он был огорчен; нет, Варвара все-таки не поняла его.
“И как нелепо сказала она: будто рожаю!”
Мелкий бес (1905)
ФЕДОР СОЛОГУБ (1863–1927)
Наконец Передонов и Володин решили идти свататься. Оба облеклись в большой наряд и имели торжественный и более обыкновенного глупый вид. Передонов надел белый шейный платок, Володин – пестрый, красный с зелеными полосками.
Передонов рассуждал так:
– Я сватать иду, моя роль солидная и случай выдающийся, мне надо в белом галстуке быть, а ты – жених, тебе надо пламенные чувства показать.
Напряженно торжественные поместились Передонов на диване, Володин в кресле. Надежда с удивлением смотрела на гостей. Гости беседовали о погоде и о новостях с видом людей, пришедших по щекотливому делу и не знающих, как приступить к нему. Наконец Передонов откашлялся и сказал:
– Надежда Васильевна, мы по делу.
– По делу, – сказал и Володин, сделал значительное лицо и выпятил губы.
– Вот о нем, – сказал Передонов и показал на Володина большим пальцем.
– Вот обо мне, – подтвердил и Володин и тоже показал большим пальцем на себя, на грудь.
Надежда улыбнулась.
– Прошу вас, – сказала она.
– Я за него буду говорить, – сказал Передонов, – он скромный, не решается сам. А он человек достойный, не пьющий, добрый. Он мало получает, но это наплевать. Ведь кому что надо, кому деньги, а кому человека. Ну, что ж ты молчишь, – обратился он к Володину, – скажи что-нибудь.
Володин склонил голову и произнес дрожащим голосом, как баран проблеял:
– Конечно, я небольшое жалованье получаю, но у меня всегда будет кусок хлебца. Конечно, я в университете не был, но живу, как дай бог всякому, и ничего худого за собой не знаю, а впрочем, кому как угодно судить. А я, что ж, собою доволен.
Он развел руками, наклонил лоб, словно собрался бодаться, и умолк.
– Так вот, – сказал Передонов, – он человек молодой, ему так жить не следует. Ему надо жениться. Все ж таки женатому лучше.
– Если жена соответствует, то чего лучше, – подтвердил Володин.
– А вы, – продолжал Передонов, – девица. Вам тоже надо замуж.
За дверью послышался легкий шорох, заглушенные, короткие звуки, как будто кто-то вздыхал или смеялся, закрывая рот. Надежда строго посмотрела на дверь и сказала холодно:
– Вы слишком ко мне заботливы, – с досадливым ударением на слове “слишком”.
– Вам не надо богатого мужа, – говорил Передонов, – вы сама богатая.
Вам надо такого, чтобы вас любил и угождал во всем. И вы его знаете, могли понять. Он к вам неравнодушен, вы к нему, может быть, тоже. Так вот, у меня купец, а у вас товар. То есть вы сами – товар.
Надежда краснела и кусала губы, чтоб удержаться от смеха. За дверью продолжали раздаваться те же звуки. Володин скромно потупил глаза. Ему казалось, что дело идет на лад.
– Какой товар? – осторожно спросила Надежда. – Извините, я не понимаю.
– Ну, как не понимаете! – недоверчиво сказал Передонов. – Ну, я прямо скажу: Павел Васильевич просит у вас руки и сердца. И я за него прошу.
За дверью что-то упало на пол и каталось, фыркая и вздыхая. Надежда, краснея от сдержанного смеха, смотрела на гостей. Предложение Володина казалось ей смешною дерзостью.
– Да, – сказал Володин, – Надежда Васильевна, я прошу у вас руки и сердца.
Он покраснел, встал, сильно шаркнул ногою по ковру, поклонился и быстро сел. Потом опять встал, положил руку к сердцу и сказал, умильно глядя на барышню:
– Надежда Васильевна, позвольте объясниться! Так как я вас даже очень люблю, то неужели же вы не захотите соответствовать?
Он ринулся вперед, опустился перед Надеждою на колено и поцеловал ее руку.
– Надежда Васильевна, поверьте! Клянусь! – воскликнул он, поднял руку вверх и со всего размаху ударил ею себя в грудь, так что гулкий звук отдался далече.
– Что вы, пожалуйста, встаньте! – смущенно сказала Надежда, – к чему это?
Володин встал и с обиженным лицом вернулся к своему месту. Там он прижал обе руки к груди и опять воскликнул:
– Надежда Васильевна, вы мне поверьте! По гроб, от всей души.
– Извините, – сказала Надежда, – я, право, не могу. Я должна воспитывать брата, – вот и он плачет там за дверью.
– Что ж, воспитывать брата! – обиженно выпячивая губы, сказал Володин, – это не мешает, кажется.
– Нет, во всяком случае, это его касается, – сказала Надежда, поспешно подымаясь, – надо его спросить. Подождите.
Она проворно выбежала из гостиной, шелестя светло-желтым платьем, за дверью схватила Мишу за плечо, добежала с ним до его горницы и там, стоя у двери, запыхавшись от бега и от подавленного смеха, сказала срывающимся голосом:
– Совсем, совсем бесполезно просить, чтобы не подслушивал. Неужели необходимо прибегнуть к самым строгим мерам?
Миша, обняв ее у пояса и прижимаясь к ней головою, хохотал, сотрясаясь от хохота и от старания заглушить его. Сестра втолкнула Мишу в его горницу, села на стул у двери и засмеялась.
– Слышал, что он выдумал, твой Павел Васильевич? – спросила она. – Иди со мной в гостиную, да смеяться не смей. Я у тебя спрошу при них, а ты не смей соглашаться. Понял?
– Угу! – промычал Миша и засунул в рот конец платка, чтобы не смеяться, что, однако, мало помогало.
– Закрой глаза платком, когда смеяться захочется, – посоветовала сестра и опять повела его за плечо в гостиную.
Там она посадила его на кресло, а сама поместилась на стуле рядом.
Володин смотрел обиженно, склонив голову, как барашек.
– Вот, – сказала Надежда, показывая на брата, – едва слезы уняла, бедный мальчик! Я ему вместо матери, и вдруг он думает, что я его оставлю.
Миша закрыл лицо платком. Все тело его тряслось. Чтобы скрыть смех, он протяжно заныл:
– У-у-у.
Надежда обняла его, незаметно ущипнула за руки и сказала:
– Ну, не плачь, миленький, не плачь.
Мише стало так неожиданно больно, что на глазах показались слезы. Он опустил платок и сердито посмотрел на сестру.
“А вдруг, – подумал Передонов, – мальчишка разозлится и начнет кусаться; людская слюна, говорят, ядовита”.
Он подвинулся к Володину, чтобы в случае опасности спрятаться за него.
Надежда сказала брату:
– Павел Васильевич просит моей руки.
– Руки и сердца, – прибавил Передонов.
– И сердца, – скромно, но с достоинством сказал Володин.
Миша закрылся платком и, всхлипывая от сдержанного смеха, сказал:
– Нет, ты за него не выходи, а то как же я буду?
Володин заговорил дребезжащим от обиды и волнения голосом:
– Меня удивляет, Надежда Васильевна, что вы спрашиваетесь у вашего братца, который, к тому же, изволит быть еще мальчиком. Если бы он даже изволил быть взрослым юношей, то и в таком случае вы могли бы сами. А теперь, как вы у него спрашиваетесь, Надежда Васильевна, это меня очень удивляет и даже поражает.
– У мальчишек спрашиваться – мне это даже смешно, – угрюмо сказал Передонов.
– У кого же мне спрашиваться? Тете – все равно, а ведь его я должна воспитывать, так как же я выйду за вас замуж? Вы, может быть, станете с ним жестоко обращаться. Не правда ли, Мишка, ведь ты боишься его жестокостей?
– Нет, Надя, – сказал Миша, выглядывая одним глазом из-за своего платка, – я не боюсь его жестокостей, где ж ему! а я боюсь, что Павел Васильевич меня избалует и не даст тебе ставить меня в угол.
– Поверьте, Надежда Васильевна, – сказал Володин, прижимая руки к сердцу, – я не избалую Мишеньку. Я так думаю, что зачем мальчика баловать! Сыт, одет, обут, а баловать ни-ни. Я его тоже могу в угол ставить, а совсем не то, чтоб баловать. Я даже больше могу. Так как вы – девица, то есть барышня, то вам, конечно, неудобно, а я и прутиком могу.
– Оба в угол будете ставить, – плаксиво сказал Миша, закрывшись опять платком, – вот вы какие, да еще прутиком, нет, это мне невыгодно. Нет, ты, Надя, не смей выходить за него.
– Ну вот, вы слышите, я решительно не могу, – сказала Надежда.
– Мне очень странно, Надежда Васильевна, что вы так поступаете, – сказал Володин. – Я к вам со всем расположением и, можно сказать, пламенно, а вы, между прочим, из-за братца. Если вы теперь из-за братца, другая изволит из-за сестрицы, третья – из-за племянника, а там и еще из-за кого-нибудь из родственников, и все так не будут выходить замуж, – этак и род людской совсем прекратится.
– Об этом не беспокойтесь, Павел Васильевич, – сказала Надежда, – пока еще такой опасности свету не грозит. Я не хочу выйти замуж без Мишина согласия, а он, вы слышали, не согласен. Да и понятно, вы его с первого слова сечь обещаетесь. Этак вы и меня поколотите.
– Помилуйте, Надежда Васильевна, да неужели же вы думаете, что я себе позволю такое невежество! – отчаянно воскликнул Володин.
Надежда улыбнулась.
– Я и сама не чувствую желания выходить замуж, – сказала она.
– Вы, может быть, хотите в монашки идти? – обиженным голосом спросил Володин.
– К толстовцам в их секту, – поправил Передонов, – землю навозить.
– Зачем же мне идти куда-нибудь? – строго спросила Надежда, вставая со своего места, – мне и здесь хорошо.
Володин тоже встал, обиженно выпятил губы и сказал:
– После этого, если Мишенька показывает ко мне такие чувства, а вы его, оказывается, что спрашиваете, то это выходит, что я должен и от уроков отказаться, потому что как же я теперь стану ходить, если Мишенька ко мне этак?
– Нет, зачем же? – возразила Надежда: – это совсем особое дело.
Передонов подумал, что следует еще попытаться уговорить барышню: может быть, и согласится. Он сказал ей сумрачно:
– Вы, Надежда Васильевна, подумайте хорошенько. Что ж так-то с бухты-барахты? Он – хороший человек. Он – мой друг.
– Нет, – сказала Надежда, – что ж тут думать! Благодарю очень Павла Васильевича за честь, но не могу.
Передонов сердито посмотрел на Володина и встал. Он подумал, что Володин – дурак: не сумел влюбить в себя барышню.
Володин стоял у своего кресла, склонив голову. Он спросил укоризненно:
– Так, значит, окончательно, Надежда Васильевна? Эх! Коли так, – сказал он, махнув рукою, – ну, так давай вам бог всего хорошего, Надежда Васильевна. Значит, уж такая моя горемычная судьба.
Эх! Любил парень девицу, а она не любила. Видит бог! Ну, что ж, поплачу, да и все.
– Хорошим человеком пренебрегаете, а тоже еще какой попадется, – наставительно сказал Передонов.
– Эх! – еще раз воскликнул Володин и пошел было к дверям. Но вдруг решил быть великодушным и вернулся, – проститься за руку с барышнею и даже с обидчиком Мишею.
Санин (1907)
МИХАИЛ АРЦЫБАШЕВ (1878–1927)
Звуки рояля звонкими кристальными всплесками отдавались в зеленом сыром саду. Лунный свет все яснел, а тени становились все глубже и черней. Внизу, по траве, тихо прошел Санин, сел под липой, хотел закурить папиросу, но раздумал и сидел неподвижно, точно зачарованный тишиной вечера, которую не нарушали, а как-то дополняли звуки рояля и молодого страстно поющего голоса.
– Лидия Петровна! – вдруг выпалил Новиков, как будто сразу стало очевидно, что нельзя потерять этого момента.
– Что? – машинально спросила Лида, глядя в сад, на луну и на черные веточки, чеканящиеся на ее круглом ярком диске.
– Я уже давно жду… хочу поговорить… – срывающимся голосом продолжал Новиков.
Санин повел головой и прислушался.
– О чем? – рассеянно переспросила Лида.
Зарудин кончил один, помолчал и запел другой романс. Он думал, что у него редкостно красивый голос, и любил петь.
Новиков почувствовал, что краснеет и бледнеет пятнами и что ему нехорошо до головокружения.
– Я, видите ли… Лидия Петровна, хотите быть моей… женой… – заплетаясь языком и чувствуя, что совсем это не так говорится и не то чувствуется в такие минуты, и еще прежде, чем он говорил, как-то само собой стало ясно, что “нет” и что сейчас произойдет что-то постыдное, глупое, непереносимо смешное.
Лида машинально переспросила:
– Чьей? – и вдруг вспыхнула, встала, хотела что-то сказать, но не сказала и в замешательстве отвернулась. Луна смотрела прямо на нее.
– Я вас люблю… – продолжал мямлить Новиков, чувствуя, что луна перестала светить, что в саду душно и все валится куда-то в безнадежную ужасную пропасть. – Я… говорить не умею, но это глупости и… я очень вас люблю…
“При чем тут очень… точно я о сливочном мороженом говорю… ” – вдруг подумал он и замолчал.
Лида нервно дергала листик, попавший ей в руки. Она растерялась, потому что это было совершенно неожиданно, не нужно и создавало печальную, непоправимую неловкость между нею и Новиковым, к которому она издавна привыкла, почти как к родному, и которого немного любила.
– Я не знаю, право… Я и не думала вовсе…
Новиков почувствовал, как с тупой болью упало куда-то вниз его сердце, побледнел, встал и взял фуражку.
– До свиданья! – сказал он, сам не слыша своего голоса. Губы у него странно кривились в нелепую и неуместную дрожащую улыбку.
– Куда же вы? До свиданья! – растерянно отвечала Лида, протягивая руку и стараясь беспечно улыбаться.
Новиков быстро пожал ей руку и, не надевая фуражки, крупными шагами пошел прямо по росистой траве в сад. Зайдя в первую тень, он вдруг остановился и с силой схватил себя за волосы.
– Боже мой, Боже… за что я такой несчастный!.. Застрелиться… Все это пустяки, а застрелиться… – вихрем и бессвязно пронеслось у него в голове, и он почувствовал себя самым несчастным, опозоренным и смешным человеком в мире.
Санин хотел было его окликнуть, но раздумал и улыбнулся. Ему было смешно, что Новиков дергает себя за волосы и чуть ли даже не плачет оттого, что женщина, лицо которой, плечи, груди и ноги нравились ему, не хочет отдаться.
И еще Санину было приятно, что красивая сестра не любит Новикова.
Лида несколько минут неподвижно простояла на том же месте, и Санин с острым любопытством следил за ее смутно озаренным луною белым силуэтом.
Из уже освещенных лампой желтых дверей дома вышел на балкон Зарудин, и Санину ясно было слышно осторожное позвякивание его шпор. В зале Танаров тихо и грустно играл старый вальс, с расплывающимися кругообразными томными звуками.
Зарудин тихо подошел к Лиде и мягким ловким движением обнял ее за талию, и Санину было видно, как два силуэта легко слились в один, странно колеблющийся в лунном тумане.
– О чем вы так задумались? – тихо шепнул Зарудин, трогая губами ее маленькое свежее ухо и блестя глазами.
У Лиды сладко и жутко поплыла голова. Как и всегда, когда она обнималась с Зарудиным, ее охватило странное чувство: она знала, что Зарудин бесконечно ниже ее по уму и развитию, что она никогда не может быть подчинена ему, но в то же время было приятно и жутко позволять эти прикосновения сильному, большому, красивому мужчине, как будто заглядывая в бездонную, таинственную пропасть с дерзкой мыслью: а вдруг возьму и брошусь… захочу и брошусь!
– Увидят… – чуть слышно прошептала она, не прижимаясь и не отдаляясь и еще больше дразня и возбуждая его этой отдающейся пассивностью.
– Одно слово, – еще прижимаясь к ней и весь заливаясь горячей возбужденной кровью, продолжал Зарудин, – придете?
Лида дрожала. Этот вопрос он предлагал ей уже не в первый раз, и всегда в ней что-то начинало томиться и дрожать, делая ее слабой и безвольной.
– Зачем? – глухо спросила она, глядя на луну широко открытыми и налитыми какой-то влагой глазами.
Зарудин не мог и не хотел ответить ей правды, хотя, как все легко сходящиеся с женщинами мужчины, в глубине души был уверен, что Лида и сама хочет, знает и только боится.
– Зачем… Да посмотреть на вас свободно, перекинуться словом. Ведь это пытка… вы меня мучите… Лидия… придете? – страстно придавливая к своим дрожащим ногам ее выпуклое, упругое и теплое бедро, повторил он.
И от соприкосновения их ног, жгучего, как раскаленное железо, еще гуще поднялся вокруг теплый, душный, как сон, туман. Все гибкое, нежное и стройное тело Лиды замирало, изгибалось и тянулось к нему. Ей было мучительно хорошо и страшно. Вокруг все странно и непонятно изменилось: луна была не луна и смотрела близко-близко, через переплет террасы, точно висела над самой ярко освещенной лужайкой; сад, не тот, который она знала, а какой-то другой, темный и таинственный, придвинулся и стал вокруг. Голова медленно и тягуче кружилась. Изгибаясь со странной ленью, она освободилась у него из рук и сразу пересохшими, воспаленными губами с трудом прошептала:
– Хорошо…
Инженеры (1907)
НИКОЛАЙ ГАРИН-МИХАЙЛОВСКИЙ (1852–1906)
Вот и кладбище, прямая аллея к церкви, оттуда по знакомой тропинке, держась за руки, идут Карташев и Аделаида Борисовна. Уже мелькает между деревьями мрачная, развалившаяся башня памятника, с золотой арфой когда-то на ней и улетавшим ангелом.
Вот и ограда с могилой отца, с мраморным крестом над ней.
Карташев, сняв шапку, стоит и смотрит на стоящую на коленях свою невесту и переживает миллион всяких ощущений: обрывки воспоминаний, связанных с этим местом из давно прошедшего, волну настоящего, так сразу нахлынувшую, что он потерялся совсем в ней и не может найти ни себя, ни слов, и хочет он, чтоб она подольше молилась, чтоб успел он хоть немного прийти в себя.
Но она уже встает, и он говорит бессвязно, не находя слов:
– Все это так быстро, неожиданно… Я так счастлив… всю свою жизнь я посвящу, чтоб отблагодарить вас… Я с первого мгновенья, как только увидел вас, я решил, что мне вы или никто… но я считал всегда все это таким недосягаемым, я гнал всякую мысль об этом…
К его сердцу радостно прилила кровь и охватила счастливым сознанием переживаемого мгновения, сознанием, что его Деля около него, смотрит на него, он может теперь здесь, среди вечного покоя и равнодушия мертвых, целовать ее.
Постепенно они оба вошли в колею. Аделаида Борисовна поборола свое смущение, Карташев нашел себя.
– Ах, как хорошо Маня придумала отправить нас на кладбище, – говорил через два часа Карташев, сидя рядом и обнимая свою невесту. – Только здесь, не стесняясь всеми этими милыми хозяевами, могли мы так сразу открыть и сказать все, что хотели. Там будет свадьба еще, но настоящий день, мгновенье, с которого начинаем мы нашу жизнь вместе, – сегодняшний, здесь на кладбище, в этой тишине и аромате вечной жизни. И здесь я клянусь и беру в свидетели всех хозяев этого вечного, что буду тебя вечно любить, вечно боготворить, вечно молиться на тебя!
Карташев быстро упал на колени и, прежде чем Аделаида Борисовна успела опомниться, поцеловал кончик ее ботинки.
Аделаида Борисовна судорожно обхватила руками шею Карташева и прильнула к нему.
Слезы текли по ее лицу, и она шептала:
– Я такая была несчастная… вся жизнь моя так тяжело складывалась… И так счастлива теперь…
Она не могла сдержать рыданий, а Карташев поцелуями осушал ее слезы. Она смеялась и продолжала опять плакать, тихо повторяя:
– Теперь я плачу уже от счастья…
Она заговорила спокойнее…
– Я росла очень болезненным ребенком. Несколько раз я была так больна, что думали, что я не выживу. Мать моя рано умерла, мне было всего три года… Отец женился на другой… Отец любил нас, но мачеха… – Она с усилием докончила: – Не любила никогда… Мы всегда росли с гувернанткой внизу и приходили наверх только к обеду… Мачеха меня считала особенно капризной… В десять лет меня уже увезли за границу в пансион, и я там семь лет пробыла… Каждый год отец с мачехой приезжали к нам на несколько дней, но никогда без мачехи мы с отцом не провели ни одной минуты… Она очень любит отца и боится, что он уделит хоть что-нибудь нам…
Она радостно посмотрела в глаза Карташеву:
– Теперь мне и не надо никого!
Карташеву было так жаль, так чувствовал он теперь ее в своем сердце, он обнимал и целовал ее и говорил ей, что будет счастлив, если заменит ей и мужа, и друга, и отца, и мать.
Последние страницы из дневника женщины (1910)
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ (1873–1924)
Мы дошли до Марьиного обрыва и сели там на скамейке над речкой. Я ждала обещанного важного разговора. Модест, против обыкновения, не находил, по-видимому, слов. Потом, как-то с трудом произнося слова, спросил:
– Ответь мне со всей откровенностью и со всей решимостью: любишь ли ты меня и любишь ли меня одного?
Эти слова были таким диссонансом в гармонии осеннего дня и моей радости! Но я давно знаю, что говорить правду мужчинам нельзя, и ответила покорно:
– Да, Модест, я люблю тебя одного.
После нового молчания Модест опять спросил меня что-то подобное же, и я опять, не споря, дала ему условный, стереотипный ответ.
Мне казалось, что Модест не смеет сказать мне то, ради чего позвал меня сюда. Когда уже мне стало холодно и пора было уходить, Модест, как бы решившись, заговорил:
– Талия! когда, в тот день, я начал говорить с тобой о перемене, произошедшей в нашей жизни, ты мне приказала замолчать. Но я должен тебе сказать, что я думаю, потому что от этого зависит для меня все. Я знаю, что ты любила многих до меня и что я для тебя был просто новой, интересной игрушкой. (Я хотела возразить, но Модест сделал мне знак молчать.) Но я тебя люблю не так, а по-настоящему, любовью ожесточенной и неограниченной. Скажи мне, что мои чувства дики и примитивны, я не откажусь от них. Люблю тебя, как любит простой человек, не мудрствующий над любовью; как любили в прежние века и как сейчас любят всюду, кроме нашего, так называемого культурного общества, играющего в любовь.
Со всей наивностью я хочу обладать тобою вполне, иметь над тобой все права, какие можно. До сих пор мысль, что нас что-то разделяет, что к тебе прикасается другой мужчина, что мы нашу любовь принуждены прятать, приводила меня в ярость и в отчаянье. Теперь, когда вдруг все переменилось, у меня не может быть другого желания, как взять тебя совсем, увериться, что отныне ты – моя, и моя навсегда. И если ты, как только что ты сказала, меня любишь (он сделал ударение на этом слове), у тебя не может быть другого желания, как сказать мне: хочу быть твоей навсегда, возьми меня.
– Ты мне делаешь предложение, Модест? – спросила я.
– Да, я тебе предлагаю быть моей женой.
– Не слишком ли рано, через десять дней после смерти мужа?
Модест встал и сказал сурово, жестко, почти деловым тоном:
– Если все это было игрой в любовь, скажи мне откровенно, Талия. Я уйду. Если же ты хочешь моей любви, я требую – слышишь! – требую, чтобы ты стала моей женой…
Я попыталась обратить разговор в шутку. Модест настаивал на ответе. Я попросила несколько дней на то, чтобы обдумать ответ. Модест подхватил мои слова и в выражениях формальных предложил мне месяц… Я, смеясь (но, сознаюсь, деланым смехом), согласилась.
Голубая звезда (1918)
БОРИС ЗАЙЦЕВ (1881–1972)
По залам бродили посетители трех сортов: снова художники, снова барышни и скромные стада экскурсантов, покорно внимавших объяснениям. Машура ходила довольно долго. Ей нравилось, что она одна, вне давления вкусов; она внимательно рассматривала туманно-дымный Лондон, ярко-цветного Матисса, от которого гостиная становилась светлее, желтую пестроту Ван Гога, примитив Гогена. В одном углу, перед арлекином Сезанна, седой старик в пенсне, с московским выговором, говорил группе окружавших:
– Сезанна-с, это после всего прочего, как, например, господина Монэ, все равно что после сахара – а-ржаной хлебец-с…
Тут Машура вдруг почувствовала, что краснеет: к ней подходил Христофоров, слегка покручивая ус. Он тоже покраснел, неизвестно почему. Машуре стало на себя досадно. “Да что он мне, правда?” Она холодно подала ему руку.
– А я, – сказал он смущенно, – все собираюсь к вам зайти.
– Разве это так трудно? – сказала Машура. Что-то кольнуло ей в сердце. Почти неприятно было, что его встретила – или казалось, что неприятно.
– Меня стесняет, что у вас всегда народ, гости…
“Вы предпочитаете tete-a-tete[15], как в Звенигороде, – подумала Машура. – Чтобы загадочно смотреть и вздыхать!”
Пройдя еще две залы, попали они в комнату Пикассо, сплошь занятую его картинами, где из ромбов и треугольников слагались лица, туловища, группы.
Старик – предводитель экскурсантов, снял пенсне и, помахивая им, говорил:
– Моя последняя любовь, да, Пикассо-с… Когда его в Париже мне показывали, так я думал – или все с ума сошли, или я одурел. Так глаза и рвет, как ножичком чикает-с. Или по битому стеклу босиком гуляешь…
Экскурсанты весело загудели. Старик, видимо не впервые говоривший это и знавший свои эффекты, выждал и продолжал:
– Но теперь-с, ничего-с… Даже напротив, мне после битого стекла все мармеладом остальное кажется… Так что и этот портретец, – он указал на груду набегавших друг на друга треугольников, от которых, правда, рябило в глазах, – этот портретец я считаю почище Моны Лизы-с, знаменитого Леонардо.