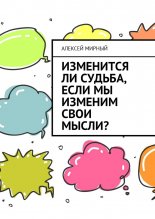Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов Пастернак Борис
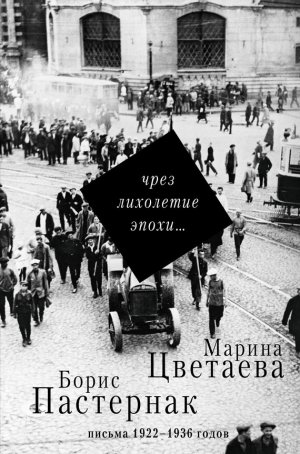
Начинаю вживаться в весть. Отовсюду – зн<аки> и зовы.
Письмо 82
<ок. 3 февраля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогой друг! Я пишу тебе случайно и опять замолкну. Но нельзя же и шутить твоим терпеньем. Шел густой снег, черными лохмотьями по затуманенным окнам, когда я узнал о его смерти. Ну что тут говорить! Я заболел этой вестью. Я точно оборвался и повис где-то, жизь поехала мимо, несколько дней мы друг друга не слышали и не понимали. Кстати ударил жестокий, почти абстрактный, хаотический мороз. По всей <подчеркнуто дважды> ли грубости представляешь ты себе, как мы с тобой осиротели? Нет, кажется нет, и не надо: полный залп беспомощности снижает человека. У меня же все как-то обесцелилось. Теперь давай жить долго, оскорбленно-долго, – это мой и твой долг. – Нелегко мне далось это молчанье. Особенно больно было открыть его вслед за полученьем Мур’овой карточки и не успеть сказать тебе, как он великолепен в своей младенческой надменности и насколько, действительно, – наполеонид. – Версты не могли дойти до меня: зарубежные русские книги посылать никогда не следует, они остаются в цензуре. Их мне дал Зелинский. У меня странная привычка: только я успею разрадоваться и разволноваться, как тотчас спешу осчастливить кого-ниб<удь> из друзей источником этого волненья. Тут даже есть закон пропорции, и так как на этот раз чувства были предельны, то Версты пробыли у меня только сутки. Но, конечно, я проглотил все, разве только не дочитал (и жалею об этом) статьи Шестова. В книжке, точно как на приволье, против меленькой листовки Поэма Горы сильно выиграла. Свое настоящее место она заняла в особенности в отсутствие «Конца» и «Крысолова», которые находились в тот день у Асеева. Конечно, и сейчас я скажу, «Гора» – в подчинении к «П<оэме> Конца». Но тогда я прочел ее вне этой ее подчиненности, словно бы тех исключительнейших поэм не существовало. Твоя, конечно, твоя. Особенно все куски с перемежающимися: гора горевала – гора говорила.
Раз случился скандал. Надо тебе знать, что я проворонил корректуру I-й части Шмидта, и по этой случайности вещь осталась как бы за тобой, т. е. акростих был напечатан. Поначалу его не прочли (прописная колонка не была выделена). Когда же (удружил один приятель) уже по прошествии двух месяцев после выпуска эта «тайна» была раскрыта, редактор, относившийся ко мне, не в пример многим тут, исключительно хорошо, стал рвать и метать, заговорил о черной моей неблагодарности и не пожелал больше никогда ни видеть меня, ни слышать, ни, следовательно, и объясняться. Напуганного всем происшедшим приятеля секретари Нов<ого> Мира поспешили успокоить фразой, заставившей меня сердечно пожалеть о недоразуменьи, обидевшем такого человека. Он, сказали они, слишком любит Цветаеву и Пастернака, дело обойдется, это размолвка ненадолго. – Представь, он вообразил, что это я ему подсунул, чтобы его одурачить. Я ему написал письмо, где всем вещам (в том числе и его мыслям) вернул поколебленное достоинство. Это прекрасный человек, и он ведет журнал лучше, чем это возможно в оглоблях, в кот<орые> взяты здесь ответственные редактора. Версты нравятся им. Поняла ли ты суть происшедшего? Ты – за границей, значит, твое имя тут – звуковой призрак. Передают (я не был), на отчете Всер<оссийского> Союза Пис<ателей> об истекшем годе в прозе, поэзии и пр. Асееву, читавшему доклад о поэтах, задали вопрос, отчего он не говорит о тебе, не поэт ли Ц.? Нет, ответил будто бы он, Цветаева поэт огромный, но ее здесь нет. Ты не сердись на него, даже я за тебя не обиделся: ни Маяковский, ни Коля не могут себе позволить многого из того, что спускается мне. Они воспринимаются в обрамленьи ответственности, популярности и пр. Я же на положении безответственном, т. е. сущие дети, поголовные дети и подчас дурные, воображают, что я – ребенок. Зато и живу я несоизмеримо лучше (морально) и хуже (матерьяльно) многих. – Уже ты заметила, вероятно, к середине письма, что я болтаю с тобой как ни в чем не бывало, точно мы вчера расстались. Что ты сейчас делаешь, чем в настоящее время занята?
<На полях:>
Я получил твое вложенье (письмо от Св<ятополка>-Мирского). Я не знаю его имени и отчества. Сообщи мне его, пожалуйста.
Отвечу, разумеется, через тебя. Покамест же, горячее ему спасибо за письмо и за его приязнь.
Письмо 83а
<ок. 9 февраля 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис. Твое письмо похоже на отписку: причина – страх, что вообще не напишешь, так<ое>, т. е. <над строкой: а под страхом> тайное нехотение письма, сопротивление письму. Впрочем – и не тайное: раз с первой строки: – потом опять замолчу.
Такое письмо не прерывает молчания, у меня даже нет чувства, что таковое (письмо) было. Поэтому все в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, на своем отнесении себя к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Рильке. Его смерть – в ее динамике <над строкой: жизн<енной> действенности» – право к сущ<ествованию> мое с тобой.
Грубости удара я не почувствовала (твоего «как грубо мы осиротели»). Что почувствовала, узнаешь из вчера законченного (31го, в день вести – начатого) письма моего к нему, которое, как частное письмо, друзьям прошу не показывать. Сопоставление Рильке и Маяковского для меня, при всей (?) любви (?) моей к последнему – кощунственно. Кощунство (давно это установила) есть несоответствие.
Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне – начало лета – оказался стихом о нем и мне, КАЖДАЯ СТРОКА. Произошла любопытная подмена: стих писался во время моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе. Оказался – мало о нем! – о нем сейчас (после 29го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому, к которому же СОБИРАЛАСЬ! – о встрече с ним – ТАМ. Вещь называлась «Попытка комнаты» и, направленная на тебя, казалась странной – до такой страсти отрешенной и нелюбовной. Прочти внимательно, вчитываясь в каждую строчку, ПРОВЕРЬ. Этим летом, вообще, писала три вещи: 1) Вместо письма 2) Попытка Комнаты и <3)> «Лестница» – последняя, чтобы освободиться от средоточия на нем – здесь, в днях, по причине ЕГО, МЕНЯ ЕЩЕ В ЖИЗНИ и (оказалось!) завтра – смерть – безнадежного. Лестницу, наверное, читал? П.ч. читала Ася. Достань у нее, исправь опечатки.
Достань у Зелинского (если в Москве, а если в Париже – все-таки достань) 2 № Верст, там мой Тезей – трагедия – I часть. Писала с осени вторую, но прервалась письмом к Рильке, которое кончила только вчера (в тоске).
Спасибо за любование Муром. Лестно (сердцу). Да! У тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в Тезее: – Игры – призрак и радость – звук. Какую силу, кстати, обретает слово призрак в предшествии звукового, какой силой наделен такой звуковой призрак – подумай.
Когда едешь? – Имя Святополка-Мирского – Димитрий Петрович.
Да! Самое главное. Нынче (8го февраля) мой первый сон о нем. Не не-все в нем было сном, а ничто. Я долго не спала, читала книгу, потом почему-то решила спать со светом. И только закрыла глаза, как Аля (спим вместе): «Между нами серебряная голова» – не иносказательная седая, а серебряная, металл, так я поняла. И – зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, пол утыкан. Платье длинное, нужно пробежать не задевши. Танец свеч. Бегу, овевая и не задевая – много людей в черном, узнаю Р.Штейнера (видела раз, в Праге) и догадываюсь, что собрание посвящения. Подхожу к господину, сидящему посреди зала, в кресле. Взглядываю. И он с улыбкой: Райнер Мария Рильке. – «Ich weiss!»[67] Отхожу, вновь подхожу, оглядываюсь: уже танцуют. Даю досказать ему что-то кому-то и, за руку, увожу. – Другая комната, бытовая. Знакомые, близкие. Общий разговор. Он раздваивается: один он в углу, далеко от меня, молодой, другой – рядом – нынешний. У меня в руках кипящий чугун, бросаю в него щепку: Поглядите. И люди смеют после этого пускаться в плаванье! – «Я люблю море. Мое! – Женевское!» – «Почему Вы не понимали моих стихов, раз так чудесно говорите по-русски? – Да – Женевское. А настоящее, особенно Океан, ненавижу. В St. Gill’e…» И он, mit Nachdrang[68]: – «В St. Gill’e – ВСЁ хорошо», явно отождествляя Сен-Жиль с Жизнью. Все, говоря с ним, в пол-оборота ко мне – «Ваш знакомый», не называя, не выдавая.
Словом, я побывала в гостях у него, потом он у меня.
Живу им и с ним. (Мне еще одна встреча <варианты: событие, жизнь> предстоит в жизни – ты. Это будет проверка.) Грустно-озабочена разницей небес – его и моих. Мои – не выше третьих, его последние, т. е. мне, после этой – еще много-много раз, он жил – в последний, м.б. в пред последний. Вся моя забота (жизненная) – не пропустить в следующий раз (его последний).
Эта смерть, т. е. эта зияющая дыра здесь – как всё в моем порядке вещей. Это было лучшее, разве не естественно, что ушло. Первое совпадение лучшего для меня и лучшего на земле. Разве не естественно, что ушло. Ты, очевидно, еще чтишь жизнь или на что-то от нее надеешься. Для тебя эта смерть не в порядке вещей, для меня такая жизнь – не в порядке, в порядке ином, моем нежизненном.
О Верстах. III № будет, дай для него стихи, если есть. № будет маленький. Я дам Письмо, а ты стихи, больше стихов не будет. Не поленись, высы<лай> сразу, лучше неизданное, поме<тим> перепечатк<ой>.
Да! главное. Как случилось, что ты центром письма взял [не наше с ним расставание], а твое со мной разминовение, потонувшее в огромности нашего с ним расставания. Для меня вторые ты и я начинаются со дня его смерти, здесь преемность <так!>. Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое когда живы – частность, о которой перед лицом сего и говорить не стоит. Там воля, решение, прочее, здесь: СТРЯСЛОСЬ.
Многое могла бы еще сказать тебе.
Будет время – перепишу и пришлю тебе обе вещи, ту, летнюю, эту, зимнюю. А пока – до свидания.
Дошло ли описание его похорон? Немножко узнала о его смерти: умер утром, пишут – будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув. Скоро увижусь с русской, которая была его секретарем два последних месяца и видела его за два-три дня до смерти. Да! две недели спустя ее получила от него подарок – немецкую Мифологию, издания 1875 г. – год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была L’Ame et la Danse, Valry.
Живу в страшной тесноте, в комнате втроем с двумя детьми, никогда не бываю одна, страдаю.
Вариант
(последний лист письма)
По опыту знаешь, что есть места недающиеся, невозможные, к которым глохнешь. И вот – 24 таких места в один день. Со мной этого не бывало.
Живу им и с ним. Грустно-озабочена разницей небес – его и моих. Мои – не выше третьих, его, боюсь, последние, т. е. – мне еще много-много раз, ему – много! – один. Вся моя забота (жизненная) не пропустить в следующий раз (его последний).
Эта смерть, эта зияющая дыра здесь – как-то в порядке (моем) вещей. Первое совпадение лучшего для меня и лучшего на земле. Разве не ЕСТЕСТВЕННО, что ушло. За что ты – принимаешь жизнь? Для тебя эта смерть не в порядке вещей, для меня такая жизнь (о его говорю) – не в порядке, в порядке ином, здешний стирающем.
Да! главное. Как случилось, что ты центром письма взял не наше с ним расставание, а твое со мной разминовение, в огромности того расставания – тонущее. Словом, начал с последней строки своего письма, а не с первой – моего (от 31го). Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое, пока живы, – частность, о которой перед лицом СЕГО – и говорить совестно. Там: «решил», «захотел», «пожелал» – здесь: СТРЯСЛОСЬ.
Или это сознательно? Тогда вспомни его – о страдании (Leid) и перенеси последнее и на меня, после такой потери ничем не уязвимой, кроме ЕЩЕ – ТАКОЙ. (Кажется, точно.)
– Дошло ли описание его погребения? Немножко (не из своих уст, потому – неточно) узнала о его смерти: умер утром, пишут – будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув, будто бы не зная, что умирает (поверю!). Скоро увижусь с русской, бывшей два последних месяца его секретарем. Да! две недели спустя получила от него подарок – немецкую Мифологию 1875 г. – год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была L’Ame et la Danse, Valry. (Вспомни мой сон.)
Живу в страшной тесноте, втроем в комнате, никогда не бываю одна, страдаю.
Кто из русских поэтов пожалел о нем? Передал ли мой привет автору Гренады? (имя забыла)
- …Да, новые песни
- И новая жисть.
- Не надо, ребята,
- О песнях тужить!
- Не надо, не надо, не надо, друзья!
- Гренада, Гренада,
- Гренада моя!
М.Ц.
<На полях:>
Передай, пожалуйста, вложенный листочек Асе. До нее мои письма не доходят.
Bellevue (S. et О.)
31, Boulevard Verd
Письмо 83б
Bellevue, 9 февраля 1927 г.
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис,
Твое письмо – отписка, т. е. написано из высокого духовного приличия, поборовшего тайную неохоту письма, сопротивление письму. Впрочем – и не тайную, раз с первой строки: «потом опять замолчу».
Такое письмо не прерывает молчания, а только оглашает, называет его. У меня совсем нет чувства, что таковое (письмо) было. Поэтому всё в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Р<ильке>. Его смерть – право на существование мое с тобой, мало – право, собственноручный его приказ такового.
Грубость удара я не почувствовала (твоего «как грубо мы осиротели», – кстати, первая строка моя в ответ на весть тут же:
- Двадцать девятого, в среду, в мглистое?
- Ясное? – нету сведений!
- Осиротели не только мы с тобой
- В это пред-предпоследнее
- Утро… —)
Что почувствовала, узнаешь из вчера (7го, в его день) законченного (31го, в день вести, начатого) письма к нему, которое, как личное, прошу не показывать. Сопоставление Р<ильке> и М<ая>ковского для меня при всей (?) любви (?) моей к последнему – кощунственно. Кощунство – давно это установила – иерархическое несоответствие.
Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне – начало лета – оказался стихом о нем и мне, каждая строка. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточия на нем, а направлен был – сознанием и волей – к тебе. Оказался же – мало о нем! – о нем – сейчас (после 29го декабря), т. е. предвосхищением, т. е. прозрением. Я просто рассказывала ему, живому – к которому же собиралась! – как не встретились, как иначе встретились. Отсюда и странная, меня самое тогда огорчившая… нелюбовность, отрешенность, отказность каждой строки. Вещь называлась «Попытка комнаты» и от каждой – каждой строкой – отказывалась. Прочти внимательно, вчитываясь в каждую строку, проверь. Этим летом, вообще, писала три вещи:
1. Вместо письма (тебе), 2. Попытка комнаты и <3.> Лестница – последняя, чтобы высвободиться от средоточия на нем – здесь, в днях, по причине ЕГО, МЕНЯ, нашей еще: ЖИЗНИ и (оказалось!) ЗАВТРА – СМЕРТИ – безнадежного. Лестницу, наверное, читал? П.ч. читала Ася. Достань у нее, исправь опечатки.
Достань у З<елин>ского, если еще в Москве, а если нет – закажи – № 2 Верст, там мой «Тезей» – трагедия – I ч<асть>. Писала с осени вторую, но прервалась письмом к Р<ильке>, которое кончила только вчера. (В тоске.)
Спасибо за любование Муром. Лестно (сердцу). Да! у тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в «Тезее»: «Игры – призрак и радость – звук». Какую силу, кстати, обретает слово призрак в предшествие звукового, какой силой наделен такой звуковой призрак – думал?
Имя Св<ятополка>-Мирского – Димитрий Петрович. Он сделает тебе много добра, если не будешь слишком платить ему тем же. Когда-нибудь расскажу.
Последняя веха на пути твоем к нему: письмо для него, пожалуйста, пришли открытым, чтобы научть критика – иерархии и князя – вежливости. (Примечание к иерархии: у поэта с критиком не может быть тайны от поэта. Никогда не пользуюсь именами, но – в таком контексте – наши звучат.) Письма твоего к нему, открытого, естественно – не прочту.
Да! Самое главное. Нынче (8го февраля) мой первый сон о нем, в котором не «не все в нем было сном», а ничто. Я долго не спала, читала книгу, потом почему-то решила спать со светом. И только закрыла глаза, как Аля (спим вместе, иногда еще и Мур третьим): «Между нами серебряная голова». Не серебряная – седая, а серебряная – металл, так поняла. И – зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, весь пол утыкан. Платье длинное, надо пробежать, не задевши. Танец свеч. Бегу, овевая и не задевая – много людей в черном, узнаю Р.Штейнера (видела раз в Праге) и догадываюсь, что собрание посвященных. Подхожу к господину, сидящему в кресле, несколько поодаль. Взглядываю. И он с улыбкой: Rainer Maria Rilke. И я, не без задора и укора: «Ich weiss!» Отхожу, вновь подхожу, оглядываюсь: уже танцуют. Даю досказать ему что-то кому-то, вернее дослушать что-то от кого-то (помню, пожилая дама в коричневом платье, восторженная) и за руку увожу. Еще о зале: полный свет, никакой мрачности и все присутствующие – самые живые, хотя серьезные. Мужчины по-старинному в сюртуках, дамы – больше пожилые – в темном. Мужчин больше. Несколько неопределенных священников.
Другая комната, бытовая. Знакомые, близкие. Общий разговор. Один в углу, далеко от меня, молодой, другой – рядом – нынешний. У меня на коленях кипящий чугун, бросаю в него щепку (наглядные корабль и море). – «Поглядите, и люди смеют после этого пускаться в плавание!» – «Я люблю море: мое: женевское». (Я, мысленно: как точно, как лично, как по-рильковски): – «Женевское – да. А настоящее, особенно Океан, ненавижу. В St.Gill’e»… И он mit Nachdruck[69]: «В St. Gill’e всё хорошо», – явно отождествляя St. Gilles – с жизнью. (Что, впрочем, и раньше сделал, в одном из писем: «St. Gilles-sur-Vie (survie!)». – «Как Вы могли не понимать моих стихов, раз так чудесно говорите по-русски?» – «Теперь». (Точность этого ответа и наивность этого вопроса оценишь, когда прочтешь Письмо.) Все, говоря с ним – в пол-оборота ко мне: «Ваш знакомый…», не называя, не выдавая. Словом, я побывала у него в гостях, а он у меня.
Вывод: если есть возможность такого спокойного, бесстрашного, естественного, вне-телесного чувства к «мертвому» – значит, оно есть, значит, оно-то и будет – там. Ведь в чем страх? Испугаться. Я не испугалась, в первый раз за всю жизнь чисто обрадовалась мертвому. Да! еще одно: чувство тлена (когда есть), очевидно, связано с (приблизительной) длительностью тлена; Р.Штейнер, напр<имер>, умерший два года назад, уже совсем не мертвый, ничем, никогда.
Этот сон воспринимаю как чистый подарок от Р<ильке>, равно как весь вчерашний день (7-ое – его число), давший мне все (около 30-ти) невозможных, неосуществимых места Письма. Всё стало на свое место – сразу.
По опыту знаешь, что есть места недающиеся, неподдающиеся, невозможные, к которым глохнешь. И вот – 24 таких места в один день. Со мной этого не бывало.
Живу им и с ним. Не шутя озабочена разницей небес – его и моих. Мои – не выше третьих, его, боюсь, последние, т. е. – мне еще много-много раз, ему – много – один. Вся моя забота и работа отныне – не пропустить следующего раза (его последнего).
Грубость сиротства – на фоне чего? Нежности сыновства, отцовства?
Первое совпадение лучшего для меня и лучшего на земле. Разве не ЕСТЕСТВЕННО, что ушло? За что ты – принимаешь жизнь??
Для тебя его смерть не в порядке вещей, для меня его жизнь – не в порядке, в порядке ином, иной порядок.
Да, главное. Как случилось, что ты средоточием письма взял частность твоего со мной – на час, год, десятилетие – разминовения, а не наше с ним – на всю жизнь, на всю землю – расставание. Словом, начал с последней строки своего последнего письма, а не с первой – моего (от 31го). Твое письмо – продолжение. Не странно? Разве что-нибудь еще длится? Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое, пока живы, ЧАСТНОСТЬ – уже уничтоженная. Там «решал», «захотел», «пожелал», здесь: СТРЯСЛОСЬ.
Или это – сознательно? Бессознательный страх страдания? Тогда вспомни его Leid [70], звук этого слова и перенеси его и на меня, после такой потери ничем не уязвимой, кроме еще – ТАКОЙ. Т. е. – не бойся молчать, не бойся писать, все это раз и пока жив, неважно.
Дошло ли описание его погребения. Немножко узнала о его смерти: умер утром, пишут – будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув, будто бы не зная, что умирает (поверю!). Скоро увижусь с русской, бывшей два последних месяца его секретарем. Да! Две недели спустя получила от него подарок – немецкую Мифологию 1875 г. – год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была Paul Valry. (Вспомни мой сон.)
Живу в страшной тесноте, две семьи в одной квартире, общая кухня, втроем в комнате, никогда не бываю одна, страдаю.
Кто из русских поэтов (у нас их нет) пожалел о нем? Передал ли мой привет автору «Гренады»? (имя забыла)
- Да, новая песня
- И новая жисть.
- Не надо, ребята,
- О песнях тужить.
- Не надо, не надо,
- Не надо, друзья!
- Гренада, Гренада, Гренада моя.
Версты эмигрантская печать безумно травит. Многие не подают руки. (Х<одасеви>ч первый). Если любопытно, напишу пространнее.
Передай Асе листочек, мои письма к ней не доходят.
Письмо 84
<ок. 9 февраля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
11
- Окрестности и крепость,
- Затянутые репсом,
- Терялись в ливне обложном,
- Как под дорожным кожаном.
- Отёки водянки
- Грязнили горизонт,
- Суда на стоянке
- И гарнизон.
- С утра тянулись семьями
- Мещане по шоссе,
- Различных орьентаций,
- Со странностями всеми,
- В ландо, на тарантасе,
- В повальном бегстве все.
- У города со вторника
- Утроилось лицо:
- Он стал гнездом затворников,
- Вояк и беглецов.
- Пред этим, в понедельник,
- В обеденный гудок
- Обезголосил эллинг
- И обезлюдел док.
- Развертывались порознь,
- Сошлись невпроворот
- За слесарно-сборочной
- У выходных ворот.
- Солдатки и служанки
- Исчезли с мостовых
- В вихрях «Варшавянки»
- И мастеровых.
- Влились в тупик казармы
- И – вон из тупика,
- Клубясь от солидарности
- Брестского полка…
- Тогда, и тем решительней,
- Чем шире рос поток,
- Встревоженные жители
- Пустились наутек.
- Но железнодорожники
- Часам уже к пяти
- Заставили порожними
- Составами пути.
- Дорогой, огибавшей
- Военный порт, с утра
- Катались экипажи,
- Мелькали кучера.
- Боязнь бомбардировки
- Сквозила, дня ясней,
- В кучерской сноровке
- И резвости коней.
- Безмолвствуя, потерянно
- Струями вис рассвет.
- Толстый, как материя.
- Как бисерный кисет.
- Деревья всех рисунков
- Сгибались в три погибели
- Под ранцами и сумками
- Сумрака и мги.
- Вуали паутиной
- Топырились по ртам.
- Верста, скача под шины,
- Несла ко всем чертям.
- Майорши, офицерши
- Запахивали лащ.
- Вдогонку им, как шершень,
- Свистел шоссейный хрящ.
- Вставали кипарисы;
- Кивали, подходя.
- Росли, – чтоб испариться
- В кисее дождя.
12
- Вырываясь с моря, из-за почты,
- Ветер прет на ощупь, как слепой,
- И не ропщет, несмотря на то что
- Тотчас же сшибается с толпой.
- Он приперт к стене ацетиленом,
- Втоптан в грязь, и несмотря на то,
- Трын-трава и море по колено:
- Дует дальше с той же прямотой.
- Вот он бьется, обваривши харю,
- За косою рамой фонаря
- И уходит, вынырнув на паре
- Торопливых крыл нетопыря.
- У матросов, несмотря на пору
- И порывы ветра с пустыря,
- На дворе казармы – шум и споры
- Этой темной ночью ноября.
- Их галдит за тысячу, и каждым,
- Точно в бурю вешний буерак,
- Разворочен, взрыт и взбудоражен
- И буграми поднят этот мрак.
- Пахнет волей, мокрою картошкой,
- Пахнет почвой, норками кротов,
- Пахнет штормом, несмотря на то что
- Это – шторм в открытом море ртов.
- Тары-бары, шутки балагура,
- Слухи, толки, шарканье подошв
- Так и ходят вкруг одной фигуры,
- Как распространившийся падёж.
- Ходит слух, что он у депутатов,
- Ходит слух, что едет в комитет,
- Ходит слух, – и вот как раз тогда-то
- Нарастает что-то в темноте,
- И глуша раскатами догадки,
- И сметая со всего двора
- Караулки, будки и рогатки,
- Катится и катится ура.
- С первого же сказанного слова
- Радость покидает берега.
- Он дает улечься ей, и снова
- Удесятеряет ураган.
- Долго с бурей борется оратор.
- Обожанье рвется на простор.
- Не словами, – полной их утратой
- Хочет жить и дышит их восторг.
- Это – объясненье исполинов.
- Он и двор обходятся без слов.
- Если с ними флаг, то он – малинов.
- Если мрак за них, то он – лилов.
- Все же раз доносится: эскадра.
- (Это с тем, чтоб браться, да с умом.)
- И потом, другое слово: завтра.
- (Это… верно, о себе самом.)
13
- Дорожных сборов кавардак.
- «Твоя», твердящая упрямо,
- С каракулями на бортах,
- Сырая сетка телеграммы.
- «Мне тридцать восемь лет. Я сед.
- Не обернешься, глядь – кондрашка».
- И с этим об пол хлоп портплед,
- Продернув ремешки сквозь пряжки.
- И на карачках – под диван,
- Потом от чемодана к шкапу. —
- Сумбур, горячка, – караван
- Вещей, переселенных на пол.
- Как вдруг – звонок, и кабинет
- Перекосившее: о Боже!
- И рядом: «Папы дома нет».
- И грохотанье ног в прихожей.
- Но двери настежь, и в дверях:
- «Я здесь. Я враг кровопролитья».
- И ужас нравственных нерях:
- «Тогда какой же вы политик?
- Вы революционер? В борьбу
- Не вяжутся в перчатках дамских».
- – Я собираюсь в Петербург.
- Не убеждайте. Я не сдамся.
- Я объезжаю города,
- Чтоб пробудить страну от спячки,
- И вывожу без вас суда
- На помощь всероссийской стачке.
- Но так, – безумное одно
- Судно против эскадры целой! —
- Нам столковаться не дано,
- Да и не наше это дело.
- Пожатья рук. Разбор галош.
- Щелчок английского затвора.
- Плывущий за угол галдеж.
- Поспешно спущенные шторы.
- И ночь. Шаганье по углам.
- Выстаиванье до озноба
- С душой, разбитой пополам,
- Над требухою гардероба.
- Крушенье планов. Что ни час
- Растущая покорность лани.
- Готовность встать и сгинуть с глаз
- И согласиться на закланье.
- И наконец, тоска и лень,
- Победа чести и престижа,
- Чехлы, ремни и ночь. И день,
- И вечер, о котором – ниже.
14
- Подросток-реалист,
- Разняв драпри, исчез
- С запиской в глубине
- Отцова кабинета.
- Пройдя в столовую
- И уши навострив,
- Матрос подумал:
- «Хорошо у Шмидта».
- …Было это в ноябре,
- Часу в четвертом.
- Смеркалось.
- Скромность комнат
- Спорила с комфортом…
- Минуты три извне
- Не слышалось ни звука
- В уютной, как каюта,
- Конуре.
- …Лишь по кутерьме
- Пылинок в пятерне портьеры,
- Несмело шмыгавших
- По книгам, по кошме
- И окнам запотелым,
- Видно было:
- Дело —
- К зиме.
- Минуты три извне
- Не слышалось ни звука
- В глухой тиши, как вдруг
- За плотными драпри
- Проклятья раздались
- Так явственно,
- Как будто тут, внутри.
- «Чухнин? Чухнин?!
- Погромщик бесноватый!
- Виновник всей брехни!
- Разоружать суда?
- Нет, клеветник,
- Палач,
- Инсинуатор,
- Я научу тебя, отродье ката,
- отличать от правых виноватых!
- Я Черноморский флот, хо —
- лоп и раб, забью тебе,
- как кляп, как клепку,
- в глотку!
- И мигом ока двери комнаты вразлёт.
- Буфет, стаканы, скатерть —
- «Катер?»
- – Лодка,
- В ответ на брошенный вопрос —
- матрос,
- И оба вон, Очаковец за Шмидтом,
- Невпопад, не в ногу,
- из дневного понемногу в ночь,
- Наугад куда-то, вперехват закату.
- По размытым рытвинам садовых гряд.
- ……………………….
- В наспех стянутых доспехах
- Жарких полотняных лат,
- В плотном потном зимнем платье
- С головы до пят,
- В облака, закат и эхо по размытым,
- сбитым плитам променад.
- Потом бегом, сквозь поросли укропа,
- Опрометью с оползня в песок,
- И со всех ног тропой наискосок
- Кругом обрыва… Топот, топот, топот,
- Топот, топот, поворот-другой,
- ….
- И вдруг, как вкопанные, стоп.
- И вот он, вот он весь у ног,
- Захлебывающийся Севастополь,
- Весь побранный, как воздух, грудью двух
- Бездонных бухт,
- И полукруг
- Затопленного солнца за «Синопом».
- С минуту оба переводят дух
- И кубарем с: последней кручи – бух
- В сырую груду рухнувшего бута.
15
- Стихла буря. Дождь сбежал
- Ручьями с палуб по желобам.
- Ночь в исходе. И ее
- Тронуло небытие.
- В зимней призрачной красе
- Дремлет рейд в рассветной мгле,
- Сонно кутаясь в туман
- Путаницей мачт
- И купаясь, как в росе,
- Оторопью рей
- В серебре и перламутре
- Полумертвых фонарей.
- Еле-еле лебезит
- Утренняя зыбь.
- Каждый еле слышный шелест,
- Чем он мельче и дряблей,
- Отдается дрожью в теле
- Кораблей. —
- Он спит, притворно занедужась,
- Могильным сном, вогнав почти
- Трехверстную округу в ужас.
- Он спит, наружно вызвав штиль.
- Он скрылся, как от колотушек,
- В молочно-белой мгле. Он спит
- За пеленою малодушья. li>Но чем он с панталыку сбит?
- Где след команд? – Неотрезвимы.
- Споили в доску, и к утру,
- Приняв от спившихся в дрезину
- Повинную, спустили в трюм.
- Теперь там обморок и одурь.
- У пушек боцмана. К заре
- Судам осталось прятать в воду
- Зубовный скрежет якорей.
- А там, где грудью б встали люди,
- Где не загон для байбаков,
- Сданы ударники к орудьям,
- Зевают пушки без бойков.
- Зато на суше – муравейник.
- В тумане тащатся войска.
- Всего заметней их роенье
- Толпе у Павлова мыска.
- Пехотный полк из Павлограда
- С тринадцатою полевой
- Артиллерийскою бригадой —
- И – проба потной мостовой.
- Колеса, кони, пулеметы,
- Зарядных ящиков разбег
- И грохот, грохот до ломоты
- Во весь Нахимовский проспект.
- На Историческом бульваре,
- Куда на этих днях свезен
- Военный лом былых аварий, —
- Донцы и Крымский дивизьон.
- И – любопытство, любопытство!
- Трехверстный берег под тупой,
- Пришедшей пить или топиться,
- Тридцатитысячной толпой.
- Она покрыла крыши барок
- Кишащей кашей черепах,
- И ковш Приморского бульвара,
- И спуска каменный черпак.
- Он ею доверху унизан,
- Как копотью несметных птиц,
- Копящих силы по карнизам,
- Чтоб вихрем гари в ночь нестись.
- Но это только мерный ярус.
- А сверху бухту бунтарей
- Амфитеатром мерит ярость
- Объятых негой батарей.
- Когда сбежали испаренья
- И солнце, колыхнувши флот,
- Всплыло на водяной арене,
- Как обалдевший кашалот,
- В очистившейся панораме
- Обрисовался в двух шагах
- От шара – крейсер под парами,
- Как кочегар у очага.
16
- Вдруг, как снег на голову, гул
- Толпы, как залп, стегнул
- Трехверстовой гранит
- И откатился с плит.
- Ура – ударом в борт,
- в штурвал,
- В бушприт!
- Ура – навеки, наповал,
- Навзрыд!
- Над крейсером взвился сигнал:
- «Командую флотом. Шмидт».
- Он вырвался, как вздох,
- Со дна души судна,
- И не его вина,
- Что не предостерег
- Своих, и их застиг врасплох,
- И рвется, в поисках эпох,
- В иные времена.
- Он вскинут, как магнит
- На нитке, и на миг
- Щетинит целый лес вестей
- В осиннике снастей.
- Сигналы «Вижу» дальних мачт
- Рябят – (2, 3, 4, 5)
- Рябят – (не счесть, чего желать!)
- Рябят седую гладь!
- Простор, ощерясь мятежом,
- Ерошится ежом.
- Над крейсером взвился сигнал:
- «Командую флотом. Шмидт».
- Как красный стенговой, как знак
- К открытию огня.
- Вверх и наотмашь. Поперек,
- Как сабля со стегна.
- И мачты рейда, как одна.
- Он ими вынесен и смыт
- И перехвачен второпях
- На 2-х, на 3-х, на 4-х
- Военных кораблях.
- Но иссякает ток подков,
- И облетает лес флажков,
- И по веревке, как зверек,
- Спускается кумач.
- А зверь, ползущий на флагшток,
- Ужасен, как немой толмач,
- И флаг Андреевский – томящ,
- Как рок.
17
- Вдруг взоры отвлеклись к затону.
- Предвидя, чем грозит испуг,
- Как вены, вскрыв свои кинстоны,
- Шел ко дну минный транспорт «Буг».
- Он знал, что от его припадка
- Сместился бы чертеж долин:
- Всю левую его лопатку
- Пропитывал пироксимин.
- Полуутопший трапецоедр
- Служил свидетельством толпе,
- Что бой решен, и рыба роет
- Колодцы под смерчи торпед,
- Что градоносная опасность,
- Нависшая над кораблем,
- Брюхата паводком снарядов,
- И чернь по кубрикам попрятав
- Угрозой, водкой и рублем,
- Готова в нетерпеньи хряснуть,
- Как мокрым косарем – кочан,
- Арапником огня по трапам,
- Что их решили взять нахрапом
- И рейд на клетки разграфлен.
- Когда с остальными увидел и Шмидт,
- Что только медлительность мига хранит
- Бушприт и канаты
- От града и надо
- Немедля насытить его аппетит,
- Чтоб только на миг оттянуть канонаду,
- В нем точно проснулся дремавший Орфей.
- И что ж он задумал, другого первей?
- Объехать эскадру.
- Усовестить ядра.
- На муку подвигнуть зверьё из верфей.
- И на миноносце ушел он туда,
- Где небо и гавань ловя в невода,
- В снастях, бездыханной
- Семьей богдыханов,
- Династии далей – дымились суда.
- Их строй был поистине неисчислим.
- Грядой пристаней не граничился клин,
- Но весь громоздясь Пелионом на Оссу,
- Под лад броненосцам
- Качался и несся
- Обрывистый город в шпалерах маслин.
- Поднявшись над скопом
- Слепых остолопов,
- Ворочая шеей оград и тумб,
- Летевший навстречу ему Севастополь
- Следил за ним
- За румбом румб.
- Он тихо шел от пушки к пушке,
- А даль неслась.
- Он шел под взглядами опухших,
- Голодных глаз.
- Он не спешил. На миноносце
- Щадили винт.
- Он чуть скользил, а берег несся,
- Как в фордевинд.
- И вот, стругая воду, будто
- Стальной терпуг,
- Он видел не толпу над бухтой,
- А Петербург.
- Но что могло напомнить юность?
- Неужто сброд,
- Грязнивший слух, как сток гальюнный
- Для нечистот?
- С чужих бортов друзья по школе,
- Тех лет друзья,
- Ругались и встречали в колья,
- Петлёй грозя.
- Назад! Зачем соваться под нос,
- Под дождь помой.
- Утратят ли боеспособность
- «Синоп» с «Чесмой»?
- Снова на миг повернувшись круто,
- Город от криков задрожал:
- На миноносец брали с «Прута»
- Освобожденных каторжан.
- Снова по рейду и по реям
- Громко пронесся красный вихрь:
- Бывший «Потемкин», теперь – «Пантелеймон»
- В освобожденных узнал своих.
- Снова, приветствуем экипажем,
- На броненосец всходил и глох
- И офицеров брал под стражу
- И уводил с собой в залог.
- В смене отчаянья и отваги
- Вновь, озираясь, мертвел, как холст:
- Всюду суда тасовали флаги.
- Стяг государства за красным полз.
- По возвращеньи же на «Очаков»,
- Искрой надежды еще согрет,
- За волоса схватясь, заплакал,
- Как на ладони увидев рейд.
- «Эх, – простонал, – подвели, канальи!»
- Натиском зарев рдела вода.
- Дружно смеркалось. Рейд удлиняли
- Тучи, косматясь, как в холода.
- С суши, в порыве низкопоклонства
- Шибче, чем надо, как никогда,
- Падали крыши складов и консульств,
- Тени и камни, камни и солнце
- В воду и вечность, как невода.
- Все закружилось так, что в финале
- Обморок сшиб его без труда.
- Закат был тих и выспренен,
- Как вдруг – бабах, в сердцах
- Раскатился выстрел
- С «Терца».
- Мгновенный взрыв котельной.
- Далекий крик с байдар
- И под воду. Смертельный
- Удар.
- От катера к шаландам
- Пловцы, тела, балласт.
- И радость: часть команды
- Спслась.
- И началось. Пространство
- Оборвалось и – в бой,
- Чтоб разом опростаться
- Пальбой.
- Внутри настала ночь. Снаружи
- Зарделся движущийся хвост
- Над войском всех родов оружья
- И свойств.
- Он лез, грабастая овраги,
- И треском разгонял толпу,
- И пламенел и гладил флаги
- По лбу.
- Он нес суда и зданья, выбрав
- Фундаменты и якоря,
- На ливень гибель всех калибров
- Беря.
- Как сумерки, сгустились снасти.
- В ревущей, хлещущей дряпне
- Пошла валить, как снег в ненастье,
- Шрапнель.
- Она рвалась в лету, на жнивьях,
- В расцвете лет людских, в воде,
- Рождая смерть и визг и вывих
- Везде.
- ……………………….
- ……………………….
- Уже давно затих обстрел,
- Уже давно горит судно
- В костре. Уже давно быстрей
- Летят часы. Но вот затих
- С последним воплем треск шутих,
- И крейсер догорел.
- Глухая ночь. Чернильный ров
- Морской губы. Слепой покров
- Бегущих крыш и катеров
- В чехлах прожекторов.
18
- «Все отшумело. Вставши поодаль,
- Чувствую всею силой чутья:
- Жребий завиден. Я жил и отдал
- Душу свою за други своя.
- Высшего нет. Я сердцем – у цели
- И по пути в пустяках не увяз.
- Крут был подъем. Сегодня, в сочельник,
- Ошеломляюсь, остановясь.
- Но объясни. Полюбив даже вора,
- Как не рвануться к нему и каземат
- В дни, когда всюду только и спору,
- Нынче его или завтра казнят?
- Ты ж предпочла омрачить мне остаток
- Дней. Прости мне эти слова.
- Спор подогнал бы таянье святок.
- Лучше задержим бег Рождества.
- Где он, тот день, когда вскрыв телеграмму,
- Все позабыв за твоим «навсегда»,
- Жил я мечтой, как помчусь и нагряну!
- Как же, ты скажешь, попал я сюда?
- В вечер ее полученья был митинг.
- Я предрекал неуспех мятежа,
- Но уж ничто не могло вразумить их.
- Ехать в ту ночь означало бежать.
- О, как рвался я к тебе! Было пыткой
- Браться и знать, что народ не готов,
- Жертвовать встречей и видеть в избытке
- Доводы в пользу других городов.
- Вера в разъезд по фабричным районам,
- В новую стачку и новый подъем,
- Может, сплеталась во мне с затаенным
- Чувством, что ездить будем вдвоем.
- Но повалила волна депутаций,
- Дума, эсдеки, – звонок за звонком.
- Выехать было нельзя и пытаться.
- Вот и кончаю бунтовщиком.
- Кажется, все. Я гораздо спокойней,
- Чем ожидают. Что бишь еще?
- Да, а насчет Севастопольской бойни
- В старых газетах – полный отчет».
<На последней странице текста поэмы:>
Кинстоны – каналы, ведущие в балластные цистерны двойного дна.
Гальюн – место в носовой части корабля (где находятся отхожие и свалочные места).
На «Пруте» находилась часть осужденных по Потемкинскому бунту (кот<орый> произошел перед тем за 5 месяцев). Брон<еносец> Потемкин после этого был переименован в «Пантелеймона». «Прут» служил плавучей каторжн<ой> тюрьмой.
Вот – то, что написано из II-й части. Если сцена суда и казни не будут лучше этих, т. е. не будут достаточно серьезны и человечны, мне придется на этом письме и кончить. Однако насчет суда у меня имеются кое-какие мысли, и я – попробую, т. е. пока что я этого письма концом не признал. Окончательно сделано все до 17-го деленья. С 17-го и до письма, может быть, буду переделывать. Нужны были деньги, и эту порцию я гнал к своего рода – двадцатому числу. Особенно это относится к бою. М.б. две строки многоточий будут заполнены, так строк на 16 – на 20 самой судьбой «Очакова» в обстреле. А м.б. этого и не надо. Вообще вся работа относится к самому последнему времени. Лето и осень прошли пусто и бесплодно. Но, конечно, читал, думал и наброски копились. По-настоящему все зажило на Рождестве. Особенно замечательна была ночь на 1-е. Я никуда на встречу Нов<ого> Года не пошел. Мне хотелось тебе написать в эту ночь, без малейшей тени даже метафизического предательства в отношеньи Ж<ени>, встречавшей Н<овый> Г<од> с Асеевым, Маяком и всей лефовской компанией. И вот, так же точно как я не писал тебе все это время, или еще отчетливей и сильней, я вместо письма к тебе решил собраться с мыслями и с волей, и в эту-то ночь и зажила II-я часть как целое. В 6-м часу утра Женичка (мальчик) закашлял очень страшно, мне показалось, что у него коклюш. Я стал ему греть молоко, по страшной рассеянности делая страшные глупости с примусом, на котором каждый раз то взрывом, то целым столбом отзывался огонь, без опасных последствий, точно только одушевленно говоря о своих способностях. Сейчас, написав это, я вспомнил о рожденьи Мура. Со встречи вернулись Ж<еня> с Маяковским. Он был вторым поздравителем в эту ночь. Первою поздравила меня и 12 на минуту зашедшая Харазова. Ты ни ее, ни, верно, о ней не знаешь. Существованье ее для меня (т. е. знакомство) начинается с Аси. Я тебе м. б. когда-ниб<удь> о ней расскажу и о том, как и чем она связана с Rilke. Связь далекая и легкая, и однако составляющая единственный тон моего отеческого, редкого (т. е. неплотного) к ней отношенья. – Если II-я часть лучше отвратительной первой, то этим я обязан твоему осужденью.
Скоро напишу, с письмом к С<вятополку>-М<ирскому>.
Письмо 85
<сер. февраля 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
<На обороте автографа поэмы «Попытка комнаты»>:
Борис! а это он тебя первый поздравил с Новым Годом! Через женщину. Через русскую. Почти через меня.
Письмо 86
22 февраля 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
У меня вышла почт<овая> бумага, и неприятно писать тебе на этой. Я только что получил «Попытку комнаты». Ты знаешь сама, – как это хорошо и как близко мне, утратившемуся, настоящему. Но вот, только успел открыть рот, как уже – непрошеная бестактность. Нет, я не сравниваю. Я не могу не завидовать тебе, но сильнее моей зависти – гордость и радость. Ты удивительно стройно растешь и последовательно. Всего больше поражает и волнует меня в твоем безостановочно и безущербно развертывающемся мире тот стержень, по которому выравнивается твое богатство. <Зачеркнуто три с половиной строки.> Зачеркнул приблизительно то же, что следует дальше, по неудачности выраженья. Мысль, т. е. самый шум «думанья», настолько порабощена в тебе поэтом, что кажется победительницей. Кажется, ей никуда еще не падалось так радостно и вольно, как в твои до последней степени сжатые и определенные строчки. Твои поэтические формулировки до того по ней, до того ей подобны, что начинает казаться, будто она сама (мысль) и есть источник твоей бесподобной музыки. Точно, очищенная от всякой аритмии предполаганий, она не может не превратиться в пенье, как до звучности очищенный шум. Т. е. это то, о чем мечтал (но конечно, и мечтает, всеми страницами (т. е. они и живы этой мечтой)) Баратынский. Все это, я знаю, не понравится тебе. Меня – то, конечно, очень трогает, нравится ли тебе что или нет. Мне хотелось бы удивляться тебе так, чтобы это тебе доставляло радость. Но не одни вещи, близко и лично касающиеся нас, нас с тобою связывают. Закону этой связи во многом до нас даже нет дела. Это сказывается м<ежду> пр<очим> и на «Попытке комнаты». Следуя твоей воле, я мыслю «Попытку» обращенною к Rilke. Ты представить себе не можешь, как мне бы хотелось, чтобы всем движеньем своим она летела к нему. Нам нужно в живом воздухе трусящих дней, в топотне поколенья, иметь звучащую связь с ним, т. е. надо завязать матерьяльный поэтический узел, кот<орый> как-о бы звучал им или о нем. Но «Попытка» страшно связана со мною. Ты не возмущайся, пожалуйста: я ни хочу, ни не хочу твоего посвященья. Не в нем дело. Но если даже не существо, – пусть эмоциональная роль, пусть именная маска – но маска тут задета и окликнута моя. То есть я хочу сказать, что R<ilke> ты дани еще не уплатила. Субъективно, т. е. прямо от себя, тебе ближе ко мне, чем к нему. Для соприкосновенья с ним требуется перерыв волевой волны, с большой долей объективного размышляющего, изучающего усилья. Можно довериться сновиденью о себе самом и о близлежащем: такой сон местно вещественен. Он всегда содержит много говорящего о существе вещей, вовлеченных в его круг. Далекое же, чем оно роднее нам и больше (далекое в реализации сроков, возрастов, расстояний и пр.) и чем больше страсти предполагает перспектива – всегда роняется сновиденьем. Если бы не было этого соотношенья, кот<орое> я выразил так плохо, что и сам, перечтя, не пойму, то, наряду со сном, не существовало бы искусства. Оно вызвано к существованью именно этой перспективной – воздушно-далеких и сердечно-близких вещей, с которой никогда не справляется, которым никогда не воздает должного – бесперспективное сновиденье. Род такого усилья, в высочайшей, сверхчеловеческой степени, дан в философии Крысолова. Но я свалил чересчур в кучу несколько очень несвязных соображений на одну и ту же тему. Слышишь ли ты мой голос за всем этим? Напиши мне, что письмо не раздражило тебя. Через месяц мне обещают II-е Версты, Лестницу и все, что смогут достать. Светлову (о «Гренаде») передал: это было первое мое знакомство с ним. Тут много способных. Талантливым считаю одного Сельвинского. Он очень настоящий, очень замечательный.
Вот стихи Харазовой, возникшие в мыслях о R., ему посвященные и написанные, по ее словам, в последние дни года, за день, за два до ее полночного появленья у меня. Я хочу, чтобы ты их знала. Она очень милый человек с совершенно потрясающей биографией, – попроси Асю, – она тебе расскажет ее историю. Она – необыкновенный человек, чрезвычайно вдохновенный. Это я говорю о ней, а не о том, что она доносит до страницы. Ты знаешь, что это вещи разные. Но м.б. я слеп, и ты будешь справедливей к ней, и тогда окажется, что я ничего не понимаю и проглядел крупное дарованье, оглушенный сухостью и педантизмом своих мерил.
1
- Das Herz von Lerchenglocken schwer,
- Such ich dich einsam in Spiegel;
- Und leise fllt das Leben umher
- Von der Wnde traulichem Hgel.
- Als rauschte der Glasquelle steigender Teich,
- Worin Fenster und Teppich ertrinken,
- Ein Mdchen im Sessel der Mondsichel gleich,
- Und Tischtcher sinken und winken.
- Und Stunden gehen aus und ein
- Und falten alternd die Hnde,
- Bis die eine ergreifet des Herzens Schrein
- Mit sprengendem Schlsselwenden.
- Oh! – Darauf ein Rauschen!.. Ich glaube der Tod! —
- Holunder und tropfende Regen! —
- Weil in des Herzens leiser Not
- Sich Lerchenkpfe bewegen.
2
- Jeden Abend trittst du, ein vergess’ner Engel,
- In des Herzens Kammer fordernd und bestimmt.
- Setzest dich ans Spinnrad und mit gold’nen Fden,
- Leitest du mein Schicksal, bis die Herzwand glimmt.
- Stunden knien nieder, trinken mir aus Hnden.
- Der Erinnrung Murmeln klug und trnenleer.
- Und die Ampel schrumpfet, eine rote Schale
- Wie Bananenwinken in des Teppichs Meer.
- Draussen wachsen Blumen, nahen sich die Wlfe
- Und mit weichen Rufen locken sie dich fort.
- In des Blutes Brunnen sammelt sich der Nachklang,
- Naht mit Unbestimmtheit deinem letzten Wort.
- Weiter ist Karfreitag. Weiter wird es Ostern,
- Wenn die Vgel fragen, wie ein Menschenherz…
- Und im Spiegel gleitet deine Auferstehung
- Hinter Wolkenstssen langsam himmelwrts[71].
Многоточьем подчеркнуто то, что тронуло. <Здесь – курсивом. Прим. ред.>
<На полях:>
Св<ятополку>-Мирскому напишу в следующем, и очень большое письмо. Какая радость держать в руках твой дар и глядеть в глаза ему! Ни с чем не сравнимое наслажденье
Получила ли ты II-ю ч<асть> Шмидта? Ругай свободно, если не нравится.
Письмо 87
<нач. марта 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис. Позволь мне на этот раз не о Шмидте, о Шмидте (несравненно лучше 1-ой части!) напишу после чтения его вслух С.Я. и Сувчинскому, напишу всё, что сказала, следовательно почувствовала / узнала. По горячему следу непосредств<енного> слухового и иного восприятия. Напишу под утысячеренным ударом слушателя. – Ты меня понимаешь? —
Пока же – не о тебе-Шмидте, о себе-Шмидте. – Я сейчас в огромной волне Германии и Смерти, вся на Тем Свету – от Гёте до Рильке. И еще Бог послал мне живого ангела, 20-летнего немца с того света (на здешнем – с Рейна), с которым – мысленно и письменно, когда и устно – беседую неустанно. Учти далекость от меня 05 г. – всякого года – кроме 1875 г. и 1926 г.
Кончаю сейчас – Три смерти – или Трезвучие – о двух смертях, пред– и по-шествующей смерти Рильке. (Все три на протяжении 3-ех недель). Как мне бесконечно жаль, что ты ничего не читал из моей «прозы» (т. е. МЫСЛИ), которую Святополк-Мирский в своей английской Истории русской литературы называет «худшей на протяжении русской литературы». Он меня, между прочим, сейчас ненавидит – за всю меня – так же как я его и, должно быть, в ответ.
(Твое обещание длинного <оборвано>
Предполагаемая, обещаемая длина твоего будущего письма к нему равна всей твоей неохоте. Но, Борис, твоя lune de miel[72] еще предстоит, вторая жена, не верь – первой жене!)
Борюшка, ты явно, героически – не на своей дороге. Ты никогда не станешь великим писателем (поэтом) земли русской, как Толстой, Достоевский, пр. Ты – отдельный и начинаешь там, где конч<или> они, переводя <над строкой: обрываешь> стрелку с уразумеваемого вниз и там начиная всё сызнова <оборвано>
Ты ничего и никого не продолжаешь, ты не существуешь, ты подсуществуешь. Твой путь другой – будущего ОТДЕЛЬНЫХ. Тебе, Борис, даже через 100–200 лет не стать общим местом. (Говорю о всем, кроме Шмидта.)
1905 г. – ложный ход, работа не по тебе, вся на во всем – и всего-себя – перебарывании. Ты хотел простого человека, ты дал пошляка (Письма). Ты не знаешь, какие простые люди бывают.
Теперь, внимание:
Ложный ход, если бы он был последним, как степень – Шмидт – / при наличии последующего, т. е. Шмидт как ступень – если неправилен, то праведен.
В Шмидте (1905 г.) твоя дань людскому, человеческому, временному. <Над строкой: Времени (понять его).> Отдал – и дост (по-чешски: достаточно). Больше не связывайся.
Хочу от тебя прозы, большой, бесфабульной <вариант: бестемной>, тёмной, твоей.
О Попытке комнаты.
Разве ты не понял, что это не наша? Что так и не возникла она, [комната], п.ч. в будущем ее не было, просто – ни досок <вариант: доски>, ни балок. (Есть только то, что будет. Возникает только то, что уже есть.)
Оцени: обоюдная <над строкой: в письмах> Савойя, а под пером – ТА комната.
Бесперспект<ивность> сна? Об этом еще должна подумать. Кажется, ты прав. (Кстати, многие и многие здесь о тебе писавшие назыв<али> тебя бесперспективным <вариант: упорствовали на твоей бесперспективности>).
[Бесперспектив<но> —] Снотворчество?
Начинаются весенние дни, рассредоточ<еные> и рассосредотачивающие. Какой-то сквозняк света, неприятно и неприютно. Ушла зимняя необход<имость> <оборвано>
«От тебя до <вариант: ко> меня ближе, чем от тебя до <вариант: к> Рильке…» Нет, Борис, Рильке мне уже потому ближе тебя, что старше. (Мы с тобой – всячески – сверстники!) Особенно сейчас. Между тобой и мной – ТВОЕ время, твое, насильственное. В Рильке я втекала, к тебе мне надо пробиваться, прорываться. (Учти, что я не о личном говорю, о Рильке, тебе, себе – в мире.) Ты мне в какой-то час противуставишь – да просто III И<нтернационал> – не просто-третий, ТВОЙ, но все-таки И<нтернационал>, слово это, для тебя звучащее. Для того такие слова не звучали.
Вот тебе, дружочек, письмо, недавно оглашенное в Revue Franaise – [и еще другое, в Русской Мысли – ] <пробел в полстроки> vers de mchants ivrognes[73] – узнаешь? Те, «способные».
Борис, ты столько раз меня холодил, в самое сердце, – кажется – переболевшее тобой – что простишь меня за правду линии: меня – Рильке, меня – тебя.
Ведь если бы ТОТ мне не был ближайшим, моя потеря бы не была так огромна и мое обретение – там – так несказанно.
Да! Важное. Борюшка, не бойся меня, – т. е. пусть не боится меня – дай мне адрес Зелинского или кого-нибудь, кто ему для тебя передаст, хочу тебе послать Druineser Elegien и Орфея, Рильке не успел (не было свободн<ых> оттисков), сделаю я за него.
Пошлю (З<елинскому>) безымянно, книга невинная, пожалуйста.
Простись со мной в Bellevue – 1-го переезжаем, куда неизвестно. Этот год нищенствуем, пожираемы углем, газом, электричеством. Да! Борис, если за перепечатку I части Шмидта что-то заплатят – можно пока взять себе? Прошу от крайности. Несомненно верну. (Дело о, для тебя, грошах.)
Bellevue мне было дано, как место моего прощания <вариант: мое последнее место> с Рильке, естественно, что оно кончается. Как-нибудь пришлю тебе открытку – на которой ему писала в последний раз.
Писем его не перечитываю, но перечла «Malte Laurids Brigge» – встречаюсь с ним пока на окольных, общих дорогах, в роли любого.
Через какой-то срок пришлю тебе Письмо, давно оконченное. – Не дашь ли новых стихов для Верст? (III сборник) Пометим как перепечатку.
Да, и еще пришлю случайно уцелевшее, не отправленное (из-за перечёрка) письмо к нему, предпоследнее.
P.S. Мой немец, кажется, меня не вынесет. После 1ой встречи он два дня болел / Ты понимаешь, ЧТО на него рухнуло?!
Борис, у меня огромная мечта: книгу о Рильке, твою и мою. Вижу ее в переводе на немецкий (ПОДЛИННИК!) и ликую.
Хотя бы ради этого – приезжай.
P.S. Ты всегда мне отправл<яешь> письма —
Приложение
Записи Цветаевой о поэме Пастернака «Лейтенант Шмидт»
<кон. февраля 1927 г.>
Мечта о разборе пастернаковского Шмидта.
Эпос в эпосе. Центральная фигура 1905 г. Наша старая любовь. Неслучайность выбора. Шмидт – законен.
Краткая передача фабулы. Что делает, чувствует и как высказывается в I части Лейтенант Шмидт.
Чувство читат<еля> к Шмидту и к Пастернаку.
Двойств<енное> впечатл<ение>. Стоит только Шмидту замолчать и Пастернаку заговорить… Но – стоит только замолчать Пастернаку и заговорить Шмидту. Цитаты.
Явный разлад пишущего с писомым. В чем разлад? Сущность? Проверка. / Основной разлад в слове, пошлейшем в письмах и избраннейшем в опис<аниях>. Лейтенант Шмидт у Пастернака пишет письма так, как вряд ли их даже писал в жизни / точно так же и – посему в тысячу раз хуже, ибо перенес<енные> в стихи общ<ие> мес<та> Шмидта просто станов<ятся> невынос<имыми>.
Каким же языком должен в поэме говорить Шмидт. Шмидтов<ским> – языком 1905 г. – мы в этом убедились – невозможно. Пастернаковским неправдоподобно, ибо как Шмидт Пастернаком не мог бы быть, так Пастернак – Шмидтом. Тогда каким же? Никаким. Шмидт в поэме не должен говорить вовсе. Промах Пастернака – захотел дать Шмидта в слове.
Срифмованная речь лучшего из ораторов – <пошлость?>. За Шмидта, и в ноябрьском митинге, должны бы<ли> бы говорить знамена, деревья, глаза, черноморские волны.
Шмидтовская речь в отражении —
II часть. Пересказ II части. Отсутствие писем. Значительно улучш<илось> состо<яние> больн<ого>.
Письмо 88
<сер. апреля 1927>
Цветаева – Пастернаку
<На экземпляре газеты «Возрождение» от 11.04.27, в которой помещена статья В.Ходасевича «Бесы»:>
Борюшка, как я могу без тебя жить? Как ты – без меня?
Мой новый адрес (перепиши на стену):
Meudon (Seine et Oise)
2, Avenue Jeanne d’Arc
Передай Асе.
Борюшка! Написала тебе два больших письма, – оба лежат. (Современность не есть ли – своевременность?) Третье, ненаписанное, пойдет. Сейчас переписываю II ч. Ш<мидта> для журнала, печатавшего первую. (Огромный успех у героев 05 года!) Вторую простят из-за первой.
Порадуйся на своего protg[74] Х<одасеви>ча. Отзыв труса. Ведь А<дамо>вич-то (статьи не читала, достану, пришлю) писал о тебе, а этот, минуя тебя, о твоих ублюдках. Жди письма, спасибо за все, целую тебя.
М.
Письмо 89
<ок. 29 апреля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Опять ты со мной, и что в мире может с этим сравниться! Твое письмо пришло как раз в тот день, когда я сдавал весь 1905й (вместе с накануне оконченным Шмидтом) в Госиздат. Я кончил его именно так, как ты о том говоришь, и думаю о нем в точности твоими словами. Я говорю об этом только затем, чтобы ты узнала об этой новой твоей, и может быть, тебе неведомой, помощи. Между прочим. Только «1905-м» я наконец добился тут права первого изданья «Тем и Варьяций», да и то не отдельного, а одним томиком, при «Сестре». Напиши мне поскорее о своем вечере и обо всем обещанном.
Твой Тезей замечателен. Так начинают только единственнейшие. Трагедия взята с места в карьер. Бездна благородной, мерно и без отступлений наслаивающейся правды, и ее вершина – в сцене с Вакхом, о которой просто невозможно говорить. Здесь, на внезапной высоте, отдельно от остальной трагедии и над ней, дается трагедия самой вакхической истины, как нагорное законодательство этого мира.
За «Тезеем» с особой, окончательной категоричностью испытал радость: удивительная, – за что ни возьмется, во всем, везде, – своя рука, свой голос, свой опыт, и все это предельной, несравненной крепости и глубины. Что это особенно заметно в «Тезее», – естественно. Сами по себе эти качества быть может в нем не сильнее, чем в других вещах, но тут они, помимо твоей воли, составляют часть тематики: черта законченной одухотворенности, к которой сводятся они, и есть ведь извечная тема греческого духа. Короче: за этой трагедией я пережил тебя, как героиню: как абсолютно навсегда под собой расписующегося поэта. Разумеется, у меня ее нет, и она гуляет по рукам.
Скажи, как ты думаешь, Марина, можно ли думать о настоящей работе (т. е. о писании в безвестности и вне участия в политлитературщинке какого бы то ни было направленья) во Франции или Германии, или же лучше, скрепя сердце, постараться это сделать за год тут и, значит, отложить еще на год все? Глупый вопрос и заданный в нелепейшей форме, но прошлогодний твой ответ сделал больше, чем могла бы одна моя воля, в одиночестве. Надо ли говорить тебе, как меня тянет к настоящему, т. е. к тебе и ко всему тому, чего я не могу не мыслить обязательно в твоем возухе? Ты однажды предложила мне просто съездить на время, как ездят сотни путешествующих и благополучно возвращающихся «освеженными». Но ты ведь знаешь, что это абсурд и не про меня никак. Этой муки я не приму.
<На полях:>
Ответь мне сухо и спокойно, как я того и заслуживаю, главное – о себе, о своем вечере. Морального ада и тоски, в кот<орых> я тут варюсь, изобразить не в силах. Не пойми превратно. Я просто задыхаюсь в том софизме, о кот<орый> тут, без всякого последствия, разбивается решительно всякая действительная мысль.
Х<одасеви>ча получил и прочел. Странно, меня это не рассердило. Чепуха не без подлости в ответ на чью-то, м.б. еще большую, чепуху? В<ладислав> Ф<елицианович> меня знает. Странно.
Письмо 90
3 мая 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Пока я занят был этой ретроспективной и ставившей в несколько облегченное положенье к «современности» работой, я все думал, что выровняется и время, и к ее концу, когда станет пора вспомнить о своем, это будет мыслимо, т. е. будет и кругом дышаться свободнее. Поразительно, что как раз с ее концом совпало у меня сильнейшее на этот счет разочарованье. Я не смогу и не сумею пересказать тебе всех случаев, когда я его испытал, они один другого необъяснимее и ужаснее, и только расскажу об одном, потому что он почти что семейный, и люди, в нем замешанные, тебе известны. И для полной ясности: все эти дозы отчаянья и недоуменья сопровождаются вниманьем и исключительною теплотою ко мне, а иногда даже и любовью, т. е. я хочу сказать, что заподозреть себя в пессимизме по личным причинам я не вправе. Изолганности и раболепному лицемерью нет предела. Нравственное вырожденье стало душевной нормой.
Однажды у тебя в Верстах очень хвалебно отозвались о «Лефе». Я никогда не понимал его пустоты, возведенной в перл созданья, канонизованное бездушье и скудоумье его меня угнетали. Я как-то терпел соотнесенность с ним, потому что это чувство ведь ничем и не выделялось из того океана терпенья, в котором приходилось захлебываться. Потом этот журнал благополучно кончился, и я об его конце не тужил. Теперь, скажем, в самые последние годы, мыслимое, слыханное, человеческое возродилось, но, конечно, в узко бытовых, абсолютно посредственных, вторично-рядовых формах, заливающих журналы и разговоры какой-то мозговиной обезглавленного сознанья. Зимой стал снова собираться Леф. Я туда, т. е. на эти ужины, ходил в качестве гостя. Тогда писался Шмидт, и я читал его, и Маяковский объявлял работу гениальной. Ты знаешь, Марина, что я целиком с тобой в сужденьи о вещи, и это слово не должно нас сбивать. Дело не в этом. Я хочу сказать, что не только трогательность Володина отношенья ко мне, но и моя старая любовь к нему (помнишь чтенье в Кречетниковском с Белым?) не могли ослабить моего раздраженного удивленья по поводу их затей и затем вскоре вышедшего журнальчика. О, это не было открытьем для меня, я в 19-м году сказал Маяковскому о 150.000 то, что теперь начинают говорить в печати, но (и с этого я начал письмо) была у меня какая-то смутная надежда, что М<аяковский> наконец что-то скажет, а я прокричу или даже изойду правдой, и – нас закроют или еще что-ниб<удь>, не все ли равно. Вместо этого вышли брошюрки такого охолощенного убожества, такой охранительной низости, вперемешку с легализованным сквернословьем (т. е. с фрондой, апеллирующей против большинства… к начальству), что в сравнении с этим даже казенная жвачка, в которой терминология давно заменила всякий смысл (хотя бы и духовно чуждый мне), показалась более близкой и приемлемой и более благородной, нежели такое полуполицейское отщепенчество. Потом пошли диспуты, на которых официальное болото со своим вечным словарем застоя и лицемерной глухоты разносило крайнюю группу своих неофициальных головастиков. Ты понимаешь, в чем тут дело, и поймешь, как действовала на меня эта вопиющая дичь, как далеко в стороне я от нее ни находился. Для того, что я тебе хочу поверить, сказанного достаточно. Но, подчиняясь тяге фактов, прибавлю еще кое-что. Они знают, что я не с ними. Но Маяковский, нестерпимо цинический в обиходе, меняется в моем обществе, а со мной бывает иногда просто метафизичен. Т. е. он что-то знает обо мне такое, чего не знает Асеев, несмотря на наше давнее приятельство и близость в жизни, не знает, как человек эмпирических температур. Вот отчего, когда в ответ на мое заявленье о выходе из «Лефа», в конце длиннейших, затянувшихся до 6 ч<асов> утра переговоров, последовала с их стороны просьба не оглашать разрыва с ними, ограничась простым и как бы случайным отсутствием в журнале, номер за номером, я с этим примирился, под влияньем какого-то, сквозь все слова пробивавшегося взгляда М., тяжелого и пристально безмолвного, и которым точно говорило его прошлое. – Однажды ты меня удивила и даже обидела, предостерегши от приравниванья М. – Р<ильке>. Неужели ты подумала, что я – нуждаюсь в таком замечаньи? Но я говорю о М. с тобой, и будь жив Р., на третьем разговоре с ним рассказал бы о М. и ему. Вот и все, и это очень много: М. участвует в моей повести, все равно где и в каких годах. Он участвует также и в твоей: ты была тогда у Цетлиных, ты помнишь себя и Белого и Сабашникову, «Человека» и «Войну и Мир». Затем я благодарен ему также за себя и тебя. О существованьи «Верст» (твоих) узнал я от него от первого. Годом раньше я узнал от него о существованьи «Сестры». Ты понимаешь? – Наконец, вне этого всего: смею утверждать, что даже и тебе, тебе, Марина, не может быть полностью известно, в каком отталкивающе чуждом мире я тут живу. Он совершенно беспросветен и особенно ясно беспросветен бывает в свете так наз<ываемых> удач и «успехов». Дооценить этого ты не можешь оттого, что ты, а значит и то, чем я живу, вечно под рукой у себя. Значит, представить себе того, что тебя нету, ты по-настоящему не в силах. Но добро бы хоть как-нибудь (как человек – человека) напоминали тебя тут: строем совести, что ли, языком или логикой, сколь угодно отдаленно и бледно, все равно как. И знаешь, только <подчеркнуто дважды> вот этот взгляд М., когда он безмолвен, как-то в этом отношеньи приемлем, как-то годится, чем-то напоминает о поэте и жизни поэта. Я совершенно не умею говорить о таких промежуточных, растекающихся вещах и, наверно, раздосадую тебя.
Продолжаю без всякой последовательности. Остаюсь еще на год. Бесконечно счастлив и рад, что – перекипело и что могу писать об этом спокойно, после двух недель волненья. Вот отчего придется остаться: Нельзя, чтобы нахожденье на чужой территории разом же совпало с возвращеньем к себе: т. е. с философией и с тоном, которые, конечно, должны будут пойти вразрез со всем здешним. Это надо попытаться начать здесь, открыто, в журналах, на месте, в столкновеньях с цензорами. Ясно ли это тебе? Тут не бытовые соображенья. Не бытовые не от «храбрости», конечно, а оттого что блюсти «чистоту» мне и в голову бы не пришло. Твое окруженье мне близко, я, ничуть не задумываясь, отдал бы все свои силы тем, кого бы ты мне назвала и указала. Т. е. тут никак не забота об условной и насквозь фальшивой «репутации». Нет. Но ты представляешь себе, насколько бы я облегчил задачу всем этим людям двух измерений, заговори я о трех не с Волхонки? Произвели бы все истины географически, от страны, откуда бы это посылалось друзьям и в журналы, и тем бы и отделались. Этого, легчайшего из штампов, мне не хочется давать им в руки. Если не убедить, если не переделать что-то, то уж во всяком случае мне хочется трудно даться им и себе. Не буду округлять письма и заканчивать. Но вот, очень существенная просьба. Сообщи мне обязательно день, т. е. число полученья этого конверта. Не забудь, пожалуйста. И затем, в ответе мне, не касайся всех этих тем. Это тоже серьезная просьба. Наконец, прости за третью по счету, и – вот она в чем: как сумеешь, попроси за меня извиненья у Св<ятополка>-М<ирского>. Меня мучит, что я до сих пор все еще ему не ответил. Надо ли комментировать этот предположенный возврат к себе? Если надо, то вот краткий комментарий. Я себе и не изменял никогда. Я бездействовал, доходил в недоуменьи до одичанья, бросал литературу, служил библиографом, переводил, наконец нашел выход в ретроспективности, но писал эту вещь пониженно и водянисто, по многим причинам, частью виноват в ее недостатках и сам. Но за этой работой, чувствуя за счет прошлого, которому по теме разрешалось чувствовать и верить (хотя и тут цензура кое-что выкидывала), в привилегиях темы, отошел душою и сам, настолько, что вещь стала моральным рычагом освобожденья во что бы то ни стало. Но ты не будешь ждать от меня лирики, которой уже тут спрашивают с меня, на том одном основаньи, что я… «заработал 1905-м право на нее». Ты знаешь, что писаньем лирических стихов, когда они требуются и у тебя на них есть «право», я никогда не занимался. Ты знаешь, что лирика начнется опять с обожествленной жизни, если начнется; ты знаешь все. Но прозу, и свою, и м.б. стихи героя прозы, писать хочу и буду. Обнимаю тебя.
<На полях:>
P.S. Пожелай мне успеха на этот год и будь со мною. Если я или кто-ниб<удь> другой скажет тебе когда-ниб<удь>, что я не был счастлив, не верь. О таком друге и таком чувстве не смел никогда и мечтать, загадочный по незаслуженности подарок. Не пугайся однообразья нашей судьбы (т. е. что все мы да мы, да письма, да годы). Так однообразна только вселенная.
Письмо 91
<7–8 мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис. Твое письмо я получила 7-го мая, в розовую грозу. Пришло на четвертый день. Звучит, как ответ на мое, но – по срокам – мое (то) ответ на твое. Ты пишешь – «писать лирические стихи, когда их ждут и есть на них право», а я – в том – пишу: не жду от тебя лирики, нужен перерыв и т. д. Но в том письме я тебя звала, а в этом ты не едешь, это уже разминовение: точная жизнен<ная> последоват<ельность>, норма дней: в порядке дней.
Ну, что ж Борис, будем с тобой воскрешать германских романтиков, нет – рыцарей, нет – соверше<ннее> – мифы <вариант: песни>. [Троянская война длилась – сколько? Это всё-таки из всех – наличест<вующих> и] Эпос. Кримгильда сколько лет ненавидела и готовила месть! Столько же лет готова любить. Только, просьба, всё-таки на этом свете, чтобы не вышло Орфея и Эвридики (достовернейший из мифов). <Под строкой: всё равно кто – за кем>. Не ссылай, не доссылай меня на тот свет, раз мне нужно жить (дети). Да, Борис, не думал ли ты, что боги оборот Орфея предвидели и посему разрешили. А в этом повороте – что: любовь или простое мужское (в пре<дставлении> Орфея) нетерпение. Мало любил, что повернулся. Или много любил? Ты бы не обернулся, Борис, но ты бы не за мной пришел, ко мне. Эвридика ведь старше, как же тащить ее снова на поверхность – Handflche[75] – любви (земли). Но всё это ты знаешь.
Твой неприезд. Не доверяю ни тебе, ни себе в дов<одах> – всегда поводах – всегда послушных. Ты же поэт, т. е. в каком-то смысле (нахождение 2-ой строки четверостишия, например) всё-таки акробат <вариант: гимнаст – гений!> мысл<ительной> связи. Причины глубже – или проще: начну с проще: невозм<ожно> в жару – лето – семья (берешь или не берешь – сложно) – беготня, и всё с утра, и всё бессрочно и т. д. А глубже – страх (всего).
Но твой довод (повод) правдив и, <оборвано> ибо давно считаю правдой (чудовищное [сопоставление] <варианты: звуч<ание>, созвучно) тебя и обществ<енность>. В конце концов – простая, qu’en dire-t-on[76], доброт<а> и забот<а>. О говорящ<ая>, почти что Pestalozzi. Я без злобы и без иронии. Так – ответ.
Отстрани нянек, Борюшка, даже меня с моей мо<льбой> о большой прозе – к чертям! Пусть тебя не охаживают (о пис<ательских> стол<кновениях> говорю). В ст<олкновениях> что-то коршунье. Твое дело. Шмидт еще не делает тебя обществ<енником>. Собст<венное> дост<оинство>. Разрешаю тебе совсем не писать, я за тебя спокойна. Поезжай на Кавказ (никогда не была, моя родина! <вариант: страна>), проведи лето в большой природе, – п<осле> людей.
– Как у тебя совершенно жизнь идет, какая просящаяся биография. До —
- Скромная прихоть:
- Камушек. Пемза.
- Полый как критик.
- Серый как цензор
- Над откровеньем.
- – Спят цензора! —
- Нашей поэме
- Цензор – заря.
– включительно. Твоя война – война Вагнера, Гёльдерлина, Гейне, всех <над строкой: не перечисл<ить>>. Твоя война старинная.
О Маяковском прав. Взгляд – бычий и угнет<енный>. Так<ие> <вариант: Эти> взгляды могут всё. Маяковский – один сплошной грех перед Богом, вина такая огромная, что [нечего начинать], надо молчать. Огром<ность> вин<ы>. Падший Ангел. Архангел.
– Милый друг, ты пишешь о безвоздушности. Я верю только в простой воздух, которым дышишь легкими. Тот – где он? Вещь (Ding) настолько совершеннее человека (любая – любого), что самый прямой как раз равняется самому кривому кусту. Мне с людьми, умными, глупыми, отвлеченными, бытовыми – ску-у-чно. Клянусь тебе, что как человек в дверь – так шью, чтобы не терять время. От Запада жди не людей, а вещей, и еще – свободы выбора их. У меня никого нет, ни даже Асеева, и первая мысль, когда зовут: а накормят? Если нет – не иду.
Ты связан с Россией, я нет, у тебя долговые (вольные) обяз<ательства>, – что подумают, как истолкуют. Борис, я тебя не уговариваю, но подумай только то, что есть: наконец, вырвался (дорвался!). А что тебе в том, что стихи будут истолкованы территориально, раз наконец. Шмидта несомненно толкуют – классово (в лучшем случае – интеллигентски!) Я странно, и боевее и бесстрастнее тебя. Знаю свою страстность, не иду, п.ч. всё это ничего не стоит. Но когда случайно попадаю (затащут) – недавно было – всей настороженностью уха и тотчас же раскрепощ<ающегося> языка – срываю собрание. Большому кораблю – большое плаванье, большие воды, а жизнь – сплошное царапанье дна: место, где даже утонуть нельзя.
Твою жизнь здесь – через год, но будет же – вижу не с людьми, не дам тебя терзать, в глушине, в глубине, в горах, без забот, с тетрадью, с наставленным ухом. Побыть человеком – перестать быть с людьми.