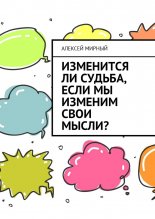Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов Пастернак Борис
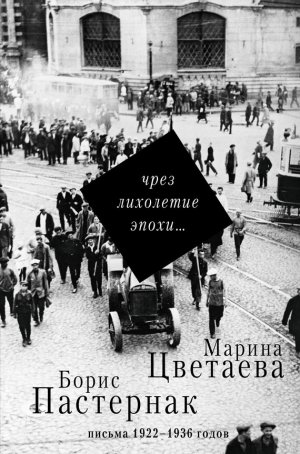
(А у Маяковского взгляд каторжника. После преступления. Убившего. Соприкоснулся с тем миром, оттуда и метафизичность: через кровь. Сейчас он в Париже, хочу передать ему для тебя что-нибудь.)
Не удивл<яюсь> и не огорч<аюсь>, что не рвешься ко мне, я ведь тоже к тебе не рвусь. Пять лет рваться – не по мне. Вопрос времени и территории. Будь ты хотя бы в Варшаве – рвалась бы, в Берлине – разрывалась бы и т. д. 5 лет об стену пространства, – а? Я и к Рильке не рвусь, ни к кому, тиха как святая. Рвусь к тетради, п.ч. здесь же, а нельзя (видит око, а зуб…). Рвалась тогда, с (давно упраздненных) богемских гор, слушала тебя в звоне пустого ведра (вниз за водою), а видела в большой луне в полнолунье (с водой наверх), была с тобой на всех станциях, о, Борис, той любви ты никогда не будешь знать. Моя книга стихов, сквозь всё и всех – ты, в самый разгар меня к друг<им> – вопль о высшем, моем, тебе, Тезее… почти забавн<о> будет (так врачу, разрезав, забавно, что именно то и так) лейтмотив той боли сквозь все днешние.
О себе. Вчера, – за час до тв<оего> пи<сьма> – С.Я. мне: М., я удивляюсь, как на Вас не действует такое освещение. Я прямо не могу. (Не отрываясь стоял у окна.) – Странно, что именно у Вас, на Вас… – Дома я ничего не чувствую, ничего, давно, дома я только спешу. Чувствую я только на улице. И это правда, такая странная жизнь, с мыслями (разовы<ми>, готов<ыми>) и без чувств. Чувство требует времени, по крайней мере неогранич<ения> его в предела – ну, часа? Если я буду чувствовать, нечего будет есть – Nur Zeit![77]
Большая просьба: уезжай на лето, перебори. И не в среднюю Россию, а куда-нибудь дальше, в новое, немножко в меня. Я, это твое уединение с собой, ничего больше. Стихи, Борис сами придут, не смогут не прийти. Ведь разное – когда горы ждут – и когда люди ждут. И п.ч. горы не торопятся, стихи приходят сразу.
А обо мне – не огорчайся. По такой линии готова ждать годы. (По линии опущенных рук!) И кто знает – пос<ле> встр<ечи> – не <2 сл. нрзбр.> друг друга на всей карте именно то место, которое обходят – и взглядом, и слухом, и нюхом <над строкой: мыслью>. М.б. кто-то – только бережет, <нрзбр.>.
Знаю, Борис, что не в нас, не от нас пойд<ет>.
(Ты – это в моей жизни м.б. тоска по совершенном сне и совершенном с<ын>е, такое чуешь и за тысяч<и> верст и лет. На твое от<цовст>во была бы ненасыт<на>. Говорю так, п.ч. всё равно не бывать.)
Возьми меня когда-нибудь в свою к<ровать>, в самую лет<нюю>, лиственную из к<роват>ей.
А то, что я писала о заработанном 5 годом праве на себя (отъезд, прочее) – общее место, вернувшееся в общую местность – ведь я-то никаких таких заработков не знаю, ведь это мое удивленное, ироническое, но всё-таки преклонение перед чужим (твоим) заскоком.
Святополку-Мирскому напишу, что ты – слыхала стороной – дал зарок годового молчания в письмах, – срок достаточен? За год авось надумаешь. (Я и за пять – нет.)
Пиши мне.
Дополнение
Борис! Отчего у меня занавес всегда связан с розой, неужели от з. Но само з не есть ли – служба связи? – смысл связи.
Письмо 92a
<ок. 11 мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Борис, ты никогда не думал о том, что есть целая огромная чудная область, для стихов запрет<ная> и в которой открываются такие огромные законы, открывались бы – через слово. Так нынче, идя по улице, установила: мужчина, дающий влагу, припадает к женщине, как к роднику. Мужчина припадает к женщине как к роднику – а сам родник. – Сам поит, а думает, что пьет. / Правда в припадении мужчины к женщине, как к роднику, к<огда> сам родник. Поящий – а пьет! Правда эт<ой> недостоверност<и>. / Или же: / Есть миры, Борис, да – дивись / То, что узнаешь вдвоем, – так бы я назвала, так это называется. Ничто, Борис, не познается вдвоем (забывается – всё!), ни честь, ни Бог, ни дерево – ни – ни… Только [тайна твоего] твое тело, к которому тебе ходу нет. Подумай, странно<сть>: целая область души, в которую я (ты) не могу одна, Я – НЕ МОГУ ОДНА. И не бог нужен – а человек. Sesam, th<ue> Dich auf![78]
На эт<и> мысл<и> набрела после сегодняшнего раннего утра, когда я вдруг почувствовала тебя рядом – в моей досягаемости, только руку (и очень немножко) протянуть, отвести от тела, просто – пошевельнуть. Я лежала и думала: как ПРОСТО.
Думаю, что если я была бы с человеком, которого очень люб<ила>, – МАЛО! – того, Героя П<оэм>, очень любила – нет с таким – ну, Колумбом внутрь (КАК Я) – [следовательно, не сердись, с тобой (ведь это лучше, чем начать с «тобой»] я бы сказала, т. е. узнала, установила, утвердила целый ряд изум<ительных> вещей, не откры<тых> там: несказанных, м.б. несказанных (высказала бы), [Не поэт в охоте за дичью] внезапное озарение, что я целой себя (второй себя, другой себя, земной себя, – а ради чего-нибудь жила же!) НЕ ЗНАЮ, да, вопреки Поэме Конца. Там было ошеломление, столбняк ЛЮБИМОСТИ (так меня никогда никто не смел любить – как любую!), зачарованность чужой зачарованностью, задохновение чужим задохновением, – в горах отзыв (Поэма Горы!), [но я этот материк открыв<ала>] Зараженность и заряженность, сильнейший вид душевной отзывчивости, нашедшей земные слова.
Борис, это страшно сказать, но я ТЕЛОМ ни<когда> не была, ни в любови, ни в материнстве, всё через: отсвечива<ло> <вариант: отсветом> в переводе с (или на).
Смешно мне тебе, незнакомому, невиданному (разве только что во сне!) – за тридевять земель – писать такое. [Я никогда не думала о тебе в этой области – ну руку к губам, ну головой на грудь.] Я мало думала о тебе в этой области <вариант: таком> – ожогами – не для (длительн<ость>). А за последний год совсем нет – ты стал младшим братом Рильке. А сегодня! И такая жгучая жалость, что не бывать, не бывать! Ведь целый мир [пропадет потонет] – пойдет ко дну! (а мог бы взорваться <вариант: открыться!>. Я бы такие слова нашла, самые (о <линии?> говорю) чистые, с<амые> точные. (Читатель бы думал, конечно, что я пишу о Царстве Небесном, <а?> меня сейчас здесь все <подчеркнуто дважды> обвиняют (Бунин, Гиппиус, молодежь, критика), обвиняют в порнографии за стих —
[Точно душу можно дать иначе как через тело! Точно (о <ненаписанном?>) тело иначе как через душу.]
Ты, Борис, в этом мире уже был в Сестре моей Жизни – огненная чистота, огненная <вариант: огневая> чистка этой книги! Тогда, когда писала, умолчала – ТАЙНУ. [Есть стр<оки>, от которых, правда, озноб по хребту] Но ты не замкнул его ночью, разлил его по кругу дня, втянул в него деревья, тучи, пр. Это (тай<ну>) в твоей книге просмотрели все.
Я не говорю о Liebeslieder[79], я говорю о <пропуск одного слова> Есть строки тождественные, однозначные, равнодействующие. Ты их знаешь.
Ка<кая> чудн<ая> стра<на> для открытий – твоих и моих. Це<лая> сокровищница подобий, соответствий, це<лый> свод (грот!) законов. И всё это нельзя[80].
Пишу тебе по проставлении последней точки книги «После России», в первую секунду передышки. Завтра сдаю. Две нач<атые> вещи: одну хочется, другую нужно (долг чести).
Тот свет, Борис, это ночь, утро, день, вечер и ночь с тобою. Это – КРУГЛЫЕ СУТКИ! А потом спать.
Борис, почему я ничего не мыслю долгим? М.б. потому что – вечная?
Борис, это письмо – порви, голубчик. Ты этого письма не читал, а я не писала. <Над строкой: Я его никогда не писала, а ты не читал.> Пусть оно останется как твоя собств<енная> мысль (домысел).
Не пойми меня превратно: я живу не чтобы стихи писать, а стихи пишу чтобы жить (Кто же конечной целью поставит – писать стихи?) Пишу не п.ч. знаю, а для того, чтобы знать. Пока о вещи не пишу (не гляжу на нее) – ее нет. Мой способ знания – высказыванье: попутное знанье, тут же знанье, из-под пера. Пока о вещи не пишу, не думаю о ней. (Ты – тоже ведь). Перо – русло опыта: сущего, но спящего. Так Сивилла до слов – не знает. (Ахилл у Сивиллы. Она об Ахилле никогда не думала. Сивилла знает сразу.) Слово путь к вещи. Потому мне <пропуск одного слова> с тобой нужно не для того, чтобы написать стихи (не сбиться!!!), а [чтобы по написании узнать, что (и что) она была] для того чтобы через стихи узнать, что такое ночь. Стихи – так ведь? – осознание прозрения (прозрение осознания).
Ты мне, Борис, нужен как тайное, как неизбывное, как пропасть, как прорва. Чтобы было куда бросать и не слышать дна. (Колодцы в старинных замках. Камень. Раз, два, три, четыре, семь, одиннадцать —. Есть!) Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не-поэта. [Мне мало отзыва] И ты не можешь. [Дело не в том, что другой поймет, и не в том, что отдаст, в том, что передаст и ты на его пере-еще передашь, и он на твое… Бери в глубину, в высоту, в к<акое> хочешь измер<ение> (говорю точно: их тридц<ать> семь!) – всё то же.] Ведь тайная мечта, твоя и оя, оказаться НИЩИМ (низшим). Это – с не-тобою – недостижимо. Как ты ни унижен, ни порабощен, есть тебе, над тобой, за тобой – ТО <подчеркнуто дважды>. [А тут – равные силы, т. е. (notre cas[81]) Сверхчеловеческие <над строкой: несоизмер<имые>>. Куда это всё умест<ить> в жизни (notre cas) не знаю.] Пойми высоту (с’высоту!) поражения, если будет. – Ты сильней меня. – (Мечта сильного о равном – мечта о поражении от равного) Рав<енство> – чтобы было что нарушать (Посейдон колебл<ет> зем<лю>.) Не божественный, не любой: равный. (Собожеством, или же со-любым – в мире ином!)
Помнишь Элегию Рильке ко мне? (Никому, кроме тебя, не дам до гроба). Liebende knnen, drfe nicht…[82] – не пом<ню> – столько знать. Он был прав. Я, конечно, не [любящая] Liebende, я <хотела?> сказ<ать>: Wissende – нет, из другого его письма: Ahnende[83]. А тебе – не дороже любви?
Скобка. Любить тебя, я, конечно, буду больше, чем кто-либо кого-либо где-либо, но – не по своему масштабу. По сво<ему> – масшт<абу> – мало. П.ч. я, как ты, втягиваю в любовь такое, от чего она сил<ой> напряж<ения> разрывается рассосредотач<ивается> – или – разрывается <над строкой: не сбывается – <нрзбр. >>. И потом – лохмами возвращается ко мне отвсюду, по кругу разрыва: с неба, с деревьев, справа и слева протянутые руки, из-под ног (земли, – травою). Борис, – всё может быть! – и это так естественно – ты м.б. сейчас у письменного стола, такого же тверд<ого> ощуп<ью> осяз<ания>, как мой. В левой руке папироса, правая в бегах. (У меня над письменным столом во всю стену план Парижа – останок прежнего кварт<иросъемщика>, русского шофера, который я не имею мужества, времени и чего-то еще – снять. И замеч<ательная> карта звезд. В Париже бываю редко и не люблю его, боюсь до смерти. Французов не люблю.) А у меня сейчас за окном солдатский сигнальный рожок, – казармы спать идут. Казармы (здание) – живое, а солдаты в Версале (я ведь рядом с Версалем живу) – игрушечные / деревянные / оловянные. П.ч. <вариант: Ибо> казарма – Ding[84], а солдат – даже не человек (иначе же – плохой солдат).
<Набросок карандашом, продолжающий тему середины письма:>
Унижение знать через низшего, недост<ойного>. [Я не хочу чувствовать от (через) неравного.] / Лучше не знать совсем. Сейчас – люба, а через 5 минут будут презирать (вспоминаю своих московских, времен 1919–22 г., партнеров). [Только отойду, будут презирать. Или не презирать – расценивать – жалеть – снисходить. Я не снисхожу – восходите.] Ланн еще лучший! / Ко мне шли учиться душе, а я к другим – учиться телу (собственному). [Честное слово. И ничему не научил<ась>.] Первый, осмелившийся, зах<отевший> научить меня телу, был тот, герой поэм. И ему, по гроб жизни, благодарна за желание, за бесстра<шие> и слеп<ость> жеста. Моя книга тебе много объяснит – в постепе<нности>.
Никто никогда во мне не видел души! – жалоба стольких. Никто никогда во мне не видел тела – не жалоба, но задумч<ивость> – моя. Даже самые грубые. Так и шло врозь.
Тот, герой, увидел во мне тело, но… не моей души тело (вторую душу), а – желанное женское [За которое умираешь, но], сам<ое> дорогое из всех любим<ых>. Пойми мое счастье и – очень скоро – мое: назад. <В теле?> я спасалась от пространства, этого прост<ранства> задуш<ившего> меня. – Кусок исповеди. Забудь.
<Пропуск одного слова>, а утром: у Пастернака нет ясн<ости>, нет гармонии, прочт<ите> Пу<шкина>, —. Как я могу <3 сл. нрзбр.>
Письмо 92б
11 мая 1927 г.
Цветаева – Пастернаку
Борис! Ты никогда не думал, что есть целый огромный чудный мир, для стихов запретный и в котором открываются, – открывались такие огромные законы. Так, нынче, идя по улице, подумала: не странно ли, что мужчина поящий припадает к женщине как к роднику. Поящий пьет! – Правда этой превратности (перевернутости). Дальше: не есть ли поить, – единственная возможность жить? То, что узнаешь вдвоем – так бы я назвала, так это называется. Ничто, Борис, не познается вдвоем (забывается – всё!), ни честь, ни Бог, ни дерево. Только твое тело, к которому тебе ходу нет (входа нет). Подумай: странность: целая область души, в которую я (ты) не могу одна, Я НЕ МОГУ ОДНА. И не Бог нужен, а человек. Становление через второго. Sesam, <thue> Dich auf!!
Думаю, что если я была бы с человеком, которого бы очень любила – мало! – того героя поэмы тоже очень любила, нет, с таким – ну Колумбом – внутрь как я – я бы сказала, т. е. узнала, установила, утвердила, новооткрыла целый ряд изумительнейших вещей – только потому несказанных, что несказанных. Внезапное озарение, что я целой себя (половины нет), второй себя, другой себя, земной себя, а ради чего-нибудь жила же – не знаю, да, вопреки Поэме Конца. То было ошеломление <пропуск в копии> любимости (так меня никогда никто не смел любить, как любую!), зачарованность чужой зачарованностью, задохновение чужим задохновением, – в горах отзыв – (Поэма Горы). Зараженность и заряженность – сильнейший вид душевной отзывчивости, нашедшей земные слова. Борис, это страшно сказать, но я телом никогда не была, ни в любви, ни в материнстве, все отсветом, через, в переводе с (или на!). Смешно мне, тебе, незнакомому (разве ты-то в счет), да еще за тридевять земель писать такое. Я редко думала о тебе таком – ожогами – не для (длить). А за последний год <пропуск в копии> совсем, ты стал младшим братом Рильке, не кончаю из суеверия. А сегодня? И такая жгучая жалость, что не бывать, не бывать! Ведь целый мир (открытый бы!) пойдет ко дну! (А мог бы взорваться.) Ведь целый мир не взойдет со дна. Я бы такие слова нашла чистые: (читатель бы думал, конечно, что я говорю о Царстве Небесном, как теперь, благодаря Борису и <Rilke>, убеждена в <правде> хотя бы этого стиха <пропуск в копии>)
- Точно гору несла в подоле —
- Всего тела боль.
- Я любовь узнаю по боли
- Всего тела вдоль.
- Точно поле во мне разъяли
- Для любой грозы.
- Я любовь узнаю по дали
- Всех и вся вблизи.
- Точно нору во мне прорыли
- До основ, где смоль.
- Я любовь узнаю по жиле,
- Всего тела вдоль
- Стонущей. Сквозняком, как гривой,
- Овеваясь, гунн:
- Я любовь узнаю по срыву
- Самых верных струн
- Горловых, горловых ущелий
- Ржавь, живая соль…
- Я любовь узнаю по щели,
- Нет, по трели
- Всего тела вдоль!
Ты, Борис, в этом мире (донном) уже был в «Сестре моей жизни» – огненная чистота, огненная чистка этой книги! Тогда, когда писала (впрочем, плохо писала), умыкала, как тайну. Но ты не замкнул его ночью, роздал его по кругу дня, <втянул> в него деревья, тучи. Раздарил, распял его. Это в твоей книге просмотрели все. Я не говорю о Liebeslieder, я говорю о строках. Есть строки тождественные, равнодействующие.
Ты же знаешь, <какая чудная страна> для открытий твоих и моих. Какая сокровищница подобий (соответствий).
Тот свет, Борис, это ночь, утро, день, вечер и ночь с тобой, это – круглые сутки! А потом…
Не пойми меня превратно: я живу, не чтобы стихи писать, а стихи пишу, чтобы жить. (Кто же конечной целью поставит писать стихи?) Пишу не потому, что знаю, а для того, чтобы знать. Пока о вещи не пишу (не гляжу на нее), ее нет. Мой способ знания – высказывание, тут же знание, из-под пера. Пока о вещи не пишу, не думаю о ней. (Ты тоже ведь.) Перо русло опыта сущего, но спящего. Так Сивилла до слов не знает. Сивилла знает сразу. Слово – фон вещи в нас. Слово – путь к вещи,
Ты мне, Борис, нужен как пропасть, как прорва, чтобы было куда бросить и не слышать дна. (Колодцы в старинных замках. Камень. Раз, два, три, четыре, семь, одиннадцать… Есть.) Чтобы было куда любить. Я не могу (ТАК) любить не поэта. И ты не можешь. Ведь тайная мечта твоя и моя сделаться нищими. А какое же нищими, раз в тебе (хочешь не хочешь) высшее. Пойми <высоту> поражения твоего, моего, если будет. Не божеством, не любым: равным (собожеством или же со-любым в мире ином!). Мечта о равенстве – мечта о поражении от равного. Равенство – как ристалище…
Любить я тебя, конечно, буду больше, чем кто-либо когда-либо, но не по своему масштабу. По своему масштабу (всей себя, себя – в другом, во всем) – мало. Я как-то втягиваю в любовь такое, от чего она не сбывается, рассредотачивается, разрывается. У других развивается дважды: как развитие (постепенность) и как развитие (растление) и потом лохмами возвращается ко мне отовсюду по кругу разрыва: с неба, с деревьев, справа и слева протянутые руки, из-под ног (земли – травою). (Другой любит меня, я – всё. Другой любит меня, я – всех. Пусть в нем <подчеркнуто дважды>, но ВСЁ и ВСЕХ.) Но при чем тут ты? Там, на границе того света, уже одной ногой на нем, мы не можем, не в том <ли> и чудо того света, что здесь не можем не! оповестить Бога, в какую сторону скашиваем каблуки. Я не могу представить себя иной и знаю, что по первому приезду – иной – стану. Я иная – это ты. Только предстать <пропуск в копии>
И возвращаюсь к первой половине письма. – А может быть – именно Бог???
Письмо 93
<ок. 12 мая 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Вот письмо к Св<ятополку>-Мирскому. Сделай одолженье, перешли его. Вчера получил твое. Как ужасно трудно ты существуешь! Совершенно непонятно, в каком времени протекает работа, дающая в результате такие чудеса. – Много думаю о твоей книжке. Настоящий разговор будет, конечно, о ней, т. е. она явится отчетным, завершительным поводом для формулировки всего, перечувствованного (кому дано) за поэмами. Жду ее, как праздника.
Позволь написать тебе, когда будет веселее, горячее, определеннее. Сейчас, – как темный сон.
Неужели всегда так жили? Неужели всегда такие тайны составляли задний план по-видимому благополучной, т. е. соответственной чаяньям и желаньям деятельности? И так много зависело от денег? Смешно говорить о воле. Она похожа на главного участника, т. е. подходит, чтобы его, по-обезьяньи, изобразить. Но если разрешенье близится, оно и без нее обойдется. Будем существовать дальше. Я не о запредельном. Я о симпатиях и антипатиях, распределенных словно пространствам и временам наперекор.
Твой Б.
<На полях:>
Не забудь переслать письмо. А получила ли мое о Лефе?
Приложение
<Запись Ц. перед копией письма:>
Письмо Б.П. к Св<ятополку>-М<ир>скому, по праву моей собственности на Б.П. прочитанное и переписанное.
10 мая 1927 г.
Глубокоуважаемый и дорогой Димитрий Петрович!
Простите, пожалуйста, и уверьте меня, что Вы не заметили этого непомерного запозданья, что все забыто. В Вашем прощеньи я нуждаюсь настоятельнее и неотложнее, чем в чем бы то ни было – Вы от меня. Я тотчас стал отвечать Вам на письмо, но и в настоящую минуту опять налицо та трудность, которая 5 месяцев назад решила судьбу моей попытки. Заговорить с Вами впервые значит заговорить о необозримо многом и нестерпимо болезненном. Это значит заговорить о себе в десятилетьи, – тема плачевная и не поддающаяся изложенью. Допустите, что это не первый разговор наш. Убедите меня, что Вы и сами догадывались и знали, что это существованье было похоже на полусон со страшными сновиденьями и почти лишено внутренних признаков жизни при очень слабой видимости внешних; что полный отказ от деятельности, в былой ее форме, сменялся деятельностью нечеловечески затрудненной и ослабленной, а эта последняя – приступами возобновленного отчаянья; что чувствованье времени, составлявшее почти метафизическую природу лета 17-го года, уступило место голой и пока не утоленной потребности понять и почувствовать все поколенье, во всей его горькой и несчастной целости в 27-м, – потребности, уже не утолимой одной интуицией, а обреченной долго и мучительно побираться в своем голоде по бесформенно расползшимся дорогам неизученных фактов и чужих преждевременных обобщений.
Скажите, что этот разговор уже состоялся и всё известно Вам, и тогда со всею точностью я вернусь к Вашему письму. В дальнейшем же, если это суждено, мы будем перекидываться с Вами частностями о частностях.
Мне не сказать, как оно меня взволновало. Даже и Ваша совершенно очевидная переоценка моих сил, чтобы не говорить об остальном, и та растрогала и умилила меня, как черта, несоразмерно более рисующая Вас самих, нежели как бы то ни было относящаяся до меня. Не объясню Вам, за дальностью темы, но сам прекрасно знаю, отчего именно черта эта отбросила меня к годам первых детских пробуждений, когда те же щедрые, неожиданно широкие ноты слышались в разговорах и сужденьях людей Толстовского времени и круга. Отец стал только иллюстрировать его тогда. Самого Л<ьва> Н<иколаевича> помню очень смутно. Его почти замещает в том сводном ощущеньи образ другого старика, художника H.H.Ге. Именно к нерасчлененному пятну той поры сходятся, как это ни странно, корни всего потом воспоследовавшего. Даже Rilke (он тогда ездил в Ясную Поляну) зарождается именно тут, впрочем несколько к концу, около 1900 г. В традиции, туда же восходит и мое ощущенье Вас. И Вы легко себе представите, с каким чувством лично к Вам натыкался я, за чтеньем матерьялов к 1905-му году, на факты, делающие такую честь Вашему имени и семье. Это к тому же и история, да еще вдобавок и история ослепительнейшего исключенья из всего этого странного царствованья.
А сила, превращающая нечаянности личной повести в партии исторического письма, есть именно та сила, которая, к глубокому моему горю, все больше и больше порабощает меня. Где-то она играет между нами. Наверное, я давно кончился, деятельно и страдательно поглощенный одним из ее уравнений.
– Совершенно нелепо, наверное, поминать теперь про предложенье «Commerce». Там незаслуженно любезны. Переведены ведь решительные пустяки. Для меня большим счастьем было помещенье переводов именно в этом журнале. Если они не оставили мысли о гонораре, то, вероятно, можно его перевести сюда по моему адресу через какой-нибудь банк. Гораздо ощутительнейшим вознагражденьем было именно вниманье журнала и, прежде всего, самые переводы. Они мне понравились. Если Вы знаете Е.Извольскую, передайте, пожалуйста, ей мою глубочайшую признательность. Горячо Вас благодарю за мысль перевести «Детство Люверс». Допустив даже, что вещь заслуживает Вашего труда и вниманья французов и до конца не будет Вами брошена, – откуда быть и тут гонорару, о котором Вы говорите, если не из готовности Вашей урезать свой собственный или уделить мне его долю? Разумеется, это ни с какой стороны не допустимо, и разговоры об этом должны быть оставлены. – Мне очень трудно писать Вам, как трудно (и еще труднее) временами переписываться с М.И. Это в полном смысле – растравливанье раны, и без того постоянно дающей чувствовать себя. На поездку же с женой и ребенком у меня нет денег.
<На полях:>
Не сердитесь, что письмо пересылаю Вам через М.И. Это вне моей власти, я не знаю, отчего это так, но во всем верю ей и ее живому превосходству. Желаю Вам счастливого и успешного лета.
Преданный ВамБ.Пастернак
Письмо 94
<втор. пол. мая 1927 г.&g;
Цветаева – Пастернаку
<Запись перед письмом:>
Письма Пастернаку отправлены: 8го мая (воскресенье, ответ на Леф) и 12го мая (четверг) о потонувшем мире.
Дорогой Борис. Твое письмо не только переслано, но прочитано и переписано. Искушение давать читать его всем морально: чтобы Мирскому меньше было, а фактически: чтобы до Мирского дошли одни клочья. Сейчас не знаю, что хуже: держать твое письмо не мне, а Мирскому в руках (собственной рукой нанося себе удар, наносить ему радость) или в час, когда мне нет письма – за редкими исключениями каждый час моей жизни – думать, что вот сейчас, именно в эту минуту, оно (т. е. мое), минуя меня, в руках у Мирского. Словом, ревность – до ненависти. Полная растрава. Прочтя те места твоего письма, где ты оправдываешься – «Я не знаю, почему это так. Это знает М.И.» – я не удержалась и «Олух Царя Небесного!» И Аля, присутствовавшая, спокойно: «Вовсе нет. Он – СОВ». Во-первых, Борюшка, я тоже не знаю, почему это так, я вовсе не говорила об одном конверте, т. е. неизбежном моем вскрытии. Конверт в конверте (яйцо в яйце, Матрешка, конкурс и Кащеева смерть) – такому-то, или же на конверте: Такой-то для такого-то. Ты – перецветаевил. Во-вторых, зачем ему о Рильке (упоминание), лицо которого в очередном № «Звена» я от него загородила локтем. Зачем ему о Ясной Поляне. Ему можно только о Святополке-Мирском (непредвиденной весне или как? Злюсь). Нет, Борис, вот его адрес: Tower St., 17, London WC 1 (Не забудь Prince[85]! Издеваюсь), а Вам, милый Димитрий Петрович, вот адрес Б.Л.Пастернака – Волхонка, 14, кв. 9 (не забудьте Леонидович: сын художника). (Упиваюсь.) Кстати, в какой-то книжке о поэтах он-таки упомянул сыновнесть <вариант: причастность>.
Полушучу, полузлюсь, целостно <вариант: полностью> страдаю. Ничего, Борис! То ли будет.
Два последних письма к тебе (в этом, к Святополку-Мирскому, святополчьем, неполученных) отправлены 8го и 12го мая. Первое – в ответ на Леф («Нашей поэме – цензор заря», отрывок, это я тебе как веху), второе – по-рассветное, о мире запретном, не имеющем взойти со дна.
Да, Борис, насчет гонорара. У нас здесь закон: в худшем случае ПОРОВНУ. Иные переводчики берут – автору переводимому, т. е. тебе. От праведных денег не отказывайся, купишь сыну башмаки <вариант: сапоги>.
Да! Родной мой, не смущайся, не считайся… Будь я в живых (т. е. значься я в твоей жизни) – <оборвано> Это ревность тех, у которых ничего нет, ни руки в руке, ни – только мысль. И эта мысль вдруг отводится – к другому кому-то.
Мирский тебе может быть очень полезен. Тебя он не разлюбит, п.ч. ты не женщина. Он многое для тебя сделает, издалека и вблизи.
Тебе ему так же (однородно) трудно писать, как мне. СПАСИБО. Но говорить с ним, предупреждаю, тру-удней, чем со мной.
Письмо 95
<ок. 27 мая 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина.
Я и второпях пишу тебе с полнейшим сердцем, без опасенья. Ты все видишь, ты увидишь, как и когда что пишется. Живость положенья целиком дойдет до тебя, не останется за порогом; действительность тебя в заблужденье не введет.
Я не учел, не додумал, а потому и не сказал тебе, в какой степени все это зависит от денег. Даже и Кавказ, представь (в семейной части, в комбинациях), пока недоступен.
Но у меня большая радость. Стало совершенно легко на душе. Вот основанье этой легкости. Я довел до конца, до каких-то простых человеческих положений тот круг мыслей, который меня беспокоил. Отчасти ты знаешь их. Ты чудно о них сказала (Pestalozzi).
Эти формулы ушли на дно ночного сосуществованья с временем, в рост волос, в походку. Я забыл об этих силлогизмах, выводы их материализовались в убежденьях. Я стал существовать в созданном обществе, которого нет, наверное. На пути такого восприятья его природы меня ждут может быть неприятности, м.б. и крупные. Но я их встречу как неожиданность. Готовность к ним была бы невыносима. Я рад, что от нее избавился.
Как ни сильно обскакивала ты меня эти годы, осенью ты оставишь меня Бог знает где. По стихотвореньям 24-го года книжка твоя совершенно бесподобная по полету и силе, ты и сама еще не знаешь ее заряда. А мне придется заняться реализацией неиспользованных начал (отрывков). Я попробую дописать Спекторского. Ты мне о нем ничего не говорила, он, верно, не нравится тебе. Но я его попытаюсь докончить. Личных побуждений тут гораздо больше, чем в случае с «1905-м». В замысле это почти на границе полной апологии поэтического мира. Ты скажешь, что он в ней не нуждается. Тогда ты не совсем представляешь себе, что тут произошло и насколько подчинен я – не чревовещанью времени, а жизни, протекающей среди чревовещающих лет. Чьей? Твоей, Р<ильков>ской, дважды моей. Но тебе покажется, что не так она протекла?
Сп<екторский> – это почти предпоследняя инстанция, так он задуман. – Кстати, ты как-то обмолвилась, что Шмидт, в 1-й части, был где-то перепечатан. Где именно? Что касается II-й и III-й части, которую, просто для порядка, пересылаю, то не давай их перепечатывать: м.б. в корректуре я тут кое-что переделаю, и тогда правы окажутся те, что уже говорят, будто по многим признакам я скорее печатаюсь у вас, а тут перепечатываюсь. Осенью, думаю, выйдет книга. —
Замечательно говоришь ты о 2-й строке, о гимнасте, о гении связи. Это та же тема, которой ты коснулась тогда из Лондона, о правдивости, ненарочитости даже явных поручений воли, ее почти что даже заказов судьбе у людей нашего строя. Слов твоих не помню, мысль была та же. Именно эта композиционная подоплека, как это тебе ни покажется странно, ввязала меня во все эти истории с историей, с духами года, с Pestalozzi и пр. Именно она и не оставляет меня без надежд среди самых иногда безнадежных предвестий. – Твои слова о М<аяковском> уже подхвачены, все поражаются их меткости и исчерпывающей глубине. – Говоря о моей связанности и трагизме твоей доброй воли, ты прибавляешь: «Так, напр<имер>, я достоверно теряю славу, свой час при жизни». Ты говоришь это не без горечи, меня это волнует, мне хочется тебе по этому поводу сказать все, что знаю и что удесятерит мое чувство к тебе, – но у тебя это сказано слишком широко и неопределенно, раскрой и уточни этот намек, допускающий больше трех толкований. Утвержденье это противоречит фактам при любой дешифровке, но мне хочется знать, что именно померещилось тебе. Скорей и обязательно напиши об этом. —
Неужели ты не пересаливаешь, не шаржируешь (о Бунине, порнографии и пр.)? Но в таком случае что с ними? Это ведь неправдоподобно, непредставимо! А какой чистоты и силы и молодой, идеальной правды стихотворенье! А насчет письма (мир открытий, не могу одна, поящий – пьющий) – ну конечно, Марина! И это мое «ну конечно» ведь известно тебе. – О, Марина, все будет прекрасно, не надо только говорить. Все, все, все решительно. Самое главное: книга твоя будет бесподобна!
Письмо становится все глупей и глупей. Не могу описать тебе душевной легкости, которая меня охватывает все более и более. Не представляю себе и никогда не смогу представить, чтобы ты могла стать когда-нибудь для меня меньше, чем есть или была. Ни о чем не хочу думать. На днях специально назначил встречу с Асеевым и Маяк<овским>, чтобы договориться, со всею резкостью, и поссориться. Говорили, противоположности подчеркнуты и будут расти, и при всем том: – пустяки. Всем троим бросилось в глаза, что любим и любили друг друга больше, чем знали (о том). Это к характеристике состоянья. А пример – совершенная ничтожность в сравнении с тобою. Так хочу провести лето. Начинаю верить, что буду опять поэтом когда-нибудь.
Обнимаю. Очень твой.
<На полях:>
Спасибо за журьбу по поводу письма к Св<ятополку>-М<ирскому>. Шутливость его дошла до меня. Может быть и правда наделал глупостей.
Письмо 96
<31 мая 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Борис, я животное, я только вчера отправила твое письмо Святополку-Мирскому, вчера, 30-го, получив его 17-го. – А? – И вместе с просьбой Мирскому выслать мне очередное иждивение, обернув твою лирику в эту <пропуск одного слова> облапив ее – ею. Он, конечно, кинется сперва на твое письмо, а на закуску мое – а? (Иждивение – мал<ая> сумма, раз в три месяца выпрашиваемая им для меня у английских друзей.)
Борюшка, ты взволновался о славе. Дай, пойму. …теряю свой час славы. Есть в этом горечь? Досада, пожалуй, и вот почему. [Если бы я была пон<ята> через 100 лет назад (я с ума сошла! вперед, конечно). Когда я пишу, я ни о чем не думаю, кроме вещи. Потом / Когда написано – о тебе. Когда напечатано – о всех <над строкой: и о каждом (единице всех)>.] И вот, мое глубокое убеждение, что печатайся я в России, меня бы все поняли – и тут же, – угадай, чье? – чтобы / да, да, все [из-за моей основной простоты], п.ч. каждый бы нашел свое, п.ч. я – много, множественное. И меня бы эта любовь – несла.
(Конечно, так лучше, всё лучше как есть.)
[Мне просто захотелось океанской волны, целого океана в одной волне, безличного заочного тысячегрудого – ох – при моем имени. И – своей поднятой головы в ответ. И – своего отсутствия в ответ]
(Борис! Слева стихи, справа письмо к тебе, пишу попеременно.) Просто в России сейчас пустует тр<он>, по праву – не по желанию – мой. Говорю с тобой, как со своей совестью. Тебя же никогда не будут любить так, как Блока (Есенин – междуцарствие, на безрыбьи и…, ПОПЫТКА созд<ать>), ты избраннее меня, нужно родиться тобой, а я – через стихи – таких рождаю. (Кажется, прави<льно>.) Или, точнее: мой жест из: жил, сил, чего хочешь. Изымающий. Ты вводишь. Будучи введенным, нужно жить. Я вывожу и этим – предоставляю. Я – одна секунда в жизни читателя, толчок. Дальше – его дело, и боль<ше> ему не нужн<о>. <Писала ли?> тебе: [ты видимое превращаешь в невидимое, я невидимое – в видимое.] ты явное делаешь тайным, я тайное – явным: вывожу на свежую воду.
Но, чтобы вернуться к славе – моих книг в России нет и поэтому поэта нет. Не Маяковского же им любить – служебного, не Асеева – бездушного, не тебя – под сущного, когда они и сущего-то не видят, конечно, Борис, меня – с моими перебоями, перемежениями сокровения и откровений. Меня, Борис, – молнию, ту синюю вчерашнюю, бившуюся в мои окна в 2 часа ночи. Люблю ее! О – как больше луны!
Несоизмеримость I части и III. II – переход. Сейчас бы – Шмидта – с конца! III часть – настоящий ты. Читая «первенец творенья», я улыбнулась – не я одна – все присутств<овавшие>, и один из них: Дорвался!
Продолжение
<2 июня 1927 г.>
Борис, всё это – знаки. Сегодня безумный день, лондонский туман. С утра сердце летело. (Ты не можешь себе представить, до чего я редко что-нибудь чувствую, до чего я машинна. Между мной даже – с богемской горы к тебе – и мной сейчас – несоизмеримость. Первое чувство в ответ на какое бы то ни было собственное – изумление: Как? Значит – еще?..) Итак – и вот – Лондон в Мёдоне, дымная желтизна, потемнение – с минуты на минуту, о, я не могла дорваться до улицы – ник<огда> солнце так не повелительн<о>. Выйдя, выбежав – окунулась. [Домой!] Не шла – несло. После двух ночей гроз – синих!! – утро тумана. (Писавший утро туманное думал совсем о другом, тум<ан> – стихия.) Слов<ом>, после тебя еще ты (и я тебя обожаю, в скобках). О, Борис, Борис, как всё – вместе идет. Последовательность: 1) моя, наконец, отсылка письма Мирскому, 2) твое письмо, 3) в тот же день Шмидт! – гроза, 4) в тот же вечер чтение его – гроза, 5) вчера письмо из Чехии с описанием выступления Маяковского и впечатлений от твоей прозы, впервые читанной, 6) нынче – одновременно – яйцо тумана (а в яйце я) и письмо Мирского в ответ на твое, привожу. Борис!
Мой обожаемый! (Можно так говорить?) III ч<асть> Шмидта такая сила-силища, такая – ты, что у меня одно чувство – победителя. (Чего – поймешь.) О, Борис, так поют, вырываясь из тюрьмы. Ты в III ч<асти> уже вне Шмидта, потому так восхитителен. Начинать так нельзя, так только кончают. (Не могу не отметить речь Шмидта, местами отвратит<ельную> – родственн<ую> письмам: тираны и пр. общятина). Когда я смотрю – в веках – на эту пару: тебя и Шмидта, я – смеюсь. В одну телегу впрячь не можно – Коня и трепетную – рвань (дрянь). Если бы не боялась тебя обидеть, сказала бы слякотную. Нет, Борис, Шмидт – хороший человек, и Бог с ним, а вот III часть – великолепие, и боги с тобою. В твоей истории с Историей я тебя понимаю с трудом, я ведь, в какой-то глубине, в наедине своем – безотв<етственно> историю сбрасываю. Но не обо мне. Рада книге Шмидта [какой матерьял для психоанализа] и сейчас не мысл<ю> ее общност<и>. Думаю, в брошюре – III часть отлетит на – за – не знаю: далёко! в ней пружина, бьющая. III часть вровень Потемкину. Наконец, с чистым сердцем могу писать тебе о тебе в текущих днях.
Усиление тебя в моих, присутствие в часах до таинственности (если бы что-нибудь было таинственным, если бы не всё и значит – ничто!) совпадает с усилением моей жизни в стихах. Я сейчас пишу вещь, совсем одинокую, отъединяющую, страшно увлечена. И вот рвусь между письмом к тебе и очередным четверостишием, говор<я>: справа ты, слева стих, оба [лучше больше] пуще. (Вдруг – неожид<анно> – ответ женщины XVIII столетия, XVIII столетие устами женщины: Что бы Вы сделали в лодочке <над строкой: во время бури>, где Вы, [Ваш муж и Ваш друг] и нужно было бы, чтобы было <только?> дв<ое>: – Je sauverais mon mari et je me noierais avec mon amant[86]. – Noyade (почти naїade![87]), вот это – конец Молодца – в огнь синь! – это всё мое право на себя, но – КАКОЕ.) Я никогда не стану для тебя меньше чем есть, чем была. Конечно, нет. Знаю. Меньше может быть только, когда берут из целого (стылого), а когда из растущего – даже ты, Борис, не сможешь пожрать меня в росте, предвосхитить, подавиться, проглотить (envoter[88]. Какое чудо – этот грот, втягивающий море – в глотку). Родной! – «Не надо говорить». Конечно не надо, я тебе говорю только о том, КАК я бы сказала. Мысль, а вовсе не слово. Мне нужен союзник – в м<ысли> – кто как не ты? (А под рукой мех, твоя голова, сквозь который явственно прощупывается мысль. Мех и мысль. И не с затылка, нет, с лба, как себя держу за голову, отведя волосы, переп<летя> пальцы концами и под ладон<ями> неуловимое место <вариант: средоточие> силы).
Как можно было у Гёте Вертера взять Гёте – Euphorion?
– Мысль. Ты во мне не существуешь, подсуществуешь, как вообще в мире, твое пребывание во мне не есть выхождение из. Ненарушенность. Почему всё конч<ается>, п.ч. люди, живущие внутри или вне, – выходят в любви – наружу или внутрь, нарушают, не могут. Лучшие «опускаются», снисходят, другие возвышаются, – едино: не их воздух, не могут. Перерыв. И опять домой. Самое ужасающее явление дробности, частичн<ости> кус<ков>, вырванных из жизни. – Говорю и о себе. – Усиление <нрзбр. >, по той же <нрзбр. > – так быть должно. Или же – ПОЛНОЕ ИЗЪЯТИЕ себя из себя, мира из мира – те, прости за грубость – двое суток в постели Нинон де Ланкло <над строкой: тех двух> – [не о пост<ели> говорю] – ничего не зная, не ведая, пусть дом сгорит – не вста<ла>. [Говорю не о <пропуск одного слова>, а о напряж<ении> ее.] (Пойми мой подход к подобию!)
Вдруг, среди ночи, внезпн<ое> осознание осознания тебя в их глазах <над строкой: твоего положения среди> – аристократом, да, мол, Шмидт и всё так далее, а всё-таки… Полуусмешка, полубоязнь. Сторонение.
Entfremdung[89].
<Преклонение?>.
Хотела тебе сказать о замечательном писателе Конраде – поляк-англичанин, по окончании очередной книги которого безутешна. Lord Jim, Victory. И еще – о полном равнодушии к Valry и воинствующем презрении к A.Gid’y. И еще о плачевности прозы Hofmannsthal’a, <нрзбр. > книг<у> (не даром!) переводи<ли> франц<узы>. О недосягаемости (раз достигнуто!) Рильке.
Дополнение
Борис, я пишу вещь, от которой у тебя мороз пойдет по коже. Эта вещь – начало моего одиночества, ею я из чего-то – выхожу <вариант: изымаюсь>.
Письмо 97
19 июня 1927 г., Дер<евня> Мутовки
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Мы на даче. С неделю готово письмо тебе, в ответ на твое (где о славе, переоценка III ч<асти> Шмидта, несколько слов о М<аяковском> и работе над лирикой). Оно лежало, и я не даю тебе деревенского адреса, потому что не доверяю местной почте. В особенности заграничная переписка ей не по навыку. Не пересылаю его и пишу новое потому, что оказия, с которой хотел его послать, против моего ожиданья запоздала. Брат не приехал из города в воскресенье, как думали, завтра отправлюсь в Москву я сам. И только оттого, что письмо пролежало больше, чем я предполагал, оно мне кажется несвежим. Это с ним случилось именно в дни, прибавившиеся против недельного расчета.
Сначала несколько слов о себе, с этим я разделаюсь быстро, без трудной точности. Здесь очень хорошо. Это в 5-ти в<ерста>х от Хотькова. Под боком – Абрамцево, Аксаковское в далеком прошлом, позднее – Мамонтовское именье. Помнишь лавочку в одно окно в Петр<овских> линиях, с Поленовыми, Малютиными, Врубелями и др. из дуба, ореха и майолики. Твой лев, третий год служащий мне настольной пепельницей, думается, тоже оттуда. Ну вот, мы теперь на их заброшенной родине, в 60-ти в<ерстах> от Москвы, в прекрасной новой избе, на самом краю лесистого обрыва, с соответствующими просторами, открывающимися с него, и рекой Ворей, являющейся из лесу на противоположной высоте и сворачивающейся в две круглых излуки на наших глазах, под нами, в кустах, болотцах и других неописуемых неожиданностях. День на третий или на четвертый после переезда, набродившись, сколько надо, кругом, я проснулся в том самом мире, от которого, в твоем выраженьи, у меня пойдет мороз по коже, как и сама ты хорошо предчувствуешь. Ты занята им сейчас, я страшно верю в эту твою полосу и люблю твою готовящуюся книжку и твое лето перед ней: это и по историческим часам Европы нынешним летом (т. е. им самим над головами и в сердцах и по лицу земли) мыслимо, нужно и жданно и воплотимо. Просыпается послевоенный человек, с природою, как сном, в чуть-чуть постаревших глазах, с жаждой наверстать проспанное без сновидений. Нечто подобное, в качестве близких рабочих видов, колыхнулось и во мне. Завозился над Спекторским, кое-что обдумал, кое-что записал, нашел вновь, что Тютчев выдерживает, как всегда, предельное испытанье сырого зеленого соседства, облюбовал урок: сходить в Мураново, Тютчевское именье в 8-ми в<ерстах> отсюда, и о прогулке написать, что дадут сказать, на тему: время, природа, поэзия (гетеанская гамма, внушаемая тут каждым оврагом, каждым часом, отданным лесу или реке). Так зажилось тут сначала, я с верой и повеселевшей волей взглянул вперед. И вдруг все изменилось. Я знаю, условья, в которых ты работаешь, в смысле времени, средств и житейских сил – в тысячу раз хуже моих, и стыдно и больно, что я этого не могу изменить. Но ты понятья не имеешь о том, какие нравственные неожиданности (в смысле перспектив и настроений) подстерегают тебя тут на каждом шагу, в лучшие, лучшие абсолютно, т. е. не для тебя одного, а для всего дня, минуты! Так было и сейчас. В конце недели из города привезли газеты. Есть вещи, относительно которых всего естественнее молчанье полной подавленности и потрясенья. С 14-го года, тринадцать лет, было, казалось бы, время привыкнуть к смертным казням, как к «бытовому явленью» свободолюбивого века! И вот – не дано, – возмущает до основанья, застилает горизонт. Что сказать? Завтра я разверну привезенную из города газету, и журналист в пиджаке, обремененный семьей и этим зарабатывающий себе и ей на пропитанье, пропишет мне, что четвертованье и сажанье на кол есть последнее открытье передового человечества, читавшего Маркса в библиотеке, а не глодавшего его в пещере, а послезавтра другой сукин сын (прости, Марина) по служебным обязанностям докажет, что я английский шпион, потому что на конверте, полученном мной, английские марки, и оно <так!> из Лондона, и потребность в связи с людьми и миром – блажь на взгляд обесчухломленной чухломы, которая лучше меня знает, что надо мне для моего спасенья. На эти фразы мне не отвечай, не облегчай другим выслуги, если меня спросят, я отвечу: да, ради этого герои шли на смерть, об этом мечтало человечество: чтобы, отмывшись от вшей, изойти от душевного зуда внутреннего подглядыванья, чтобы покрыться паразитами по всей совести, чтобы зачесалась душа.
Кроме того – настали холода, пошли дожди, заболел мальчик. Я не знаю, чем он хворал. 3 дня у него был сильный жар. Я дважды за пять верст лесной дорогой (почему описываю? – один раз это было ночью) ходил за доктором. Обещал и не был: раз, п.ч. был занят в больнице; другой – п.ч. подряженный для него извощик затонул по пути в доме крестьянина (культурное учрежденье с прямо противоположными целями). Мальчику давали по вдохновенью то касторку, то еще что-ниб<удь>. Показалось – корь. Сегодня он первый раз гулять вышел.
Итак, это время было не до работы, и хуже: как всегда при таких причинах широкого характера и неопределимо распространяющегося действия – должно было сказаться и на близких: мальчик капризничал, буянил и нюнил (тонкая переборка не доверху, т. е. вдвое больнее уху, чем без перегородки, когда занят и глаз) – ссорились с женой.
Сегодня впервые выглянуло солнце. И мальчик гуляет. И я пишу тебе, т. е. мне кажется, что душу отвел. Словом, давай признаем, что мне надо «светлее» взглянуть на себя и свое и лета с работой не уступать настроеньям. Может быть и правда все улучшится и опять наладится ладившееся уже было.
Перед отьездом раза два виделся с Асей. У ней завязалась переписка с Горьким, читала мне одно письмо, удивительное по уму и сердечности: он зовет ее вместе с ее другом в Италию и вызывается помочь им не только денежно, но в смысле влиянья по исхлопотанью виз. Подумай, может еще так случиться, что ты с ней встретишься! Я от души ей желаю осуществленья этой мечты.
Я не знаю, писал ли я тебе, что болел III-й частью Шмидта, т. е. темой суда и казни, т. е. этой не утратившей остроты, людоедской и в наши дни, темой. Думаю и я, – она лучше других. Но ты ее хвалишь сверх меры и, радуя своим желаньем придраться, к чему можно, чтобы обнять похвалой, вместе с тем и смущаешь. Если бы эта часть была так хороша, как тебе того хочется, мне пришлось бы пожертвовать половиной денег, следуемых за книгу, и сократить поэму вдвое, равняясь по этим мнимым ее превосходствам. Я же к этому ни с какой стороны не готов, особенно в качестве книги не был заинтересован, примирившись с самого начала с ее уровнем, и вообще, относился к этому легко. И вот глупый, как это иногда у меня бывает, вопрос к тебе. Напиши мне, если можешь, не откладывая, как мне быть. Делать ли из этого готового и почти вперед оплаченного греха стоющее нечто или пощадить, в этом изданьи, время и карман? Кстати, завтра еду за первой корректурой. Ответь так, чтобы застать меня за ней. Я к тебе даже обращаюсь как к самому дорогому и к оракулу, а не как к поэту за советом: для этого последнего случая вопрос поставлен слишком расплывчато и нелепо.
Написал отсюда С<вятополку>-М<ирскому>, вспользовавшись данным адресом. Дал также и свой. Честное слово, я не понимаю твоих замечаний по этому поводу, даже как шуточных. Зимой я принял это без рассужденья, как твою волю. Теперь ты, видно, отказалась от такого порядка. Зачем же ты подтруниваешь над собою и мной?
Но все это пустяки. Как не хочется мне говорить тебе под руку, но как представляю я себе, что с тобой делается и что ты дашь! Горячо тебе желаю подходящего расположенья, требующейся тишины и свободы, здоровья кругом, хорошей погоды и сосредоточенной силы, превращающей эти дни и недели в начальные, с новой мыслимой необозримостью сроков впереди. О, как я безбожно комкаю всегда, когда, не продумав, ляпаю разом, желая много сказать. Горячо желаю тебе досуга и удачи, горячо, горячо. Это не только сильнейшее мое пожеланье тебе, но и сильнейшее вообще мое желанье. Верю в тебя и в то, что что ни наметишь, исполнишь.
Из твоих слов о славе существенно только соображенье что книг твоих тут нет. М<ежду> пр<очим>, до сих пор и я в таком же положеньи, и оно изменится только осенью, не знаю, с каким результатом для меня. Но вернусь к тебе. Замечанье правильное. Их отсутствия недооценивать нельзя. Но вывод («а стало быть, нет и меня») неправилен и, – как свидетель ручаюсь, – ложен. Вот мои наблюденья и соответственные сему предположенья.
1) В широчайшем, нарицательном смысле тебе предстоит еще стать открытьем для местной литературной заштатности, для тех, которым нет числа, т. е. скажем, для провинциальной газеты. Тебе этого не миновать и ждать относительно – недолго. Ну что же, с этим можно поздравить. Не смейся. Из всех видов популярности это – еще живая ее форма. При ней безлично неопределенное множество входит в твою жизнь еще облагороженным своей пораженностью, состояньем своего восторженного прозренья. В таком виде, взволнованное первым знакомством, среднее арифметическое, входя в твою биографию, еще не портит ей желудка, еще по свежести своей годится в дорогу тебе. Это о перспективе известности вновь повсеместной.
2) В более же узком кругу, в том, в котором живу и я и проживу свой век и вне которого меня нет, ты последние годы не перестаешь вести исключительное, завидно повышенное существованье. Эти разговоры о Марине Цветаевой особенно удивительны тем, что они ничего не утрачивают в своей свежести, несмотря на свое постоянство. И в апреле их жару не мешает то, что с такою же дружной внезапностью они по тем же редакциям (разумеется, неофициально) велись в феврале и марте. Существованье это не развешано по гвоздям именных связей. Оно расходится по неведомым путям. Поэмы ходят в списках.
Однажды в журнале, поставившем себе нечеловеческую цель ругать все человеческое и называющемся «На Лит<ературном> Посту», я прочел выдержку из В<оли> Р<оссии> о твоей вероятной популярности тут, у нас, как явленья нового, послереволюционного. Это предположенье В<оли> Р<оссии>, справедливое, как сама истина, настолько отвечает действительности, что кажется корреспонденцией отсюда. Но, разумеется, в журнале этот факт отрицается. В том же № высказывается одобренье моему «новому направленью». Но хвалит меня человек, разносивший за Сестру и Темы, и хвалит так, точно я у него и у журнала в кармане. И что это за карман! – Но как я записался! Надо ложиться спать. Завтра еду в 6 ч<асов> утра.
Твой Б.
Письмо 98
10 июля 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина!
Вторую неделю брат не приезжает сюда и нет связи с городской квартирой. До этого раза два ездил в Москву я сам и тогда писал тебе. М.б. за эту неделю есть что-нибудь от тебя, и я этого не знаю. Последним письмом от тебя было то, на которое я отвечал. Разумеется, особенно грустно бывало садиться в вагон не солоно хлебамши, т. е. без твоего письма. И всегда это бывает к вечеру, когда солнце слева полосует скамейки, светит под них и поезд от Пушкина становится пуст и точно даже без машиниста, т. е. когда и без того все это так похоже на детство. Но если даже и сейчас еще нет ничего от тебя, то как ни противятся этому всякие суеверные извороты сознанья, основное мое настроенье находит только радостное объясненье твоему молчанью, потому что только им может удовлетвориться. Наверно ты работаешь, и – представляю себе, – как! Косвенно я уже тут сказал тебе, какие чувства у меня берут постепенно верх над прежними и недавними. Кажется, я оживаю. Как ни отличны условья, в которых мы с тобой живем, то, что меня начинает подымать, – шире этих различий. Т. е. я думаю (меня это чувство не покидает), что нечто, подобное моему, в то же самое время переживаешь и ты и делаешь из этого одинаковые выводы. Что-то делается с самим временем, вот в чем дело. Оно точно устало от свалившихся на него ролей, ему опять хочется быть организмом. Если ты не делаешь этих же наблюдений, то этим ты меня нисколько не смутишь: ты сама ведь готовишь книгу стихов, т. е. осенью напомнишь, что родилась и жила лирическим поэтом, делать же это можно только в соседстве с цельным временем, чувствительным к живым фрагментарным знакам, соединяющимся, смешивающимся с нами. Я проговорился против воли. Если по переезде в город мне нечего будет показать тебе, куда я денусь от стыда со всею этой метафизикой? Но с какою верой смотрю я на будущее! Как люблю и знаю твою книгу. Но опять я говорю тебе под руку. В этом состояньи счастья по еще не выяснившимся причинам лучше всего молчать. Обнимаю тебя.
Твой Б.
Письмо 99
15 июля 1927 г., тотчас же
Цветаева – Пастернаку
Борюшка, в последнем письме я писала тебе, что буду писать – и отчасти, что буду писать о Шмидте. В этом основном что мы не сходимся с Мирским (как после 10 дней дружбы вообще ни в чем не сходимся), недавно приехавшим и слышавшим III часть. Сходимся – в восторге перед ней и от нее – не сходимся в оценке I части – писем. Знай, что Мирский их оправдывает [(так нужно) и ссылается на будущее, знай, что я их не оправдываю и ссылаюсь на то же будущее] как историк, знай, что я их не оправдываю как поэт. Их – нет, тебя – целиком – в вещи – да. Борис, ты настолько огромное явление, что рассматривать Шмидта самого по себе ни мне, ни другим твоим любящим не удастся. Шмидт как этап. Шмидт в контексте, скажем предположительно, Спекторского – и последующего не знаю чего. Шмидт – document humain[90] сосланного на землю духа – Б.П. (Фауст – как этап.) Сам Б.П. – как этап в истории Духа. И т. д. – ибо далее всегда есть: оно и есть ВСЕГДА.
Обо все этом, несколько иначе, я тебе уже писала, теперь о другом, тревожащем, – письма не доходят? Какая безнадежность – писать! О Борис, Борис, как я вечно о тебе думаю, физически оборачиваюсь в твою сторону за помощью, <оборвано>. Ты не знаешь моего одиночества [на которое, заметь, ни разу в жизни не жаловалась]. Кончила Поэму Воздуха. Читаю одним, читаю другим – полное – ни слога! – молчание, по-моему – неприличное, и вовсе не от избытка чувств! от полного недохождения, от ничего-не-понятости, от ни-слога! А мне ясно, и я ничего не могу сделать. Недавно писала кому-то в Чехию: – Думаю о Б.П., как ему ни трудно, он счастливее меня, п.ч. у него есть двое-трое друзей-поэтов, знающих цену его труду, у меня же ни одного человека, который бы – на час – стихи предпочел бы всему. Это – так. У меня нет друзей. Есть дамы – знакомые, приятельницы, покровительницы, иные любящие (чаще меня, чем стихи, а если и берущие в придачу стихи, то, в тайне сердца, конечно стихи 1916 г.). Для чего же вся работа? Это исписывание столбцов, и столбцов, и столбцов – в поисках одного слова, часто не рифмы даже, слова посреди строки, почему не знаю, но свято долженствующего звучать как —, а означать —. Ты это знаешь. Борис, я обречена тебя любить, все меня на это толкает, прибивает к тебе, как доску к берегу, все бока облом<аны> о тебя. Еще одно: недавно среди дня ножиданно свалилась в сон. У меня в комнате маленький серый диван – мышиный – дареный, если вытяну ноги, свисают на аршин, так вот – свалилась, сплю. И такое глубоч<айшее> при<виделось>, не безымянное, не кто-то – ты. Я о тебе не думала, ни о чем, только знала: спать! Очнувшись, вспомнила ведьм: Так, а не иначе. Вообще, Борис, разъясни мне и одновременно знай – откуда это свободное уверенное двигание в воздухе, которым в жизни не дышал! Ведь – ни одного спиритического сеанса за жизнь (брезгую!), ни одного антропософского заседания, ни шприца кокаина, ничего. Откуда – опыт, точное знание, не-удивление, свойственность, осведомленность. Вот для чего ты мне – главное – нужен, вот на что, говоря: на тебя! – надеюсь, – вхождение ногами в другой мир, рука об руку. Так: выйти из дому, по лестнице, мимо швейцара, всё честь-честью, и вдруг, не сговариваясь, совместно единовременно оттолкнуться – о, на пядь! – Борис, еще одно: моя пустота. Беспредметность моего полета. Странно, что здесь, якобы за пор<огом> чувств, мои только и начинаются. В жизни я уже почти никогда не чувствую, и это растет. Не знаю, что со мной сталось. М.б. – били, били, забивали, задуряли – что-то и окаменело, перестало. Я просто притерп<елась> к боли (NB! моя единственная возможность <вариант: мой провод> чувства), боль стала состоянием и пребыванием, все болевое уже попадает в боль. – Можешь ли ты меня понять. – Нечувствование острий, в готовое. Даже физически: беру раскаленное – и не чувствую, все говорят: липы цветут – не слышу, точно кто-то – бережа и решив – довольно – залил меня, бескожную, в нечто непроницаемое. Помнишь Зигфрида и Ахиллеса? Помнишь липовый лист одного и пяту другого? – Ты. —
Мой родной, ты, наверное, переоцениваешь мою книгу стихов. Только и цены в н<ей>, что тос<ка>. Даю ее как последнюю лирическую, знаю, что последнюю. Без грусти. То, что можешь – не должно делать. Вот и все. Там я все могу. Лирика (смеюсь, – точно поэмы не лирика! Но условимся, что лирика – отдельные стихи) служила мне верой и правдой, спасая меня, вывозя меня, топя меня и заводя каждый час по-своему, по-моему. Я устала разрываться, разбиваться на куски Озириса. Каждая книга стихов – книга расставаний и разрываний, с фоминским / перстом Фомы в рану между одним стих<отворением> и другим. Кто же из нас не прост<авлял> тирэ без западания сердца: А дальше? От поэмы к поэме промежутки реже, от раза до разу рана зарастает. Большие вещи – вспомни Шмидта – stable fixe[91], лирика – разовое, поденное, вроде нищенства или грабежа с <нрзбр. > счаст<ливого> часа. (Если попадет в твою лирическую волну – посмейся!)
А недавно я на улице встретила человека, похожего на тебя, он долго на меня смотрел, очевидно расовое притяжение.
Борис, ты когда-нибудь читал Тристана и Изольду – в подлиннике: в пересказе, совершенно соответствующем всем тем разрозненным песням и повестям. – Самая безнравственная и правдивая вещь без виноватых, со сплошь-невинными, с обманутым Королем Марком, любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с пост<оянными> наруш<ениями> самых святых обетов, с – наконец! – женитьбой Тристана на другой Изольде (к<ак> буд<то> бы есть др<угая>!) – aux Blanches mains[92], – из малодушия, из безнадежности, из, если хочешь, душевного расчета. И как из этого ничего не вышло, и как из всей любви ничего не вышло, п.ч. умерли врозь, она – в сознании измены Тристана. (Другая Изольда из ревности сказала той, первой, что корабль, поехавший за Тристаном, возвращается с черным парусом, – т. е. без него (с незахот<евшим> Тристаном, т. е. без него).) И Изольда умерла. История, ничем не отлич<ающаяся> от истории Кая и Герды, любящих, тер<яющихся>, <нрзбр.>, сход<ящихся>.
Сдаю в Версты «С моря» (прошлолетнее – тебе) и Новогоднее (Письмо к Рильке), переписываю для Воли России Поэму Воздуха, не знаю, возьмут ли, сейчас должна приняться за Федру, брошенную тогда (31го дек<абря> 1926 г.) на 2ой картине. Долг чести. В промежутке между 3 и, скажем, 4 (всех 5) напишу о тебе и Шмидте (Б.П. и Лейтенант Шмидт). Лето проходит, не осуществившись. По 3, часто не разреш<ающихся>, грозы в день, по два хороших ливня (обожаю Сестру мою Жизнь, но … <подчеркнуто трижды>), в летн<ем> пла<тье> холодно, наспех вытаскиваю зимние шкуры. Вчера, 14ое июля, глядела с нашего мёдонского железнодорожного моста на ракеты и дрогла. – И этого уже не люблю, не так люблю, больше по долгу службы.
Но Мур – заглядение. Чудная голова, львиная. Огромный лоб, лбище, вздым<ающийся> це<лой> белой бурей кудрей. Разгов<оры> такие: Мама чесает морковку (чесает – чешет – чистит). – Мама, поцелуй Мурке пузу. – Идти к папе, захватывать вещи (вещи, вязаное одеяло, обожаемое, в которое с 6 месяцев по-котиному перед сном впивается когтями <вариант: в которое влюблен>, готов стоять часами, вкагчиваясь и обмахиваясь). Спать один не хочет, среди ночи явление головы над сеткой. «Мула хочет идти в дуглую каватку». Влезает. – «Дуга (друга) дать: аделяло!» Лезет вслед и «друг». Через минуту спим, слева Аля, посредине Мур, на Муре друг, с краю я. Кровать тесная, сон спартанский. Утром сидит у меня на голове, просыпаюсь от приблиз<ительного> чувства Атласа (думаю, держат мир и головой).
Борис, всегда отвечаю сразу, если не будет писем – знай: почта. Хочу оказии для нескольких книг и фуфайки тебе, ни разу не прохожу мимо витрин мужских вещей без ревности за тебя. Пусть хоть рукавами обниму тебя – за недостатком <вариант: недостиг<аемостью>> рук.
Письмо 100
17 июля 1927 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогой мой друг! Твое письмо пролежало ровным счетом две недели в городе. Не сердись, никто не мог знать, что заболеет брат, перестанет ездить сюда и что ему не придет в голову вложить письмо в новый конверт и сюда переправить. Ну и досталось же ему за это! Если ты даже и отомщена, я все еще не могу успокоиться. Когда вновь и вновь, по поводам, которым<и> густо покрыт весь мир и поросли дороги, и каждый из которых забывается в следующую же минуту, я вспоминаю и вновь измеряю бесконечностью was ich in Dir habe[93], мне, не считаясь с тобой, хочется прямо тебя спросить: скажи мне еще раз, что ты не выдумана, что ты – человек в юбке, что ты не заглавье редчайшей, обнимающей тысячу душевных повестей идеи, что ты не история счастья, первою из сказок рассказанная мне детством и потом поэтами и философами и потом собственным одиночеством в минуты его сильнейшей тоски по таком рассказе. Но ты скажешь, что именно все это ты и есть, о, я знаю, но ты недооцениваешь того, что у тебя есть адрес и руки, которые я без конца целую тебе за то, что их можно целовать, говоря этой нежностью так редкостно много. Ты существуешь. И не может быть положенья, при котором я мог бы почувствовать себя несчастным.
Ты совершенно права в своих объясненьях насчет Св<ятополка>-М<ирского> и сороконожки. И как права! Но ведь это такой милый, такой настоящий человек, такое достоянье наше в лице, что ради этого приходится чем-то и платиться, становясь и его достояньем, т. е. платиться именно тем, о чем ты говоришь. Я очень неловко это выразил, получилось что-то вроде расчета: а я хотел сказать о страдательном обороте исторического сродства (понимаешь?). Он прислал мне номер журн<ала> The London Mercury со своей статьей. Читала ты? Я, как и ты, верно, не можем принять greatest («first greatest») и second greatest[94], потому что это для нашей породы ничего не значит, точо так же как значило для иных все, мы об этом уже однажды списывались. Но много верного сказано о тебе и обо мне, – и я доволен. Ведь ты еще неожиданнее и оригинальнее меня, и еще труднее описать тебя. А он кое-чего достиг тут. Хвалю его робко, не зная еще твоего мненья, а то бы похвалил решительнее. Я уже писал тебе, как тут тебя знают. Не могу пожаловаться и я. Но от таких разборов вплотную, в стремленьи уловить суть, мы тут отвыкли, и я поражаюсь его глазу и глубокомыслию. Отн<осительно> меня сказано самое важное в указании о поэтическом опыте. Не сердись, если ты других мыслей. – Дорогая Марина, не жди от меня в ближайший год ничего стоющего, по статье (вот – сороконожка!). Приходится все еще зарабатывать из недели в неделю. Т. е. надо будет кончить Спект<орского> и в том случае, если я даже считаю этот жанр – категориально ложным. Ты знаешь, что все это значит. Обнимаю тебя, дорогая, незаслуженная!
Твой Б.
<На полях:>
Что это за птицеловы? Не знаешь ли ты их адреса и к кому обратиться? Кого они издают и кто они для меня, если ты их не знаешь?!
Письмо 101
<ок. 24 июля 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Родной Борис. Птицелов жулик, знаю главного заправилу, а конвенции нет – итак <оборвано>. Огорчена, наверное, не меньше <вариант: больше> тебя, п.ч. за тебя. Картина знакомая: плод твоих рук (локтей) не пожинает, а пожирает другой – кому и руки только на то даны. Так было – так будет.
Статьи Мирского не читала; не только не прислал, но не упомянул, из чего ничего не вывожу, п.ч. о нем вот уже год как не думаю – никогда, все, что я тебе скажу о нем, неубедительно, п.ч. познается общением. Кроме того, ты не только добрей меня, ты – сама доброта и не можешь ненавидеть человека за врожденное уродство. Мирский со своими писаниями незнаком, а я весь последний год знакома только незнакомым. Есть здесь еще один – куда более странный – человеческий случай, его приятель, тоже дефективный и тоже душевно – дефективный, но [с уклоном в сторону сердца] душевно-сердечно, тогда как Мирский душевно-душевно, просто (о Мирском) ничего: ни дерева, ни лица, ни – непосредственно, не через литературу не чувствует и от этого страдает. А тот (третий редактор Верст) все чувствует, ничего не хочет чувствовать и от этого не страдает. Мирский – непосредственно – тупица, Сувчинский – гениальный интуит, иногда устрашающий. Зачем о них? П.ч. когда-нибудь свидишься, если бы не суждено было – не писала бы. «Не живу – я томлюсь на земле». Кто это написал? Блок или Ахматова, это обо мне написано <вариант: я написала>, но не по любви, любящей меня, и в любви, и без, всегда, как родилась. Я недавно говорила одной умирающей, перелюбливающей, т. е. любящей меня так же, как недолюбил – когда-то – брат <вариант: когда-то ее брата – я>, – я недавно говорила одной умирающей: «Зачем я родилась? Это бессмысленно. Лучше бы другой кто-нибудь», – и вовсе не от несчастности, именно от неразумности факта моего существования. Да в том-то и горе, Борис, что есть адрес и рука, иначе я бы давно была с тобою. Ты единственный человек, которого я хотела бы при себе в час смертного часа, только тебе бы повер<ила>.
Борис, ты не знаешь «С моря», Письма к Рильке, Поэмы Воздуха, – сушайшего, что я когда-либо написала и напишу. Знаю, что нужно собраться с духом и переписать, но переписка – тебе – безвозвратнее подписания к печати, то же, что в детстве – неожиданное выбрасыванье какого-нибудь предмета из окна курьерского поезда / – пустота детской руки, только что выбросившей в окно курьерского поезда – что? Ну, материнскую сумку, что-нибудь роковое.
Борис, я соскучилась [по русской природе], по лопухам, которых здесь нет, по не-плющовому лесу, по себе в той тоске. Если бы можно было родиться заново, я бы родилась 100 лет назад – в Воронежской глушайшей губернии – чтобы ты был мой сосед по имению. Чудачек было немало и тогда – как и чудаков. Сошла бы. Сошли бы.
- Перенеся двухдневную разлуку,
- К нам едет гость вдоль нивы золотой,
- Целует бабушке в гостиной руку
- И губы мне – на лестнице крутой.
У меня была бы собака (квартира, даже птиц, даже цветов на окнах нельзя!) <над строкой: пункт контракта>, своя лошадь, розовые платья, нянька, наперсницы… Помещичий дом 150 лет назад ведь точь-в-точь – дворец Царя Тезея. Только там и быть Кормилицам и Федрам. А Ипполит – стрелок! Борис, почему я не могу проснуться от зари сквозь малиновое или розовое пл<атье>, перек<инутое> через спинку кресла, с первым чувством: до твоего приезда еще 39 дней! – или столько же часов. А потом: се-но-кос, се-но-вал, ужи шуршат, сухо, теряю кольцо, лесенка, звезды. Понимаешь – и смейся, если хочешь – Тристан и Изольда, ничего другого, с необходимыми участниками трагедии, strict ncessaire[95], без перегрузки советских, эмигрантских новоизобрет<ений>, всех читанных и усвоенных тобою, читанных и не усвоенных мною книг, да, без Шмидта, Борис, и м.б. без всех моих стихов – только в альбом! – …во время оно, Борис…
С тобой, в первый раз в жизни, я хотела бы идиллии. Идиллия – предельная пустота сосуда. Наполненная до краев идиллия уже есть трагедия.
Письмо 102
<ок. 27 июля 1927 г.>
Пастернак – Цветаевой
Ответ на твое от 15-го /VII. – He беспокойся за письма. Все доходят вовремя. Это только мне их привозят по вдохновенью. Прошлое твое, на кот<орое> я даже толком еще не ответил, пролежало больше 10-ти дней. В самый канун его прибытья я сам был в городе, и значит, когда грустил о твоем молчаньи, оно, бедное, отлеживалось там, бессильное помочь мне и за тебя вступиться. Но я не хочу поддаваться побочным ощущеньям, как бы они ни были естественны, т. е. не дам сегодня воли своей, часто праздной, сентиментальности перед сильными и прямыми чувствами, которые вызывает нынешнее твое, замечательное, письмо. Как оно написано, и как много ты сказала в нем! Мне много хочется сказать тебе в ответ. Разумеется, я не скажу и части должного. Ведь это из той области широчайшей и серьезнейшей зрелости, которою-то и дышет все твое письмо. А ведь ее не сведешь к перечню положений. Вся она – однажды выражена 1-й строфой Гётевской эпиталамы: Ich ging im Walde / so fr mich hin / und nichts zu suchen / das war mein Sinn[96]. Т. е. это прогулка с непрерывно развертывающимися находками, шаг за шагом ложащимися тебе под ноги. Но ты не мирочерпалка, всего не возьмешь, природа заботливо одарила тебя рассеянностью и даром невниманья; ты родной брат случайности, ты видишь и светишься периодически, – одно подберешь, другое упустишь. Итак, я ничего не скажу тебе по порядку, а по прошествии времени, в итоге ближайшей предстоящей переписки, все сразу, по разным поводам, исходящим от тебя. Твое изумительное письмо просто радиоактивно. Я не знаю, что оно даст завтра. На сегодня оно меня излечивает от самой дурной моей болезни: от буднишной обстоятельности, столь страшно свойственной мне. Она в семье у нас трогательна и благородна. У меня же она, в обстановке соседствующих качеств, выродилась в наследственный порок. Она, как ты верно часто замечала по моим письмам и линии моего поведенья, переколдовывает меня во что-то другое и глубоко мне чуждое. Я в ней кончаюсь, как теленок в студне. Много этой обстоятельности затесалось в мой недавний «историзм». Именно эта обстоятельность писала письма Шмидта и, – надо быть строже, чем ты или даже Д<митрий> П<етрович>, – не написала их. Однако надо ей отдать справедливость: как раз эта-то обстоятельность помогла мне без душевного вреда пережить это десятилетье. Сколько живых и удивительных когда-то людей перестали отличать проволочную проводку эпохи от собственных нервов иволокон, сколько их принимает первое за второе! Несчастная же моя обстоятельность распутала эти перевившиеся мотки, и – боюсь сказать, мне кажется, концы в руках у меня: разнять, оглянуться и – поминай как звали. Что-то кончилось, что-то начинается, так скажут другие. Нам радостно будет это услышать. В счастливейшие наши поры так именно говорили о нашем и дорогом нам: о беспрепятственно продолжающемся. Итак, что-то опять продолжается, по миновеньи препятствий. Но я начинаю чревовещать. Перебью и возвращусь потом. Перебью тем, с чего следовало бы начать. Где твоя Поэма Воздуха и Письмо к Р<ильке>?[97] Отчего ты не шлешь их? Я был уверен, что получу их в этом письме, и оттого о них не заикнулся в предшествующем. Это было грубо. Не следовало чувствовать себя в обладаньи их, не получив их в руки, и мне стыдно сознаваться в этом. Прости же и пришли. Но спокойная моя уверенность насчет всего, касающегося тебя и меня, ничего общего ни с какими частными чувствованьями не имеет. – Сам я ничего из того, чем, очевидно, на месте была охвачена ты, – не пережил. Но Линдберг становится для меня новым Ариэлем с одной-двух твоих недомолвок в том письме. Сюда могло дойти только через газеты. Но я их не читаю. Знаю, что надо бы, стараюсь – и не могу. Я говорю о наших, здешних. Их вот отчего нельзя читать. Действительность, которую они, точно свою, расхваливают в пух и прах, в тысячу раз лучше их похвал, хвалят же они так, точно это – дрянь, которой, без их рекламы, земля б не носила. Вообще, по-видимому, революционны те мненья, мысли и интонации, слушая которые, готов думать, что революция – ложь и выдумка, нуждающаяся в остервенелой охране от нечаянного разоблаченья. Но как-нибудь надо ведь назвать то, что со всеми нами случилось? Однако карманнический этот стиль так убедителен, что начинаешь сомневаться в собственных воспоминаньях. Но есть и более простые и сильнейшие причины, отчего их нельзя читать. Как ни сильна привычка, анахронистичность этого допетровского всеисповедывающего, никем не оспариваемого листка – сильнее ее. Кроме того, в деревне я еще и рад их не читать. – Ты несколько раз думала писать о Шмидте, а теперь – даже и статью. Прости, что не успел вовремя тебя остановить, хотя еще есть время. Ни мне, никак, Марина! Прошу тебя! Мало у тебя своего, неотложного. Не возражай, что, мол, и это «свое». Тогда ведь я еще скорее скажу тебе, что – твое, да не мое, против твоего такого, что и мое, – и мы заспоримся до бесконечности. Статью, разбор! Да ведь это Сизифов труд и вдесятеро нарымистее исходного нарыма. И кому это надо? Тебе? Мне? – В скобках сообщу тебе, что подарил книжке на платье четыреста рублей с лишним. Да, вынул и выложил. Не знаю, много ли она приобретет от этого сокращенья (Шмидта) более чем на треть, но за корректурой показалось мне, что неплохо бы ей похудеть и чуть-чуть стянуться. Залежалось именно то твое письмо, которое меня от этих забот избавляло, – разрешительное. – —
27 июля 1927 г.
Как убийственно! Ну что я тебе написал должного в ответ на твое открытое, громадное и милое – не доверием ко мне – но верностью непосредственной передачи нашей каторги (Днепр, напр<имер>). Дай хоть объясню, зачем я начал с этой ахинеи с эпиталамой. Когда я читал: про твое одиночество (чтенье и молчанье), отчаянье выстраиванья столбцов (Днепр, долженствующее значенье, десятисложно-односложное), поэтическое знанье всего без кокаинов, духовных и физических, пустоту и беспредметность полета и нечувствительность в жизни, – мой собственный опыт отвечал твоему всем своим существованьем. Он отвечал в том же одиноком своем пребываньи, той же невознаградимой мучительностью. Он не отвечал ударами отдельных мыслей или признаний, а всем своим фактом, родным тебе. Это был разговор неподвижно родных областей, более потрясающий, чем их метафоризированное Бирнамское передвиженье. Ты только одного еще не знаешь или не сказала. Что ты сама пока еще моложе своей поэтической зрелости. Этот факт – единственная причина кажущейся тебе беспредметности полета. Марина, прости, что сегодня я оставляю тебя при почти пустом листе вместо ответа. Обо всем перечисленном мне надо сказать тебе то, что я по себе знаю. Об этом и буду писать в следующем письме, что бы ни заключало твое ближайшее, если будет. И прости, прости меня. И не отвечай, пока я не заслужу, т. е. пока не на что. Кончаю ночью в страшной усталости. Завтра в 6 ч<асов> утра в город.
Письмо 103
<нач. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис, мы точно пишем друг другу из двух провинций, ты мне в столицу, а я тебе – в столицу, а в конце концов две Чухломы: Москва и Париж. Борис, не везде ли на свете провинция. Из больших столиц я все видала, п.ч. Нью-Йорк не столица, – раз не местопребывание! (местопрохождение). (Стольный град, град, где держут стол.) Еще скажу: все так называемые пятичувственные ужасы столичного разврата мне мнятся чудовищными по провинциализму забавами, а посему все-таки ребячеством: глупостями (в народном смысле). Еще одно: в этом мире я ничему не дивлюсь, заранее раз навсегда удивившись его факту существования, [ни завоеваниям техники, по-моему – естественным, раз весь данный мир, столько голов над ними работает. Чем автомобиль, идущий без лошади, удивительнее паровоза, делающего то же, в котором я родилась (паровоз как страна и эмоциональный строй, твой также)]. Нет, еще проще: чем автомобиль, идущий без лошади, удивительнее меня, тоже идущей без лошади, и самой лошади, тоже идущей без. Возьми Мура: машина и лошадка для него одно и то же, помимо роднящего ш. Будет старше, будет знать: лошадку создал Бог, а машину – Черт. По мне, в чистоте сердца, вся техника – превышение прав и нарушение <пропуск одного слова>.
«В 6 часов еду в город» – как (слухом!) знакомо. Я никогда не езжу в город в 6 утра, п.ч. мне там нечего делать, и очень жалею. Безумно люблю – между дуновен<ный>, – деревней и городом – шестой огородный молочный рыночный ранний час. Еще вчера говорила кому-то: Парижа я не люблю, п.ч. (я его не знаю) ни разу не была на Halles в 6 часов утра. – Вот. – Париж знал только один человек, Рильке, Париж может знать собственник особняка в Булонском лесу и подмостный рабочий, которым одинаково открыто всё, первому через зол<ото>, второму через взлом.
- Хочется целовать. Воет завод. Бредет
- Дряхлая знать в кровать, чахлая голь – к обедне.
- рвань
Я – между, о, в этом великое горе моей жизни (м.б. прожила бы и с деньгами).
«Поэтическая зрелость, опережающая жизненную». Борис, но на чем мне, в жизни, учиться? На кастрюлях? Но – кастрюлям же. И выучилась. Как и шитью, и многому, всему, в чем проходит мой день. А одиночество уже стихи, дерево – уже стихи. Просто: я, для упрощения задачи, обречена на сплошной жизненный черновик, – чтобы и не заглядыв<алась>! Все, что не отвратительно, – уже стихи. В стихи не входит только то, что меня от них отрывает: весь мой день, вся моя жизнь. Но, чтобы ответить тебе в упор: мне просто нет времени свои стихи осмысливать, я ведь никогда не думаю, п.ч. все время думаю о другом. Стихи думают за меня и сразу. Беспредметность полета, – об этом ведь? Я из них узнаю, что, о чем и как бы думала, если бы…
Прости, родной, за промедление с Письмом к Рильке и Поэмой Воздуха. Вечное либо – либо, с неисчисл<имостью> подразделений. (Либо: желанное для себя; письмо к тебе, переписка поэм, переписка очередной рукописи, письма другим, стихи, либо должное – перечислять не стоит, и каждое либо опять <вариант: в свою очередь> на несколько либо. Я бы не машинке (презираю), не стеногр<афии> – выучилась, а леворукописанию. (Письмо все еще топчется <оборвано>
Борис, можно про амазонку —
- Тетиву – в куда упруже
- Тетивы: грудь женоланью
- Отведя – в <тоске?> слиянья
Письмо 104
<нач. августа 1927 г.>
Цветаева – Пастернаку
Борис, я прошла к тебе в комнату, в попытку ее, села с тобой рядом и вот рассказываю.
17го были мои именины. Я получила: мундштук в футляре (Сувчинский), роговые очки, как у всех белокурых англичанок (его жена), розовое платье с цветами (приятель), розовую рубашку (приятельница), всё письменное (С.) и фартук (Аля). И еще розы. Борис, я в первый раз, взрослая, праздновала свои именины – и так эфф<ективно>. Теперь всегда буду. А нынче Мурино 2 летие, и ты скоро получишь его фотографию, с лицом, затуманенным не только расст<оянием>, но его же слезами: 40 минут рыдал и ревел в неистовом ужасе надвигающегося аппарата. В крупных случаях жизни (рождение Мура) я вдруг узнаю, что меня любят. Очевидно, чтобы отважиться меня любить – нужно видеть меня физически лежачей, т. е. физически ниже себя глядящей, или же под покров<ительством> (как нынче, имен<ном>) святого, т. е. тоже физически стать ниже обыкновенного. А я бы всю жизнь лежала, чтобы меня любили, но так как до сих пор не нашлось такого умника, кто бы это прослышал, а я – не скажу… / который этого не знает, а я – не говорю…
Борис, Geschichten des lieben Gotts (Истории доброго Бога, – хороший перевод?).
Борис, я сегодня стояла в кухне, что-то варила и думала тебе в ответ, и вдруг – ты же должен это знать! – вполоборота – радостно – ну как от внезапности <вариант: от наконец – того слова!> [крутым оборотом] – руки на плечи – воздуху. Я так думала о тебе, что положила тебе руки на плечи, не я, думающая, я – недумающая, которую больше всех люблю и которой <вариант: факту существования которой> думающая обязана всем. Борис, чистый вздор – дружба (или любовь / и такой же чистый вздор – любовь) между такими, как мы. Что меня застав<ляет> не положить тебе рук на плечи? Не только положу, не сниму-у. Борис, я никогда, ни одной секунды жизни не чувствовала своей принадлежности кому бы то ни было – очевидно, из-за всех чему бы то и короче <вариант: и их суммы>: всему – поэтому в «изм<ене>» ни секунды угрызения совести, только твердое решение: [съесть с пеплом]. «Измена тебе – измена мне», этого я ведь ни разу в жизни, как и ты, не сказала, не имела счастья – или низости – сказать. Жалость, щажение, бережение. И еще – по-удив<ительному> – страх безобразия, эпитета, штампа. Очень сильно – страх сглазу. Всего сильней: ревность к тайне.
Думаю о т<ебе>: т<о> сб<удется>, с кем буд<ешь>, была бы только с тем. Домой – в —. Только – на земле ли?..
Продолжение
Еще думала об одном: мы, и без того преображающие, мы, обвинение в гиперболичности несущие как хвалу (а есть хвала – вне гиперболы? А гипербола сама – не есть ли хвала Создателю, создавшему такое) – с тем воспит<анным> наклоном недоумения в ответ на вещь заведомую – во что бы мы, ты и я, превратили любовь, стихию гиперболы, родное лоно ее. Ах, Бальмонт с его «грудью» и Пушкин с его «ножками», ведь в том-то и дело, что в любви и вода – не вода и земля – не земля, неузнаваемо – знакомое, знакомо – неузнаваемое (проверь 10 раз, – все правильно!), уж куда ближе к д<елу> Соломон, несмотря на все свои груди, с его – неподобностью образов[98] (NB! Песнь Песней не люблю). Грудь – как – вздор. Отставить грудь, одно как, или упразднить его – просто. Сравнение без перевода, иероглифы для любящих, для как мы – любящих, для однородцев, остальные пусть ходят просто – по лесу, не знаю, по какому, с род-н<ым> неузн<аванием> вещи, п.ч. до нее, любви, этой вещи не было, не та вещь была, и с др<угим> неузнав<анием> потом, после любви, п.ч. вещь, виденная некогда, уклонилась, провалилась в любовь и вместе с любовью. («Не тот человек» – совершенно верно, не тот человек, п.ч. тот был, пока любила, но был.) Понимаешь, Борис, при нашем знании каждого изгиба, поворота и провала, неужели мы, ты и я, не сумели бы – силой – волей – жилой – поэтически направ<лять> любовь, противуборствуя и покор<ствуя> ей, как – ход поэмы, смыслу противуст<авляя> звук и звуку – смысл. Есть жестокие мелочи, мне стыдно о них говорить, стыдно слово брать под перо, самое простое: нервы. В любви – и нигде больше – я нервна: как лошадь. Вот эти вострые лошадиные уши, наставл<енные>, эта мания гончей, выставляющей нос, лису унюхавший, а м.б. не унюхавший – бредит лисом воображение! – но – пошло! И как не– отвратимо. В этом ты должен быть старше меня, спокойнее, умным поводырем. Здесь – в лошадино-ушно-гончье-песье-лисьем – ты должен вести, выручать, спасать. П.ч. я в этом брежу и всегда в злостную для себя сторону. Болезнь гордости. Остерегаю (и сама смеюсь, – точно ты завтра должен приехать!)
Еще одно мерещится – прости наперед за скачки. Любовь, в просторечии жизни, это бой, данный друг другу, т. е. полом – полу. Явно две стороны, наивно и очень коротко воображающие, что – одна, одни – против всех. Неизбежное фиаско вражеского «мы». Die feindlichen Brder[99], Ахилл и Гектор, возомнившие себя Ахиллом и Патроклом. (Неслиянность от неверности упора, упор – друг в друге / Графически: упор – друг, в друге.) Раз упор друг в друге, то – уже друг против друга, т. е. бой. Ахилл и Патрокл – (дружба) одна сторона, упор / Ахилл и Патрокл, дружба / Ахилл же и Патрокл – дружба – совместный упор в третьем, отпор, т. е. общий бой. Грех любви, Борис, и ее конец в ее взаимо-, а не совместно-обожествлении – борении – горении. И вот, Борис, зная это, неужели мы, ты и я, братья, Борис, не сумели бы из этой жестокой частности взаимопожирания сделать – общее дело – cause commune, конец <вариант: острие> одной стрелы…
Довелось мне, на неведомо-каком повороте, встретить:
- …забыв наезды
- Для цветных шатров
- И поет, считая звезды,
- Про дела отцов…
Звездный счет, во время песен, петь и считать, вот твоя, моя, наша «обстановка», Борис, все наши черновики. Никогда я так ни одного человека не боялась, как тебя, всего твоего богатства, до которого у меня есть жезл. Sesam, thue Dich auf[100], – невозвр<атность> этого слова! А не было еще сказки о Сезаме – поглотившем, не выпустившем. А не было сказки о человеке, не захотевшем назад, с частичностью сокровищ в полах. Нет – была – немножко другая – Эвридика, не захотевшая (ибо оборот Орфея дело ее – глаз). Сезам, Аид – одно, из внутренности вещей возврата нет. [Спящий Сезам, п.ч. ты, конечно, спишь с твоими неловкими и торопливыми гостями <вариант: пришельцами>] от страха перед тобой. Спящий Сезам, ибо ты, конечно, спишь, ибо – что знает Сезам о своих сокровищах? Он: они – одно. Он сам – понятие сокровища. Для других «сокровище», для себя «я». Чтобы Сезам себя сокровищем, т. е. свою силу, осознал, нужна жадность, равная сокровищу, зоркость, равная сокровищу, вместимость, равная сокровищу. Сезам тогда проснется, когда придет гость, захотевший взять всё <подчеркнуто трижды>, т. е. – рукой не двинуть. Век, тобой воспеваемый, сумел взять у тебя – тщедушного скелета Лейтенанта Шмидта, сведя тебя, вечного, «ich der in Jahrtaus<ende> lebe»[101] – к частности не поколения даже, а десятилетия его – на одном отрезке земного шара, когда – вселенная! Борис, Борис, не знаю твоей Елены – но – хорош<о> <нрзбр.>!
- И хаос опять выползает на свет…
Тогда, в 17, у тебя был достойный тебя враг, не о ней говорю, о ней – любви – боли, всей женщине, Елене, Борис! – и ты писал: бог неприкаянный, сейчас, в 27 г., у тебя недостоные тебя друзья – и ты – ТЫ – пишешь Шмидта. Я хочу от тебя эпоса – я в нем не отч<аялась> – без единого человека – только с Dinge und Krfte[102] – начала и конца – мiрного. Один из твоей породы написал же Апокалипсис, Борис. Помнишь, что я когда-то – очень молодо, невнимательно, поверхностно, но верно причислила тебя к 3-му дню создания, а ты, родной, все бьешься о… восьмой, каино-авелев, в тот мир, в который тебе ходу нет. Ведь это, родной, и посторонние видят: чуть море, чуть дождь, чуть НЕ – людское (человеческое всё тот же дождь и свет и пр.), ты – ты, сила, веселье, твой род, твой дом. На этом схожусь и я и лондонский адвокат-буржуй, значит – правда. И как же этого не знать твоим подл<инным> друзьям.
О себе. II часть Тезея – Федра – III картина Федры. Заметила одно, от меня ничего не зависит. Всё – дело ритма, в который я попаду. Мои стихи несет ритм, как мои слова – голос – <нрзбр.>, в котор<ый> попадаю. Как только не в тот ритм (а какой тот? Не знаю, только знаю, не этот!) – кончено, ползу, 3 строки в день, не только бескрылость, безлапость. Словом, то – несет, то – ползу. Сейчас я, явно, не в течении и очень устала от постоянных чувств, которые не мои. Будешь читать – не заметишь, как и я, перечитывая, не замечаю, п.ч. все-таки хорошо. Кроме того, сейчас у меня явн<ое> подч<инение> смысловому, не только из-за сюжетного действия, просто – отсутствие непосредственного притока, отсутствие человека в моей жизни, явный перевес себя, головы. В Поэме Воздуха я, думается, на волоске <оборвано>