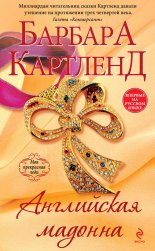Бог пятничного вечера Мартин Чарльз
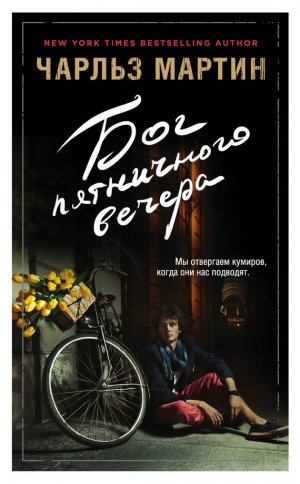
– Используй другую. Ты к ней цепями не прикован. Смена тактики – это запасной вариант на случай «если… то…».
О чем таком речь? Я совершенно ничего не понимал и смотрел на отца так, словно у него выросло вдруг три головы.
– Если защита делает одно, – объяснял он, – то мы делаем другое.
Я махнул рукой в сторону моего воображаемого нападения.
– Отлично, но как сказать это тем десяти парням, – я показал на воображаемую защиту, – чтобы те одиннадцать ничего не знали?
Отец щелкнул пальцами.
– Придумай слово.
– Что?
– Любое слово. Какое-нибудь броское.
Я назвал первое пришедшее в голову:
– Мэтью.
– Хорошее слово. Но как насчет «Майк», «хот чек» или «Рокки»? Такие слова легко произносить и слушать. Само по себе слово значения не имеет. Оно – вербальный звонок, способ привлечь внимание, вот и все. Этим словом ты говоришь своему нападению, что меняешь игру на линии скримиджа. Их работа – слушать тебя и, услышав то самое слово, провести требуемые корректировки. Твоя работа – прочитать защиту и понять, какая игра сработает при данном построении защиты.
Сошлись на «хот чеке».
Но это решало только половину проблемы. Я почесал затылок.
– И как мне сказать тебе, куда бежать?
– Ты произносишь заранее обговоренное слово. В данном случае, когда защитная схема меняется с прикрытия 1 на прикрытие 2, открывается слэнт[21] и может быть хитч-энд-гоу. Ты выбираешь слэнт и говоришь «бомбер». Выбираешь хитч-энд-гоу, говоришь «рейзор».
Это означало, что я как квотербек должен был знать наше нападение так же хорошо, как и все возможные защитные варианты, с которыми мы могли столкнуться, и комбинации, которые могли применить на линии при смене прикрытия. В этот момент футбол стал шахматами в формате 3D с небольшой нагрузкой на сердечную мышцу в придачу. Не говоря уже о шайке мародеров.
– Готов? – усмехнулся отец.
Я назвал комбинацию в хадле, и мы подошли к линии скримиджа. Я встал под воображаемым центровым, и отец занял позицию на левом фланге. Я отодвинул воображаемого защитника на законное место и начал отсчет. «И сорок один… и сорок два…» Мысленно представив заполненные трибуны, зрителей, орущих, размахивающих полотенцами и трясущих наполненными мелочью молочными кувшинами, и табло, показывающее, что для победы нам нужен тачдаун, я оглядел поле и отметил, как меняется защитное построение. Рука невидимого великана передвигала на доске фигуры.
– Хот чек! – крикнул я, делая жест рукой. – Хот чек рейзор.
Отец кивнул и улыбнулся – знал, как мне не терпится сделать тот длинный пас.
Он показал мне сжатый кулак за спиной – мол, все понял, новую комбинацию знаю.
Я вбросил мяч, сделал пять шагов, посмотрел на стоящего на линии моего главного ресивера, финтом притянул сейфти, а потом развернулся, нырнул под тэкла, вильнул вправо, чтобы не наткнуться на лайнбекера, и бросил мяч в угол эндовой зоны, туда, где не было отца, но где он будет через секунду. Мяч спиралью ушел вверх, нырнул вниз, и отец поймал его в глубине зоны. Зрители вскочили.
Вот там отец и учил меня мечтать.
Браслет на ноге изрядно натер кожу, но я не обращал на это внимания. Сидел на поржавевшем капоте «Бьюика», смотрел на скошенную траву и пытался вспомнить лицо отца. Пытался, но никак не мог. Я помнил, как он смеялся, как держал руку у меня на спине, когда мы возвращались к машине, но черты расплывались. Отец увидел только одну мою игру, первую, в команде средней школы. В ту же ночь он умер во сне. Я тогда подарил ему мяч с той игры. Мама сказала, что он не произнес ни слова. Просто умер, сжимая тот мяч.
Мама сделала все, что могла. Работала на двух работах, чтобы я мог учиться. Помню, как она в полночь гладила чужую одежду, зная, что в четыре ей уже нужно встать и открыть кофейню и булочную. Перед началом суда она заложила дом, чтобы заплатить моему адвокату. Когда мы проиграли, в ней как будто что-то сломалось, и на второй год моего тюремного срока она умерла. Принимая во внимание то обстоятельство, что на похоронах могли оказаться дети до восемнадцати лет, мне запретили присутствовать на службе, пока все не разойдутся. По проходу опустевшей церкви я прошел к ее гробу в ножных кандалах, остановился и закрыл лицо руками. Слезы упали на мраморный пол.
Я испытал восторг, познал триумф и высшую радость, но случалась в моей жизни и боль.
Мне трудно сказать, чего было больше.
Я смотрел на расстилавшееся передо мной поле и вспоминал, вспоминал…
Моя последняя игра здесь. Конец моей школьной карьеры. Двадцать тысяч на трибунах. Сотня скаутов из разных колледжей. Радио. Телевидение. Для нашего маленького городка это был настоящий праздник. «Ю-Эс-Эй тудэй» дал той встрече высший рейтинг и поместил фотографию команды на всю первую страницу. Соперники первыми вышли на разминку. Их болельщики приехали на нескольких автобусах, и вся гостевая трибуна превратилась в бурлящее черно-фиолетовое море. Джим Нилз топтался возле раздевалки. Когда я вышел, он протянул микрофон и, подпустив в голос сомнения, сказал:
– Ты еще совсем мальчишка, а тут такое давление. Думаешь, выдержишь?
Помню, я посмотрел на гостевую трибуну и подумал о том же самом. Пауза затянулась. Секунда… две… Наконец я пожал плечами.
– Что ж, поживем – увидим.
Джим, вечный скептик, улыбнулся и опустил микрофон.
– Да, посмотрим.
Мы прошли к конечной зоне. Дым-машина гнала клубы пара на бумажный баннер, изготовленный для нас группой поддержки. Весь день шел дождь. Промокло и поле, и мы сами. Ветерок продувал через маску и сушил пот на лице. Скошенная трава. Свежая краска. Пот. Волнение. Ждущее разрядки нервное напряжение. Наши трибуны, окрашенные в гранатовые и черные цвета. Размалеванные физиономии, размахивающие полотенцами гордые мамочки, раздувшиеся от важности отцы с банальными историями. Лучи прожекторов на лицах чирлидеров с заплетенными в хвост волосами и духовом оркестре.
Команда попросила меня выбежать первым, но я отказался – я никогда первым не выходил.
– Парни, я четыре года смотрел на задницу Вуда и думаю, сейчас не время что-то менять.
Они посмеялись. Требовалась какая-то разрядка. Когда из динамиков донеслись вступительные звуки «Безумцев» в исполнении «Ред Райдер», наш второй капитан, Вуд, неисправимый клоун, порвал баннер и вылетел из тумана, изобразив неудачный бэкфлип, и тут же следом за ним Родди выполнил подряд четырнадцать бэкфлипов в полном снаряжении и закончил сплитом. Сигнал противнику – по одному сальдо на каждую победу.
Зрители неистовствовали.
Я стоял в углу эндовой зоны, ожидая, когда назовут мое имя. В последний раз. Конец одной карьеры и начало другой. 59—0. Будет ли 60—0? Такого, согласно статистике, в школьном футболе еще никогда не было. Во всех последних интервью речь обязательно заходила об этом. Даже в программах общенациональных сетей. А ты сможешь? Каждый интервьюер хотел сделать передачу обо мне, но получалось только о нас.
Большая разница.
Я стоял, окруженный ребятами, с которыми проливал пот и кровь, ребятами, номера которых знал так же хорошо, как и имена. В углу, мысленно пробегая до центра поля, одиноко пританцовывал Майки: последняя игра могла помочь ему наладить отношения с отцом. Кевин пробегал глазами по трибунам и прикидывал, какая из девушек займет его воображение после финального свистка. Ронни, опустившись на колено, присматривался к костоломам-защитникам, соображая, за команду какого колледжа ему выпадет шанс выступать. Родди смотрел на поле, представляя, как будет прорываться через оборону противника, включая на полную свою поразительную скорость. В отчете скаута о нем говорилось так: «Великолепное сочетание силы, скорости, подвижности и атлетизма; такого ресивера большинство рекрутеров не видели давно». Остальные парни собрались возле конечной зоны.
И вот, наконец, я. Под номером 8. Самый подходящий номер для квотербека, так мне всегда казалось. И в этой позиции «Стрит-энд-Смит» поставил меня на первое место.
Из-за нескольких дополнительных слоев ленты у меня плохо работала лодыжка. Неделю назад парень по имени Томпсон, внешний лайнбекер, вцепился так крепко, что я протащил его до самой конечной зоны. Томпсону это не понравилось, и он крутанул меня в свалке. Все интервьюеры только о нем и беспокоились. С лодыжкой проблем не возникло. Еще раньше, когда я только начинал, тренер передал мне право изменять тактику игры. Томпсон либо не знал об этом, либо ему не было до этого дела. Поэтому в следующей серии мы использовали такую возможность: Кевин встретил его железобетонным блоком – сломал два ребра.
Левая рука распухла и пульсировала болью, как будто кто-то бил по ней молотком. К счастью, перелом получился закрытым, и кость не выскочила наружу. Врач в отделении неотложной помощи хотел оперировать сразу же, но я не согласился. Он сказал, что в любом случае – с операцией или без – на лечение уйдет две недели. Вуд и Одри об этом знали, впрочем, как и обо всех сопутствующих обстоятельствах, но ничего не сказали. Был и еще один человек, который знал, но у него, точнее, у нее, имелись свои основания для молчания. Я знал, что если не поврежу руку в ближайшие сорок восемь минут, то она в итоге заживет.
Чего я не знал, так это того, что события, в результате которых это случилось, не прошли бесследно.
Одри стояла у своего места на пятидесятифутовой линии. Камеры уделили ей внимания не меньше, чем мне. Шестьдесят семь команд предложили мне стипендию, и репортеры догадывались, что она знает о сделанном мною выборе. Мы никому еще ничего не сказали, и Одри бережно охраняла секрет.
Она применила боевую раскраску. Надела мой свитер. Трясла кувшином. Кричала. И не сводила с меня глаз. День подписания приходится на февраль, но нам уже не давали проходу. Всем хотелось знать. Парочка комментаторов даже обсуждала вариант, предполагавший, что я не пойду ни в какой колледж, а сразу на драфт, и попрошу лигу сделать для меня исключение. Вот настолько он хорош.
Но я не собирался пропускать колледж.
Зрители вскочили на ноги. Над головами качались растяжки: РАКЕТУ В ПРЕЗИДЕНТЫ! ЖЕНИШЬСЯ НА МНЕ?
Диктор выкрикнул мое имя.
Шла третья четверть. Мы устали. Ничего не получалось. Их защита сеяла хаос в нашей атакующей линии. Парни смотрели на меня, качали головами. Никто не знал, что делать. Меня валили уже семь раз. Их тэкл[22], настоящий великан, возил моего гарда[23], Фрэнка, как мешок с картошкой. Я схватил Вуда за маску, притянул к себе и сказал:
– Мне надо четыре секунды! – Это означало, что ему придется взять на себя обоих защитников. – Это все. Можешь дать мне четыре секунды?
Он оглянулся через плечо, смерил их расчетливым взглядом и кивнул.
Вуд ввел мяч в игру, отдал все, что мог, и я послал вперед Терри, который пересек линию без малейших помех. Дальше просто покатило, и мы взяли еще четыре очка. В тот вечер я дал восемь пасов на тачдаун. Сделал два забега в зачетную зону. В нападении мы набрали почти тысячу ярдов. Джим Нилз заявил в прямом эфире, что смотрит представление, которое нельзя превзойти.
Впервые в истории школьного футбола национальный чемпионат выиграла неприметная команда из небольшого городка в южной Джорджии. Команда, оказавшаяся в компании тех, кого она ни при каком раскладе не должна была победить. Команда во главе с Вудом вынесла меня на плечах. Моя мама на трибуне обнимала Одри. Они обе плакали и смеялись.
Да, в моей жизни были хорошие моменты.
Я открыл глаза. На поле сошла тень. Я моргнул и увидел одинокую фигурку – мальчишка бросал в воздух мяч. Худенький. Высокий. У его ног лежало несколько мячей. С крестовины ворот на разной высоте свисало три шины. Издалека я не слышал ни звука. Он стоял на тридцатиярдовой линии с мячом в руке. Следуя собственной мысленной стратегии, мальчишка сам ввел мяч в игру и бросил его в одну из трех свисающих с перекладины мишеней. Сильный, атлетичный, быстрый. Он хорошо работал ногами, у него были хорошие бедра и хороший, быстрый бросок, но при всем своем таланте мальчишка выглядел смущенным. Казалось, он борется с чем-то у себя в голове. И это не лучшим образом сказалось на броске: само движение получилось скованным, безобразным, неестественным. И как результат бросок вышел неточный.
Как будто в голову ему забрался тренер, подсказывающий, как нужно бросать. Я наблюдал за парнем целый час, а он все бросал, бросал и бросал. Упорства и твердости ему было не занимать, но все портило неверное движение. Судя по языку тела, он и сам понимал, в чем проблема. Сделав сотню бросков, из которых лишь несколько оказались более или менее прицельными, парень пробежал две тысячи ярдов, сделал пару сотен отжиманий и приседаний, после чего тихо и спокойно ушел. Ни фанфар, ни сопровождающих, и улучшения, увы, никакого.
Парень уже скрылся из виду, когда за спиной у меня прозвучал знакомый голос, и на душе у меня потеплело.
– Говорят, он – будущий ты.
Глава 9
Я повернулся и увидел сидящего чуть выше Коуча Рея. Я не знаю, когда он пришел, не знаю, может, все время там сидел. Руки на коленях, в зубах зажата трубка. Рей кивнул в сторону мальчишки.
– Если помочь, парень может и твой рекорд побить.
Я поднялся. Он тоже встал и шагнул ко мне, без колебаний раскрыв объятья.
– Так и думал, что найду тебя здесь. Как дела, сынок? Что будешь делать?
Я обнял его.
– Вот сижу и сам о том же думаю.
Он усмехнулся.
– Из одной тюрьмы в другую.
– Вроде того.
Рей положил руку мне на плечо:
– Хорошо выглядишь.
Мы стояли, смотрели на поле, вспоминали. Рей выбил трубку, набил ее табаком «Картер Холл», раскурил, глубоко затянулся и выпустил клуб дыма, окутавший нас сладкими воспоминаниями и ароматами. Мы вместе проводили мальчишку взглядами.
– Его зовут Далтон Роджерс. Большинство зовут его просто Ди. Ноги как у оленя. Но, как ты и сам видишь, у парня небольшая проблема.
Я кивнул.
– Да.
Рей сжал зубами трубку.
– Тренер у него – идиот.
– Ну, если этому его научил тренер, то помощи от него мало.
– Тренер – Деймон Фелпс. Ребята зовут его Коуч Демон. Ну и еще кое-как. Не самый приятный тип. Любит покричать, наорать, попихать. – Он обнял меня за плечи. – Рад тебя видеть.
– Тогда ты в меньшинстве.
Рей рассмеялся.
– Мне не впервой.
После моего ареста команда, выбравшая меня и принявшая на работу Коуча Рея, отменила все подписанные премии. Рей тоже остался ни с чем. Не заработал ни дайма. Несколько раз он навещал меня в тюрьме вместе с Вудом, но я никогда не заговаривал с ним на эту тему. Теперь, видя его в заношенной одежде и разбитых ботинках, я не мог больше молчать.
– Коуч, мне очень жаль…
Он отмахнулся. Поморгал.
– Мы с Вудом измерили расстояние от дома. Взяли такую штуковину с колесиком. – Он указал на крышу дома в полумиле от стадиона. – От угла Сент-Бернара две тысячи пятьсот шестнадцать футов, так что никакого закона ты не нарушаешь. А от угла стадиона две тысячи сто девять футов. Здесь ты в две тысячи вписываешься, но… здесь ты не живешь. – Рей посмотрел на мой ножной браслет. – Вуд установил в домике телефон, так что, когда понадобится, зарегистрируешь.
– Вы оба хорошо подготовились.
– Это все Вуд. Очень он ждал, когда ты выйдешь. Волновался, как ребенок перед Рождеством. – Рей стоял, держа руку на моем плече. Мы смотрели на поле. Прошла минута. Он похудел: кожа да кости. Рей улыбался, но на меня не смотрел. Прошла минута.
– В школе тебя не обижают?
– Все хорошо. Меня оставили делать свое дело, а я с ребятами работать люблю.
– У тебя это всегда хорошо получалось.
Он хитровато улыбнулся и насмешливо, с намеком на отзыв скаута, проворчал:
– В этой области у меня, похоже, и впрямь есть талант.
Давненько мы не были с ним так близки. Когда-то он забинтовывал мне ноги перед игрой. Перед глазами встало его искаженное болью лицо в зале суда. Я повторил попытку.
– Коуч, поверь, мне очень жаль…
Он снова меня оборвал:
– О тебе говорят по радио, по телевизору. Всем хочется знать…
Мне было наплевать на радио, телевидение, спутники и даже почтовых голубей. Он знал меня лучше многих и, наверно, – по крайней мере, я так думал, – знал также и это.
– Коуч, ты видел Одри?
Рей снова выбил трубку и сунул ее в карман рубашки.
– А я-то все думал, когда же спросишь.
– Всякий раз, когда вы навещали меня, вы как будто скрывали что-то.
– Я люблю эту девочку, – медленно, осторожно подбирая слова, сказал он. – Почти так же сильно, как тебя.
– Она взяла с тебя обещание не говорить мне или Вуду. Так?
Рей отвел глаза.
– Все это время ты знал.
Он посмотрел на поле. Потом повернулся и, уже начав спускаться, заговорил:
– Увидимся. За тобой должок – обед. Это, по крайней мере, ты сделать в состоянии – раз уж сорвал мой профессиональный дебют.
– Коуч?
– Город изменился, пока тебя здесь не было.
– Коуч!
Не глядя на меня, Рей указал трубкой на часовую башню.
– Загляни в наш новый розовый сад. Это что-то. – Он вытер лоб белым носовым платком. – Вид с башни такой, что у тебя точно дух захватит.
Сад был старый, ему было лет двести или даже больше. Пять лет монахи строили стену. Каменная твердыня в двенадцать футов высотой – и достаточно толстая, чтобы по ней пройтись, – могла и отражать небольшие ядра, и служить защитой от жестоких, бьющих в сердце слов. Она по завершении окружила весь участок площадью в восемь акров. Над стеной возвышались восемь посаженных еще в Гражданскую войну дубов, ветви которых простирались и за границу территории. Согласно легенде, в самом старом из них застрял снаряд, но так ли это на самом деле, никто не знал. Шрам давно зарубцевался. Старые дубы охотно принимали всех: дети прибегали сюда поиграть, работники находили здесь тенистый уголок, солдаты-конфедераты обретали покой, а любовники – уединение. Вода поступала к ним по восьмидюймовой трубе, врезанной в водоносный пласт, залегающий шестьюстами футами ниже. Устье скважины обозначали известковые обнажения. Вода была холодная, чистая и, как говорили некоторые, сладкая. Лет сто назад какой-то неизвестный монах вырезал на камне такие строки:
- …зима ушла излился дождь.
За десятки лет корни вистерии отыскали камень, пробрались вглубь и оплели фундамент тесными объятьями ревнивого любовника.
На протяжении всей жизни маятник жизни сада качался между красотой и забвением. Обработанный, возделанный, политый потом и ухоженный, сад принимал свежие корни, а потом раскрывался, наполняя мир цветом, ароматом и жизнью. Позабытый и брошенный, он зарастал сорняками, душившими почти все остальное, и распускал расползавшиеся во все стороны вьюнки.
В дни нашей юности люди поговаривали, что каменная стена вокруг Сент-Бернара сооружена для защиты монахинь от внешнего мира. Некоторые из них, по слухам, не разговаривали по тридцать-сорок лет. Обитель молчания. Только они знали всю правду о том. Стена помнилась мне не такой высокой и толстой.
Я прошелся пальцами по мертелю[24], вскарабкался по узловатым сучьям могучего дуба, ступая и хватаясь за ржавые двенадцатидюймовые гвозди, и соскочил на стену – на высоте двенадцати футов от земли.
Сад зарастал, когда мы играли здесь детьми. Мы убегали в эти джунгли сорняков, забвения и безразличия.
Потому-то мы и убегали туда. И в тот вечер, после игры, она, дрожащая от холода, пахла горячим шоколадом и сосисками.
Возвращение домой.
Ветер задувал с непривычной для южной Джорджии силой и резкостью. Одри стояла возле раздевалки, кутаясь в бейсбольную куртку огромного размера и пытаясь согреть дыханием пальцы. Приняв душ, я вышел из раздевалки, и она сунула свою руку в мою. Идти домой не хотелось ни ей, ни мне. Вот так мы и оказались здесь. Двое замерзших под медной луной. Посередине сада она остановилась, потянула меня за рукав, и мы сели на холодную мраморную скамью.
– Ты дрожишь, – прошептала Одри.
Я горел.
– Мне не холодно.
Любовь была для меня в новинку, и я еще не знал, что с ней делать, но когда Одри посмотрела на меня, мое сердце растаяло, выскользнуло из груди и упало ей в руки.
Там я и видел его в последний раз.
Сад подо мной не был ни запущенным, ни заросшим. Даже площадка для гольфа в августе не выглядела более ухоженной, каждая былинка на своем месте. Растянувшиеся вдоль стены двадцать два фиговых дерева затеняли садовые дорожки. Находясь наверху, я попытался понять систему организации сада и не смог. По обе стороны – аккуратные вертикальные посадки, пересеченные аккуратными горизонтальными посадками с пестрыми, беспорядочными вкраплениями. Лужайку между ними занимали розовые кусты. Одни сбились в кучки, почти сплетаясь ветвями; другие стояли отдельно, сами по себе. Посередине возвышалось пугало с пластинами из алюминиевой фольги, вертящимися под ветром. Чуть в стороне, буквально в нескольких шагах, из земли торчал явно неуместный здесь гниющий деревянный обрубок. Несмотря на очевидное отсутствие порядка, что-то в общей планировке сада показалось мне странным. В ней ощущалось отсутствие организованности и симметрии. Я повернул голову, прищурился и прошелся по саду более внимательным взглядом. Так ничего и не поняв, прогулялся по стене до часовой башни, проскользнул в окно и поднялся по ступенькам наверх. Встав под колоколами, я снова огляделся. Наверно, днем это заняло бы больше времени из-за обилия добавлявших путаницы импрессионистских красок. Но теперь, при луне, представившей все в черно-белом контрасте, отдельные элементы сложились в единую картину. До меня, наконец, дошло.
Одри.
Невероятно. Здесь, в саду, она воссоздала финальную игру национального чемпионата тринадцатилетней давности, а точнее, ее заключительный момент, глядя через призму той последней встречи и используя краски и текстуру сада, Одри воспроизвела один-единственный миг матча – с запасными противоборствующих команд, тренерами, судьями, линиями ворот, стойками и игроками.
Я застыл, изумленный. И сколько же времени на все это понадобилось? С чего она начала? И зачем? Впечатление было такое, словно она сделала снимок одного из величайших мгновений в нашей жизни, сохранила его и воспроизвела в живой трехмерной презентации. Театр под открытым небом.
Мне захотелось посмотреть на все это поближе, поэтому я спустился в сад и сразу оказался на поле между своими товарищами по команде.
Узнать его мог бы только тот, кто хорошо его знал, но, да, это был он, Вуд, центровой. Одри так умело переплела стебли степной розы, что его здоровенные ноги вырастали из земли, свивались в туловище, переходили в могучую грудь и крепкие руки. Не знаю, как ей удалось добиться от роз такого направления роста, но труд, настойчивость и целеустремленность создали шедевр. У нее даже получилось передать напряжение, злость, борьбу. Руки Вуда переплелись с другими руками – стеблями более темной розы, росшей по другую сторону пня. Я прошелся взглядом по остальным фигурам. Мейджор Хокинс, лайнбекер, мой опекун. Джейк, мой защитник, положил одну руку-ветвь на плечо Вуда, а другую – на склонившуюся над ним розу. Они накрывали лайнбекера.
И в той игре накрыли. Они выиграли для меня время, дав возможность отдать пас. Краудер, фулбек и мой второй ресивер, неприкрытый, махал мне руками. Его представлял один-единственный, посаженный отдельно приземистый куст, окруженный несколькими футами скошенной травы и двумя качающимися на ветру стебельками. За этим кустом по земле тянулся тоненький побег. Краудер славился тем, что никогда не зашнуровывал обувь, поэтому и споткнулся в той игре, выходя из бекфилда. Я перевел взгляд на угол эндовой зоны и отступил в сторону. Как и в той игре, в сорока семи ярдах от меня был Родди. Одри посадила там высокий и аккуратный куст с длинными ветками. Я провел по ним пальцами и рассмеялся – шипов не было. То ли она их срезала, то ли нашла сорт без шипов, а все потому, что в нем не было ни капли недоброжелательности. Самоуверенный, даже высокомерный, но недоброжелательный – никогда. Родди нравился всем, но он никогда не выглядел таким грациозным, как здесь, вытянувшись надо мной через небо. Родди прыгал, как газель, и поэтому Одри подвесила его к проволочной раме на высоте в несколько футов. Распростертые руки переплетены тремя розами, растущими в конце эндовой зоны и карабкающимися по его спине: в той финальной игре его держали два корнербека и сейфти. Ветви их были коротко обрезаны возле кончиков пальцев. Были здесь представлены и болельщики – смешанная, безликая паутина карабкающихся лоз – по стене с одной стороны и по изображающей открытую трибуну деревянной раме с другой. Интересная деталь – под рамой она высадила несколько сгрудившихся вокруг крохотного пенька розовых кустиков, показав играющих детей. Да, здесь были показаны все – игроки, тренеры, судьи, даже мальчишка-посыльный. Для всех нашелся розовый куст. Для всех, кроме квотербека.
И тут мое внимание привлекло пугало.
Ловко.
Все в этом саду было аккуратно подрезано, пострижено, ухожено, все сорняки выполоты, и только пугало не вписывалось в эту идеальную картину, царапая глаз заплатой из мусора и кусочков ткани, соединенных проволокой и бечевкой. Руки и ноги были сделаны из обрезков полихлорвиниловых труб, на каждом из них висели соединенные рыболовной леской пластинки из алюминиевой фольги. Выглядели эти пластинки так, словно сначала по ним проехал трактор, а потом их пожевала газонокосилка. И развешаны они были кое-как, бессмысленно и бездумно. Голову несчастного страшилы изображал вертящийся медный флюгер. Некогда круглый, как вентилятор, он был согнут и помят и напоминал леденец. Скошенная набок голова держалась на плечах только за счет плотной обмотки серебристой клейкой лентой. Белая футболка на груди была порвана – ровно в том месте, где положено быть сердцу.
Я поднял глаза и скользнул взглядом по силуэту стены. В нескольких дюймах над ней, на грубо оструганных брусьях, стояли шесть разнокалиберной формы ящиков. Рассмотреть их в темноте было трудно, но под определенным углом – например, с уровня поля – брусья и ящики напоминали прожектора на осветительных вышках. Я поднялся на стену и, раздвинув нависающие ветви дуба, приблизился к первому ящику. Кормушки для птиц, полные корма.
Может быть, Одри и скрывалась от мира, но тот, из которого вышла, она не забыла, и потратила немало времени – лет десять или больше, – воссоздавая один-единственный миг.
Миг, когда весь мир был обещанием и возможностью.
Я сидел, свесив ноги, дивясь на созданный Одри мир, когда ухо уловило скрип распашной калитки. Женщина шла быстро, деловито, не останавливаясь, чтобы вдохнуть цветочный аромат, сбивая на ходу бутоны. В руках у нее была какая-то палка. Тьма почти скрыла женщину, и несколько раз я терял ее из виду в тени фиговых деревьев. На мгновение она исчезла в эндовой зоне, но тут же появилась под Родди, пересекла красную зону, прошла через защиту и направилась к центру поля. Походка быстрая, решительная, твердая и знакомая.
Седьмой класс, национальный чемпионат, четвертая четверть. Мы проигрывали шесть очков. До конца восемнадцать секунд. Их защита выстроила довольно надежный блиц, а моя атакующая линия пребывала в полной растерянности и не знала что делать. На позиции внешнего лайнбекера у них стоял парень по фамилии Брукс, который позже десять лет отыграл в профессиональных командах. Но прежде чем уехать в Даллас, он успел оставить свою метку на мне и отметиться в серии. Каждый раз, когда я поворачивался, этот парень встречал меня лицом к лицу, и я оказывался на спине. В четвертый раз он вынес меня в предпоследней встрече. Я смотрел вперед, выискивая взглядом открытого игрока, и тут он ударил меня исподтишка. Помню, что услышал голос диктора: «Райзина выключили. Райзина выключили». Я не знал собственного имени, не говоря уже о том, что не знал, какая идет четверть, но понимал, что должен подняться до того момента, как на поле выбегут тренеры. Вуд подхватил выроненный мной мяч, и мы провели еще одну атаку, перехваченную, к сожалению, в эндовой зоне. Не самая лучшая моя попытка. Поднявшись – не только с земли, но и с меня, – Брукс исполнил нечто вроде танца, сопровождая его жестами в сторону наших болельщиков, и направился к своему хадлу, чтобы отдать дальнейшие указания. Однако на полпути его сразила стрела, выпущенная от нашей боковой линии. Торжествующую вертикаль словно ножом срезала стремительная горизонталь. Столкновение закончилось для Вуда падением и потерей шлема, но скорее добавило сумятицы, чем нанесло вреда. Когда пыль рассеялась, судьи стащили Одри с его груди, по которой она колотила кулачками, а затем под бурную овацию ста двадцати одной тысячи зрителей, поднявшихся на ноги, убрали из игры. Два полицейских, смеясь, вывели Одри с поля, так что концовку она досматривала из ложи прессы, где ее встретили с распростертыми объятиями. После матча один из репортеров назвал ее коатой, паукообразной обезьянкой. Прозвище приклеилось. Позднее Брукс назвал этот эпизод одним из самых запоминающихся во всей своей футбольной карьере, а годом позже мы с Одри сфотографировались с ним, когда я смог убедить ее, что он хороший парень.
Подойдя к линии скримиджа, Одри бесцеремонно двинула розового Вуда в область желудка. От полученного тычка послушный куст замахал ветками, но остался цел и невредим. Жить будет и еще сыграет. Не обращая внимания на страдальца, она подошла к пугалу, безучастно взиравшему на поле. Пластинки его вертелись, и голова поворачивалась, покорно внимая голосу ветра. Не говоря ни слова, Одри размахнулась и точным боковым в стиле Аарона Хэнка срубила склонившуюся голову страшилы с его уже поникших плеч. От полученного удара флюгарка улетела на трибуны и шлепнулась на колючий куст в районе третьего ряда. Перестроившись, она несколькими короткими и быстрыми ударами оторвала обе руки и безжалостно разделалась с ногами, сопроводив жестокий свинг натужным утробным стоном. Затем, склонившись над останками, принялась рубить куски на мелкие кусочки и, словно этого ей было мало, втаптывать в землю, сопровождая процесс словесными поношениями.
С таким же неистовством она дралась когда-то за меня.
Расчленив злосчастное пугало, выключив его полностью из игры да еще и высказав при этом все, что о нем думает, Одри отошла к скамейке у стены, прямо подо мной, бросила орудие на землю и, тяжело дыша, откинулась на спинку. Будь у меня малина, я мог бы бросить ягодку ей на голову. Прошла минута, другая… Одри подтянула к груди колени и опустила голову. Первые рыдания прозвучали приглушенно, но потом вырвались на волю и эхом отлетели от каменной стены и часовой башни над нами.
Последний раз я слышал такое в зале суда. Неудержимый, полный отчаяния рев вырвался из самой ее души. И тогда, и теперь этот звук резал мне сердце.
Слева от нас, в нескольких сотнях футов, сквозь деревья просвечивали огни школы, мужского и женского общежитий. Я вдруг почувствовал, как давит на лодыжке ножной браслет.
Я соскользнул со стены, спрыгнул на траву в паре футов от нее и немножко ее напугал. Она постарела, глаза казались холодными и почти безжизненными – годы не пожалели ее. По-мальчишески коротко постриженные волосы как будто посерели. Точнее, полностью побелели. Вокруг глаз залегли темные круги. Она похудела. Обручального кольца на пальце уже не было. Одри всегда напоминала мне Эмили Дикинсон. Пронзительные глаза, четко вылепленные губы, соблазнительные изгибы, обольстительный голос. Про голос я бы говорить не стал, но вообще-то, если не обращать внимания на волосы, она почти не изменилась с нашей последней встречи.
Я провел в тюрьме шесть месяцев, когда охранник сообщил, что ко мне пришли.
– Кто такой? – хмыкнул я.
– Одри Майклз.
Меня немного задело, что она назвалась девичьей фамилией. Я сел на стул и стал ждать. Одри вошла, сложив руки на груди, словно заставляя себя сдерживаться. Я поднялся и подался вперед, забыв, что нас разделяет стекло. Звон цепей эхом отскочил от стен. Она осунулась, прилично похудела и выглядела изможденной. После суда мы не разговаривали и вообще никак не общались. Не глядя на меня, Одри опустилась на край стула и слегка откинулась назад, словно отстранилась. Я хотел сказать что-нибудь, как-то смягчить ее боль. Но ее, моей Одри, здесь не было. Минут десять она просто сидела, ничего не говоря. Потом взглянула на меня украдкой и снова опустила глаза.
– Почему?
Что я мог ответить? Снова все отрицать? Ее бы это не устроило. Даже если бы я повторил то же самое в тысячу первый раз.
Я промолчал. Ждал, что она посмотрит мне в глаза. Не посмотрела. Поднялась, постояла, еще крепче обняв себя руками, как будто ее могло вырвать прямо здесь, и вышла.
Вот тогда я и видел ее в последний раз. Одиннадцать лет, сто восемьдесят семь дней и девять часов тому назад.
Я наклонился и поднял палку, увесистую, твердую, шишковатую, отполированную руками, потом и долгой службой. Одри поднялась. Она уже опомнилась, и теперь к ней возвращалась прежняя, холодная, решимость. Нас разделяли два шага. Я протянул палку, как подношение. Голос сухо треснул, но слова не шли.
Наверно, мы уже все сказали.
Она взяла палку, постояла, держа ее на весу, словно раздумывая, и положила на плечо. Потом, когда в ее глазах блеснула холодная влага, вытянула руку и коснулась палкой моей щеки. Подержала несколько секунд. Нижняя губа у нее дрожала. Она открыла рот, как будто собиралась что-то сказать, закрыла и, скрипнув зубами, прижала палку к моему виску. Несколько секунд она стояла так, глядя не столько на меня, сколько сквозь меня. А потом тряхнула головой и сжала палку обеими руками. Я посмотрел ей в глаза и вдруг понял, что если моя жена здесь, то она погребена под иром боли. Собравшись наконец с силами, Одри сунула палку под мышку, как зонтик, повернулась и пошла туда, откуда пришла.
Я смотрел ей вслед, смотрел, как она уходит, оставляя меня в своем саду. И только после ее исчезновения заметил, что по щекам и подбородку текут слезы.
Глава 10
В домике Вуда я проснулся весь в поту еще до света. Над головой шумно трудился вентилятор. Снаружи было тихо. Откуда-то издалека донесся глухой, призрачный крик поезда. После разминки на автомобильной свалке я подошел к раковине и стал бриться. Перед глазами стояло лицо Одри. Дверь приоткрылась. Вуд, просунув голову, кивнул в сторону «кладбища».
– Ты, похоже, не так уж много и потерял. Судя по тому, как взбежал на холм, ноги у тебя еще вполне резвые. Планы есть? Не хочешь поделиться?
Я пожал плечами.
– С некоторыми привычками расстаться трудно.
– Что думаешь делать сегодня?
Я посмотрел на часы на стене.
– У меня четыре часа на регистрацию. Не успею – ребята в форме ждать не заставят.
Вуд взглянул на свои дешевые цифровые часы. Определенно не тот «Ролекс», который я подарил ему перед драфтом.
– Будет лучше, если я отвезу тебя в город.
На доске возле двери красовалась короткая надпись – «шериф». Я встал в очередь. Из тех, что явились раньше, одни пришли насчет внесения залога, другие – похлопотать о свидании с заключенным. Леди за столиком коротко разобралась со стоявшим передо мной парнем и, вытянув шею, вопросительно посмотрела на меня. Вокруг толпились люди, так что я подался к барьеру и постарался понизить голос.
– Мэм, я хотел бы встать на учет как… правонарушитель.
Она почесала карандашом похожую на пчелиный улей голову.
– Повторите.
Я повторил, громче, но все еще только так, чтобы меня слышала только она.
– Мэм, я хотел бы встать на учет как сексуальный насильник.
Ее бесстрастное лицо отразило всю гамму чувств, а когда она повторила сказанное мной, ее могли услышать даже прохожие на улице.
– Вы хотите зарегистрироваться как сексуальный насильник?
Все посмотрели на меня.
Я кивнул.
Она ответила мне полукивком и добавила еще громче:
– Это понимать как «да»?
– Да, мэм.
– Вы носите электронный браслет?
Я поднял и вытянул ногу так, чтобы она его видела. Дамочка взяла со стола соединенный с компьютером ручной сканер, напоминающий прибор, которым пользуются на кассе в бакалейных магазинах, и поднесла к браслету. На экране перед ней возникла моя тюремная фотография, сделанная накануне освобождения.
– Полное имя? – сказала она, не глядя.
– Мэтью Тейт Райзин.
Она сняла очки и уставилась на меня.
– Сынок, я здесь не для того, чтобы твои шуточки слушать. Либо говори, либо… – Она ткнула пальцем за спину – там, возле кофейника, столпились несколько полицейских. – Либо разговаривать будешь с ними.
Я повторил. Громко и ясно.
– Дата рождения?
– 11—3—1981.
– Водительские права или удостоверение личности?
– Ни того ни другого.
– Карточка социального страхования?
Карточка у меня была, ее вернули мне вместе с другими документами, когда выпускали из тюрьмы.
– Информация о работодателе?