Козлёнок за два гроша Канович Григорий
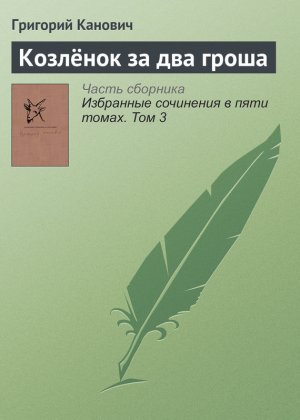
— Но этот номер, Юрий Григорьевич, похуже… — признался корчмарь.
— Сойдет, — ответил Крапивников, польщенный тем, что его назвали по имени-отчеству. Крапивников обожал, когда к нему обращались по-русски. Что такое «реб Юдл»? Ни один акцизный чиновник, ни один становой пристав, ни одна христианская душа не знает и не ведает о такой приставке — «реб». Другое дело — Юрий Григорьевич! Юрием Григорьевичем величают самого ковенского градоначальника! Если покопаться, то и среди министров можно найти Юрия сына Григорьева. И не только среди министров — россиенского батюшку тоже зовут Юрий. Обратятся к тебе так, и ты на минуту — в мыслях, конечно, — градоначальник, министр, батюшка!
— Ваша воля, — сдался корчмарь, оглядывая Эзру и Дануту. — Рядом так рядом. Прикажете накрывать на стол?
Крапивников не отвечал. Пускай обратится как положено.
Смекнув, что он дал маху, корчмарь поправился:
— Прикажете, Юрий Григорьевич, накрывать на стол?
— Изволь, голубчик.
— На сколько человек? — на всякий случай осведомился хозяин. Может, эти голодранцы не имеют к Юрию Григорьевичу никакого отношения.
— На троих, — снизошел Юдл Крапивников. — Балычок у тебя имеется?
— Имеется, Юрий Григорьевич.
— А икорка?
— И икорку сыщем, Юрий Григорьевич.
— А устрицы?
— Устриц, Юрий Григорьевич, не держим.
Вся корчма была полна этим сладкозвучным, этим высокородным сочетанием — Юрий Григорьевич. Оно ласкало Крапивникову слух, оно было балычком, икоркой, устрицами, бальзамом на сердце, придавало ему, сыну мишкинского аптекаря, небывалый вес.
— Штоф водки, — сказал эконом Завадского.
— Слушаюсь, Юрий Григорьевич. — С каждым «Юрием Григорьевичем» корчмарь к обычной цене набавлял алтын. Пускай платит, гордец, коли ему так хочется, чтобы его величали по русскому обычаю.
— Давай сразу два, — приказал Крапивников. — С хорошими людьми и выпить не грех. Кочуют, бедняги, из местечка в местечко, поют, пляшут, играют. Ты бы их, Хесид, взял к себе.
— Зачем, Юрий Григорьевич?
— Они б тебе гостей заманивали. Народ валом бы валил… Почему бы тебе, голубчик, не порадеть за родное слово и родную песню?
— Рад бы порадеть за нашу родную песню, Юрий Григорьевич, но на нее никто не повалит. Каждый еврей сам умеет петь.
— Ты, Хесид, не патриот.
— Боюсь, Юрий Григорьевич, побьют.
— Побьют?
— Сами знаете: за чужие песни платят, за родные — бьют, — вздохнул Хесид.
— Ах, хитрец! Ах, пройдоха! Ах, патриот! — ласково ругнул корчмаря Юдл Крапивников.
Человек, названный Хесидом, принялся жаловаться на тяжкое житье всех корчмарей на тракте от Смалининок до Ковно, на житье, которое особенно ухудшилось после ареста Ешуа Манделя («Крепкий был мужик! Вместе на винокурню к Вайсфельду ездили»), обвиненного в убийстве христианского мальчика; жди, мол, когда к тебе нагрянут и в отместку разнесут корчму в щепы; скорей бы дело кончилось, второй год суд идет и — ни туда ни сюда, ни домой, ни на каторгу; защитника уже доконали… Горского или Борского…
— Дорского, — помог Хесиду Юдл Крапивников.
— Вот, вот… Дорский… Скажите, Юрий Григорьевич, — взвихрился Хесид. — Почему так устроено?..
— Как?
— Когда убивает Роман, говорят: убил Шмерл! Когда ворует Хасан, вопят: стащил Берл. Послушаешь, что болтают, почитаешь, что пишут, и за голову схватишься: шмерлы-берлы — убийцы, шмерлы-берлы — воры, шмерлы-берлы — мошенники. А где же наши раввины? Сапожники? Гончары? Нищие? Мы что, из одного теста слеплены?
— Слеплены мы, положим, не из одного теста, но зато в одну печь посажены, — сказал Юдл Крапивников. Хоть он и знал, где евреи-раввины и где евреи-гончары, говорить об этом ему больше не хотелось. Он предвкушал, как сядет за стол, как выпьет первую рюмку холодной, остуженной в погребе водки, как теплынь, разлившись по желудку, поднимется вверх, затуманит глаза, и в этом теплом и безопасном тумане лицо Дануты покажется ему еще привлекательней, чем прежде.
Вечерело. Господь бог накинул на мир, как на лошадь, невесомую серую попону.
За окнами слышно было, как снулый ветерок шелестит в оголившихся ветвях липы. Где-то там, за этим шелестом, угадывалось озеро, дышавшее, как разморенное стадо.
Данута следила за тем, как Хесид проворно накрывает на стол, как расставляет тарелки, кладет вилки и ножи, и ощущение чего-то неотвратимого крепло в ней, переворачивая душу. Все ее внимание поглощала мысль о том, что перелом в их жизни произойдет не когда-нибудь, не завтра, не послезавтра, не через полгода, как она предполагала, а сегодня, сейчас, может быть, за этим вот столом, за этими ослепленными теменью окнами, в этих, как Хесид высокопарно, по-столичному называл их, номерах.
Она почти не смотрела на Эзру, как будто старалась от него отвыкнуть, и эта отрешенность только усугубляла ее смятение.
Было что-то унизительное (если не зловещее) в том, что чужой человек, удачливый слуга, счастливый приспешник привез их сюда, чтобы всю ночь (Данута в этом не сомневалась) кормить и поить на заработанные послушанием деньги. Она не обольщалась, не обманывалась насчет его щедрости, ее не вводила в заблуждение его расчетливая широта, которую изобличали недвусмысленные похотливые взгляды.
В разговоре Данута не участвовала — за три года, прожитые с Эзрой, она убедилась, что, о чем бы евреи ни судачили, они обязательно придут к одному и тому же: шести дней господу явно не хватило, чтобы сделать их счастливыми, и неизвестно, сколько еще дней-лет-тысячелетий понадобится, чтобы они похвалили его работу.
Запахло копченой рыбой, пряностями. Юдл Крапивников, нахваливая Хесида, первым уселся за стол (слуги в отсутствие хозяина всегда усаживаются первыми), широким жестом пригласил Дануту и Эзру.
Но Эзра как стоял у окна, так и остался там стоять.
Уже раньше Данута заметила за ним странную, пугавшую ее привычку. В такой позе Эзра мог находиться часами. Казалось, чего проще — перешагни через порог, выйди во двор, распахни, в конце концов, окно, но Эзра почему-то предпочитал смотреть на окружающее сквозь плотное, засиженное мухами стекло, словно оно единственное отгораживало его от всех зол и несправедливостей на свете. Данута никак не могла понять, о чем он, стоя в такой позе, думает, и это ее злило.
— Садись, Эзра, — сказала она.
— Да, да, — отрешенно бросил он, но за стол не сел.
— Садись, садись, — попросил его и Юдл Крапивников. — Как говорят русские, в ногах правды нет. А к тому, что говорят русские, надо прислушиваться. Особенно нам, евреям. Все наши беды оттого, что мы не прислушиваемся. Нам говорят садись — мы стоим, нам говорят стой — мы садимся.
Хесид прыснул.
Данута села напротив Крапивникова, откинула волосы, облизала губы, и этого движения было достаточно для того, чтобы Юрий Григорьевич приосанился, расправил свои холопские плечи, выпятил по-гусарски грудь. Он налил из штофа ей, себе и Эзре и, сонно ухмыляясь, провозгласил:
— За пенкных пань по раз первшы! (За прекрасных дам первый раз!)
— Эзра, — позвала Данута.
— Полная рюмка на столе и женщина в постели долго ждать не могут, — сострил Юдл Крапивников и, подражая, видно, графу Завадскому, добавил: — Прозит!
Хотя ей и польстила польская речь Юрия Григорьевича, Данута не отрывала глаз от Эзры, сердясь и удивляясь его упрямству.
Юдл Крапивников чокнулся с ней и выпил.
Пригубила и она.
— До дна! — потребовал эконом. — До дна. Радость только на дне, только в бездне. Ну-ка! Ну-ка! Вот так!..
Водка обожгла ее, и вместе с этим ожогом исчезла вдруг робость, и решение, которое зрело в ней, уже не казалось таким невозможным, как два или полтора года тому назад, когда она не представляла свою жизнь без Эзры. Юдл Крапивников перестал быть для нее мужчиной, потаскуном, чревоугодником и стал союзником, помощником — она будет пить с ним, кутить всю ночь, разрешит ему то, чего никогда никому не разрешала, только бы Эзра — даже страшно вымолвить! — покинул ее, вернулся в отчий дом или один добрался бы до Вильно и нашел доктора, который исцелил бы его от страшного недуга.
С какой-то пронзительной ясностью она внезапно поняла, что самый страшный его недуг — она сама, ибо с ней он не выживет, а пропадет, непременно пропадет. Потом, через десять, через пятнадцать лет, если судьба сулит встретиться, Данута расскажет ему, здоровому, избавившемуся от пагубы, чего ей стоила эта первая рюмка водки у Хесида в сумеречной корчме «Под липами».
— За пенкных пань по раз други! — намазывая на хлеб икру, предложил унюхавший удачу Юдл Крапивников.
До Эзры доносился звон корчмарского стекла, да и они сами — провозглашающий здравицы Крапивников, млеющая от тепла и внимания Данута, увертливый Хесид — казались ему дребезжаще-стеклянными; эконом был весь словно засижен мухами, Данута протирала его взглядами, но мухи все равно садились на него и гадили на его щеки, на его черный сурдут, на руки; Хесид крутился вокруг гостя, обмахивал его полотенцем, отгоняя назойливых насекомых; и все это дребезжание, весь этот звончатый гуд отдавались в ушах Эзры, который упрямо глядел в темноту, как в тору, выискивая в ней и утешение, и смысл.
Он стоял у окна и думал об отце, пустившемся в такой тяжкий путь, чтобы спасти, благословить сына, проститься с ним, о брате Гирше, ждущем в виленской тюрьме казни — казни, а не отца, но больше всего Эзра думал о Дануте. Три долгих голодных года подвергал он ее самой страшной пытке — пытке надеждой. Надеждой на венчание в каком-нибудь провинциальном костеле — в Эйшишках или Ошмянах, надеждой на свой угол, куда они могли бы возвращаться вьюжными зимами, надеждой на то, что когда-нибудь они откроют если не свой театр, то маленький передвижной балаганчик, где будут играть не только они сами, но и их дети. Данута стойко переносила эту пытку, но он-то знал, чего ей стоит эта стойкость, это ошпаривающее, как гольдшмидтовский кипяток, терпение. Нет, нет, он не имеет права больше ее пытать. Он должен что-то предпринять, чтобы все это кончилось, чтобы она снова почувствовала себя свободной, вернулась в свою Сморгонь или на худой конец ушла в монастырь (Данута всерьез об этом помышляла, когда жила у Скальского).
Юдла Крапивникова сам бог послал, думал он.
Пусть сидят хоть до рассвета, пусть милуются — это ему, Эзре, только на руку. Так легче уйти.
Уйти, уйти, цокали, как копыта по булыжнику, мысли, и Эзра боялся, что Данута, услышав их цокот, всполошится, встанет из-за стола, бросится ему на шею, и тогда ему уже никогда не вырваться.
Другого случая не будет, думал он. Ничего — Данута привыкнет, смирится, своим бегством он осчастливит ее больше, чем если бы остался. Нырнет в ночь, и вместе с ним туда нырнут и их горести, их надежды, их молодые глупые мечты.
— За пенкных дам по раз тщеци! — как заведенный твердил Юдл Крапивников, протягивая свою чарку скорее к ее груди, чем к рюмке, и чокаясь с Данутой с таким значением, словно они пили не водку с ковенской винокурни Вайсфельда, а волшебный, с каждой каплей сближающий их нектар Персии.
— Эзра, — сказала Данута, — иди к нам.
Но он даже не пошевелился.
— Эзра! — кликнула она еще раз. Ей было неуютно за ломящимся от яств столом, рядом с Юдлом Крапивниковым, который целился своей рюмкой то в ее грудь, то в ее шею, то в ее губы. — Ну что ты там, коханы, увидел?
— Медведь ходит, — ответил Эзра.
Юдл Крапивников громко рассмеялся:
— Хесид! Голубчик! Сделай одолжение! Прогони медведя!
Хесид глянул в окно и доложил:
— Не то что медведя — кошки, Юрий Григорьевич, не видно.
— Если видеть только то, что есть, то как же увидеть бога? — сказал Эзра и обернулся.
— Эзра мечтает купить бурого медведя, — объяснила Данута, не давая вспыхнуть ссоре.
— А зачем еврею медведь? — хмелея от водки, от близости Дануты, от трепетного сиянья зажженных Хесидом свечей, спросил Юдл Крапивников. — Еврей может купить дом, даже землю для собственного государства в Уганде, но медведя?
— Давайте лучше выпьем, — предложила Данута. — Выпьем и споем. Я хочу петь!.. Эзра, достань-ка из котомки скрипку.
- Дитя, не тянися весною за розой,
- Розу и летом сорвешь, —
начала Данута, вскинув голову.
Волосы ее, подожженные трепыхающимся пламенем свечей, расплавили вокруг себя сумрак, и в образовавшемся овале ее голова казалась необлетевшей кроной клена, неопалимой купиной.
Юдл Крапивников слушал ее с разинутым ртом, а Хесид пучил на нее свои печальные пастушеские глаза и вторил несмелыми, едва уловимыми вздохами.
- Ранней весною сбирают фиалки,
- Помни, что летом фиалок уж нет, —
тихо и обреченно выводила Данута.
- Дитя, торопись, торопись,
- Помни, что летом фиалок уж нет.
Эзра увидел, как увлажнились ее глаза, как она закрыла их тяжелыми веками — не так ли закрывает берестой свой ствол береза? Никогда раньше он не слышал от нее этой песни; наверно, эту песню певали ее мать или отец; казалось, Данута выдохнула ее, сочинила тут же, в этой корчме, при тусклом свете этой висящей под потолком, словно упырь, лампы и желтого, неверного света оплывающих восковыми слезами свечей.
- Теперь твои кудри, что шелк золотистый,
- Щеки, что розы «глюар де дижон».
- Теперь твои губы, что сок земляники,
- Твои поцелуи, что липовый мед.
- Так торопись, торопись,
- Помни, что летом фиалок уж нет.
- Дитя…
Она как будто рассчитывалась с ним, возвращала свой долг за «Песнь песней» в хибарке неподалеку от мельницы Ниссона Гольдшмидта, только теперь не мельник, а она сама стояла на коленях — перед Эзрой, перед их несбывшимися надеждами, перед своими неродившимися детьми.
— Дитя… — раболепно вздыхал Юдл Крапивников.
Срипка замолкла.
Корчмарь Хесид комкал в руке полотенце, и запах липового меда холодил его раздутые ноздри.
— Дитя, — с хмельной, бездумной ласковостью повторил Крапивников, потянулся к рюмке, но пристыженно опустил руку, как будто перед ним была не водка, а огонь.
Свечи понемногу оплывали, и от их меркнущего пламени тишина казалась пороховой.
— Ну что это вы как на кладбище? Выпьем, — сказал Крапивников. — За нашу фиалку.
Молчание его не устраивало. Оно устанавливало какую-то тайную и равную связь между всеми, скрадывало различия, а ему, Юдлу Крапивникову, Юрию Григорьевичу, хотелось, страсть как хотелось отличаться, выделяться, возноситься. Он не умел ни петь, ни играть на скрипке. Но — как ему казалось — обладал главным мужским умением — платить.
— Шампанского! — крикнул Юдл Крапивников, ошарашив своей просьбой не только Дануту и Эзру, но и Хесида, который вытирал слезившиеся глаза и прикидывал в своем щелкающем, как счеты, уме, во что эконому обойдется эта его фиалка.
— Сей момент, — сказал Хесид и исчез.
Эзра пощипывал струны скрипки, Данута отрешенно заплетала волосы, а Крапивников, раздувая ноздри, принюхивался к своей фиалке.
Хесид принес шампанское и тулуп:
— Накроетесь, если замерзнете, — сказал он Эзре. — А в вашу сторону, Юрий Григорьевич, печь выходит… Спокойной ночи!
Корчмарь обрезал ножом нагар на свечах и, зевая в кулак, откланялся.
Юдл Крапивников откупорил бутылку и разлил в стаканы искристый, как бы настоянный на пламенеющих свечах, напиток.
— За панну Дануту в любую минуту, — сказал в рифму Юдл Крапивников и поднес стакан к губам.
Выпил и Эзра.
Лицо его побагровело, легкие расширились, он молодо и уверенно задышал, налил себе второй стакан.
Надо вести себя так, чтобы не вызвать подозрения, подумал он, иначе не уйти.
— Ты много пьешь, коханы… — забеспокоилась Данута. — Тебе нельзя.
- Нельзя того, чего нельзя,
- Нельзя того, что можно, —
дурашливо защищался он от ее заботливости и тревоги.
Он пил с каким-то остервенением то водку, то шампанское, не закусывая, стремясь как можно скорей опьянеть, затуманить глаза, утихомирить свои мысли. Но с каждой рюмкой, с каждым стаканом зрение его обострялось и мысль трудилась, как дятел на стволе. В нем медленно взбухала злость на розовощекого, как ангел, Юдла Крапивникова, однако он не выдавал ее, разыгрывал из себя беспечного и дружелюбного собутыльника, лез к Крапивникову обниматься, чокаться.
— За панну Дануту в любую минуту! — выкрикивал он. — Хи-хи-хи! Слышишь, кошечка, в любую минуту!
Он ни с того ни с сего взял с лавки тулуп, принесенный Хесидом, вывернул наизнанку, напялил на себя, встал на четвереньки.
— Медведь! Право слово, медведь! — восторгался Юдл Крапивников.
Эзра забрался вдруг под стол, обнял Данутины ноги, облизал их, потом высунул из-под стола голову и стал к ней ластиться; Данута секла его скрипичным смычком по шерсти, но Эзра не унимался, гладил на виду у Крапивникова ее плечи, груди и рычал от удовольствия:
— Брр… бррр.
Чем пристальней Данута смотрела на него, тем больше в ней крепло ощущение, что Эзра притворяется пьяным, что он что-то затеял.
— Ступай в берлогу! — упрашивала его Данута.
Еще в самом деле напьется, думала она, и завалится под столом спать, и все задуманное ею пойдет насмарку. Надо, чтобы Эзра был трезв, чтобы все видел своими глазами: и как она войдет к Крапивникову в комнату, и как за ними закроется дверь. Надо, чтобы он поверил и, как мельник Ниссон Гольдшмидт, обозвал ее некейвой! Шлюхой! Сукой! Уличной девкой, которой грош цена в базарный день!
Шлюху легче оставить — сам бог велит от нее уйти.
От вывернутой наизнанку шерсти пахло яслями. Овечий запах бесил Крапивникова. Казалось, все вокруг было пропитано им: и шампанское, и Данута, и он сам, Юрий Григорьевич.
— Ты же славный зверь, — решив его перехитрить, сказала Данута. — Ты же такой послушный… ты же любишь свою медведицу.
— Бр… брр, — бормотал Эзра.
— А ведь тот, кто любит, должен слушаться. Иди!.. Я скоро приду… меду с пасеки принесу…
— Иди, — раздраженно бросил Юдл Крапивников. Ему, видно, осточертела эта игра в медведя и медведицу. Не за нее, за игру, он платит Хесиду деньги. — Иди!
Эзра замахнулся на него лапой, но Юдл Крапивников ловко увернулся.
— Эй ты, поосторожней! — предупредил он Эзру.
Когда Эзра замахнулся в очередной раз, эконом не выдержал, схватил подсвечник со стола и принялся тыкать горящей свечой всклокоченное вонючее страшилище.
Свеча осмолила шерсть и погасла.
Тогда Крапивников схватил другую. Он тыкал ею в Эзру, как горящим копьем.
Обмахивая себя лапами, пытаясь погасить шустрые и живучие, как блохи, искры, Эзра заметался по корчме.
— Бр… брр, — хрипел он.
Корчма наполнилась удушливым дымом.
Он струился во все щели.
Скорее на запах, чем на крик, прибежал Хесид. Он был в одном исподнем — ни дать ни взять привидение.
— Горим! Горим! — причитал он, озираясь по сторонам и выискивая в сумраке пламя.
— Бр… брр, — хрипел он.
Он дымился, как потухший костер.
В дыму, в тусклом сиянии свечей все воспринималось как в тяжелом, бессвязном сне, где перепутались времена и лица, вещи и представления.
Сонный Хесид бегал вокруг стола, хватал недопитые стаканы и выливал их содержимое на скомороха.
Юдл Крапивников смеялся, и смех его катился над всеми, как конское ржанье.
— Кто же шампанским тушит пожар? — спросил он, не переставая смеяться.
Данута сидела не двигаясь и наблюдала за Хесидом и Эзрой, за их заторможенным, как на испорченной карусели, кружением.
— Я ухожу, — вдруг сказал Эзра и остановился, — Навсегда…
Хесид подхватил его под руку, и тот, не сопротивляясь, глухо порыкивая, двинулся к выходу.
На пороге Эзра обернулся:
— Прощай!
Данута ничего не ответила.
— Графа он играет лучше, чем медведя, — промолвил Юдл.
Данута молчала. У нее кружилась голова от выпитого, хотелось приклонить ее к кому-нибудь на плечо или облить студеной водой, чтобы не ломило в висках, не разрывало темя.
— Панна Данута! Когда я смотрю на вас, то вспоминаю слова мудреца: радуйся женщине, которую нашел, не меньше, чем золоту.
Только теперь Дануту осенило, на кого он похож, ну, конечно же, на пана Чеслава Скальского, безглазого, с руками-щупальцами и кнутом вместо стека.
Это он догнал ее в этой корчме, это он настиг ее этой сгустившейся жемайтийской ночью, опоил, как отравой, шампанским и заставил — Эзра! Эзра! — лечь в постель.
Ничего не изменилось с той давней сморгоньской поры. Ничего. Разве что цена стала иной.
Пан Крапивников-Скальский заплатит ей не усадьбой на берегу Окены, не домом напротив православной церкви, не зеркалами, забранными в позолоченные рамы, не гагачьим пухом, а свободой Эзры.
Свечи оплывали и гасли. Только лампа-упырь излучала скудное панихидное сияние, и от этого ощущение призрачности, сна, опустевшего балагана только усиливалось.
Юдл Крапивников наклонился к Дануте и попробовал поцеловать в губы.
Данута не противилась. Она и к этому отнеслась не как к горькой яви, а как к греховному сну с шампанским, свечами и — непременно! — с изменами.
— Не надо, — взмолилась она только тогда, когда его движения стали еще настойчивей.
— Наш медведь отправился в берлогу спать. Так что вам нечего бояться… А Хесид? Хесиду можно заплатить за молчание, — как ни в чем не бывало продолжал Крапивников.
Как ни пытался он расшевелить Дануту, она по-прежнему держалась, словно на панихиде. То и впрямь была панихида по дорогам, по которым они кочевали с Эзрой, по Эзре, которого она недолюбила, по счастливому-несчастливому рабству, в которое она попала три года тому назад у разрушенного моста через Окену.
— Ради бога, не будьте печальной, — сказал Юдл. — Признаюсь вам, панна Данута, я мечтаю жить в стране, где слышно было бы только молчание. Никаких колоколов, никаких криков, никаких слез. В стране, где молча рождаются, молча живут и молча умирают. И чтобы в каждом городе, в каждом местечке выращивали молчание и чтобы его можно было по дешевке купить.
— Хесид берет дорого? — внезапно сказала она.
— Меньше, чем за шампанское… Давайте, панна Данута, выпьем за страну молчания, где растут фиалки, которые срывают круглый год: весной и летом, осенью и зимой.
Он налил две рюмки.
— Прозит, панна Данута… Вы спрашиваете, сколько Хесид берет за молчание? Примерно столько, сколько за овес для лошади. Полтинник, два… Чем выше человек, тем его молчание дороже. У нас в уезде дороже всего стоит слово и молчание исправника Нуйкина. Только с ним лучше не связываться. Обязательно, бестия, обманет: заплатишь за слово, а он промолчит, дашь за молчание, а он всем выболтает.
— А мне?
— Что вам?
— Сколько вы заплатите?
— Как можно, панна Данута!.. Если вам нужны деньги… если вы нуждаетесь, то я всегда пожалуйста… только скажите, сколько?
Сон, сон, уверяла она себя.
Стоит ей сегодня пересилить свое отвращение к этому Крапивникову-Скальскому, согрешить, как завтра Эзра снимет с себя свою медвежью шкуру, пойдет к доктору, встретится со своим отцом Эфраимом, со своими братьями Шахной и Гиршем, со своей настоящей, не кочевой, а оседлой еврейской жизнью, и эта жизнь исцелит его от всех напастей, среди которых самая страшная — ее… его… их… любовь…
У каждого своя жизнь, подумала Данута. Кто идет на виселицу, как Гирш, а кто среди жемайтийской ночи — в чужую постель. И еще неизвестно, чья казнь хуже.
Данута вдруг поймала себя на мысли, что своим грехом может скорее погубить Эзру, чем спасти, и первым ее желанием было встать, отхлестать Крапивникова по щекам, вылить ему в глотку оба штофа водки и оставить одного за этим столом, в этой темени, в которой, как и в стране молчания, не слышно ни колоколов, ни крика, ни слез.
— Панна Данута! Если бы медведь хотел вас видеть, он бы вернулся, — с бесцеремонностью победителя сказал Юдл Крапивников.
В самом деле — если бы хотел видеть, вернулся бы, не бросил, не оставил ее наедине с этим… двойником Скальского.
Порыв ее погас, и вместо желания мстить и глумиться пришла безболезненная, всеобъемлющая пустота, которая обволакивала, как сумрак. В этой сумрачной пустоте уже не было ни одной преграды, не горело ни одной свечи, только упырь раскачивался под потолком.
— Приходи, — сказал Юдл Крапивников, впервые обращаясь к ней на «ты». — Я буду тебя ждать.
— Панну Дануту в любую минуту? — хмыкнула она и, стараясь не скрипеть дверью, вошла в свою комнату.
Эзра спал, не удосужившись снять тулуп. От него пахло гарью и водкой.
Данута не собиралась его будить, ждала, когда он, услышав ее шаги, сам проснется, и сон со свечами, шампанским и изменой рассеется, исчезнет; Эзра обнимет ее, накроет опальным тулупом, и они, как всегда, сольются, как сливаются две речки по весне, страсть к слиянию которых так чиста и бескорыстна; Данута прижмется к нему, и он сквозь упругую стенку ее упругого живота услышит, как прорастает его семя.
Но Эзра не проснулся.
— Спишь? — спросила она.
Ни звука.
Данута пыталась растормошить его, но Эзра, пьяно и беспамятливо дыша, что-то бормотал спросонья.
Мрак обступил ее со всех сторон — даже звездочки не было видно.
Не зная, что делать, она принялась разуваться.
Сняла ботинки.
Чулки.
— Данута! — послышалось за дверью.
Юдл Крапивников царапал ногтями иссохшиеся доски.
— Данута!
— Господи! — выдохнула она и неожиданно, как в детстве, упала на колени.
— Данута!
— Если это правда, что ты такой сильный, такой могучий, то почему ты не можешь сделать нас счастливыми? Разве тебе несчастные более угодны? Чем несчастнее, тем угоднее?
Хмель улетучился. Дануту трясло, плечи ее дрожали в зыбкой ночной мгле.
— Если это не так, останови меня. Вот тебе моя рука! — Данута протянула руку; рука не тонула — темнота выталкивала ее на поверхность.
— Данута!
— Господи! Неужели кобель за дверью сильней тебя?
— Данута, — шепот Крапивникова сверлил дверь, как древоточец.
— Иду, — не то кобелю, не то господу сказала Данута.
Встала, сняла с себя платье, бросила на кровать, обхватила руками голые груди.
— Иду!
Выскользнула за дверь.
И ослепила Юдла Крапивникова.
Когда она под утро вернулась, Эзры в комнате уже не было.
Данута опустилась на пустую кровать, накинула на себя вывернутый наизнанку тулуп, сглотнула тошноту, но горло сдавило, словно тисками, и через минуту из него хлынули балык и тетушка Стефания, шампанское и мельник Ниссон Гольдшмидт, икра и пан Чеслав Скальский.
Каждый должен изблевать свой грех, подумала Данута.
Но только не ребенка… дитя… помни, что летом фиалок уж нет…






