Козлёнок за два гроша Канович Григорий
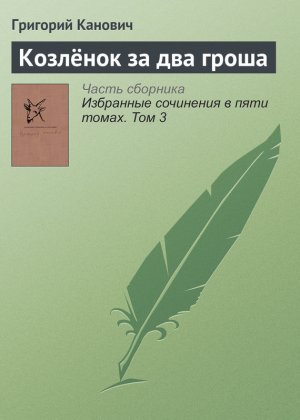
— Вильно, — возразила она. — Там в костеле Святой Анны венчалась моя мама.
— Спи!
— Завтра, завтра…
И она снова осыпала его поцелуями.
Эзра лежал, распятый ее ласками, ловя ртом воздух; воздуха не хватало, как на полке в бане, и он фыркал от удушья.
— Данута, — взмолился он. — Завтра…
— Сегодня, Эзра. Завтра мы поедем в Вильно к твоим братьям. К Гиршу и Шахне.
— Зачем?
— Ты же сам говорил: Гирша могут повесить. Ведь говорил?
— Ну и что?
— Может, вам еще удастся увидеться перед казнью?
— Перед чьей казнью? — спросил Эзра, и снова мысль о струйке, текущей к чужому и случайному кладбищу, пронзила его.
Небо за окном посветлело. В комнату хлынули первые лучи солнца. Они сперва побелили обшарпанную стену, потом пушистыми котятами улеглись на полу, потом перебрались в угол, где, как осина в вьюгу, скрипела старая кровать, за которую они платили Вайнеру по алтыну за ночь.
Только когда совсем рассвело, их одолел сон.
Дануте снилось:
будто она стоит в подвенечном платье перед алтарем в костеле Святой Анны;
ксендз пристально смотрит на нее, так пристально, что при каждом его взгляде у нее, как листья, опадают кружева фаты;
вот уже обнажились ноги, живот с дуплом пупка, груди;
она тщится прикрыть их, но нечем;
святой отец смотрит на нее своим невидящим оком, смотрит, и взгляд его сковывает сначала правую грудь, потом левую;
хочется бежать, но она не в силах и шага шагнуть, как будто приросла к земле;
ксендз приближается к ней и, когда подходит вплотную, она видит, что в руке у него вовсе не паникадило, а стек с набалдашником, и одет он не в сутану, а в расшитый золотом зипун.
— Скальский! Скальский! — вскрикнула Данута и проснулась.
Они вышли во двор, зачерпнули в колодце бадьей воду и стали сливать ее, студеную, прозрачную, друг другу.
Откуда ни возьмись во дворе вырос хозяин заезжего дома Шолом Вайнер.
— Молодой человек, — сказал он и тронул Эзру за рукав. — Можно вас на минутку?
Снова будет его уговаривать, чтобы бросил меня, подумала Данута и сплюнула сквозь зубы. Все только и делают, что уговаривают его!..
— Вот вам лампа, — сообщил Шолом Вайнер, когда они отошли в сторонку. — Пользуйтесь на здоровье.
— Премного благодарен, — сказал Эзра, но лампы не взял.
— У меня, правда, к вам просьба, — продолжал хозяин заезжего дома. — Это, конечно, ваше дело, как спать: на боку, на спине, однако же мой Соломончик еще ребенок… второй год после бармицвы — совершеннолетия.
Эзра никак не мог взять в толк, куда Шолом Вайнер гнет.
— Это, конечно, нехорошо — подглядывать в окна. Но что поделаешь, если в доме нет ни одной лишней занавески… Попросите, пожалуйста, свою… — Шолом боком повернулся к Дануте, — попросите ее, чтобы перед сном не раздевалась… то есть раздевалась, но снимала не больше, чем моему Соломончику положено видеть…
— Ваша лампа нам больше не понадобится, — просто и незлобиво сказал Эзра. — Мы уезжаем. Теперь ваш Соломончик будет видеть то, что ему положено. Но, согласитесь, это так мало.
— Что? — не сообразил хозяин заезжего дома.
— Видеть в жизни только то, что положено, когда хочется видеть все.
Когда Эзра рассказал Дануте о просьбе Шолома Вайнера, они оба расхохотались. Особенно громко хохотала она — захлебываясь, стремясь заглушить тревогу, нараставшую с каждым часом, с каждым упавшим наземь листом. Данута чувствовала, что в их жизни вот-вот произойдет какой-то перелом, тяжкий, с непредвиденными последствиями, что теперь для защиты их запретного и горького счастья одной любви будет мало. Да и было ли это счастье — эти вечные скитания с севера на юг, с востока на запад, этот холод и голод, эта крапивная неприязнь евреев к ней и христиан — к нему. Данута ловила себя на мысли, что редкие минуты радости не стоят таких мук, — а ведь она мучилась безропотно, тихо — и почти жалела о том, что тогда, в том пронзительном, натянутом как тетива сентябре, уступила, поддалась смутному и мстительному зову своей крови. Надо было пересилить свое отвращение, лечь с паном Скальским в постель и получить за это в награду не заезжие дома, не бесконечные слякотные большаки, не струйку крови, а тысячу саженей плодородной земли, усадьбу на берегу Окены, особняк в Сморгони с серебряными светильниками, с мебелью из карельской березы, паркетом, в него можно было глядеться как в зеркало, с огромными зеркалами, расставленными вдоль стен и забранными в позолоченные рамы, на которых сидели розовощекие ангелы. Подумывала Данута и о том, чтобы вернуться к тетушке Стефании Гжимбовской, вымолить у нее прощение. В самом деле: ей ли, дворянке, дочери офицера, кочевать с безродным евреем по городам и весям черты оседлости, ей ли веселить, как сказала бы тетушка Стефания, сумбурные жидовские свадьбы, ей ли ходить в одном стираном-перестираном, латаном-перелатаном платье, ломать язык, заучивать чужие слова, перенимать чужие обычаи? Ради чего? Ради пылкой любви? Ради безумной страсти, бездны, из которой она выбирается по утрам только для того, чтобы сломя голову снова ринуться в нее вечером. Что-что, а любить Эзра умеет. Он любил ее ненасытно, не зная устали — теперь Данута понимала, что пылкость его усугублялась болезнью, хоть это ей раньше и в голову не приходило! Эзра не щадил ни себя, ни ее, и она была благодарна ему за это изнурение, не представляла себя в объятиях другого — Эзра был для нее богом, которому возносят не молитвы, а ласки.
— Ты — мое небо, коханы. Поцелуй меня, — шептала она.
— Потом… — отмахивался он. — Завтра…
— Нет, нет. Ждать завтра — это ждать смерти. Я хочу, чтобы всегда было сегодня… вечное сегодня…
Вечное сегодня, усмехнулась она про себя и глянула на Эзру. Вечное сегодня, пусть даже залитое кровью.
Свадьба в доме достопочтенного Менделя Пекелиса обессилила их, и Эзра с Данутой решили уйти из местечка не назавтра, а в тот же день, в самую рань, еще до первой петушиной побудки.
Данута завернула в холстину, как творожный сыр, его скрипку, сунула в котомку свой кларнет, сложила нехитрые пожитки — книжки со сценками из жизни испанских грандов и израильских царей, с описаниями небывалых историй, случившихся с Моисеем и Аароном во время их странствия по пустыне в заветный Ханаан, бумажный колпак-корону, белила, воск — при их помощи Эзра изменял свою внешность, — скудную снедь, которую им в дорогу дала сердобольная, с близорукими, коровьими глазами Бейлке; заправила постель, взбила подушки, протерла тряпкой застекленное наполовину окно, увидела за ним хозяйского сына Соломончика, смутилась.
— Он снова слоняется под окнами, — сказала она Эзре.
Соломончик переминался с ноги на ногу и, видно, ждал, когда лицедеи выйдут во двор. На нем было длиннополое теплое пальто, перепоясанное конопляной бечевкой, тяжелая, не по сезону шапка и два странных башмака, казалось, с разных по размеру ног. Соломончик был не по летам рослый и плечистый. Толстые губы замело цыплячьим пушком, норка рта всегда открыта, и оттуда, как ящерица из-под валуна, нет-нет да высовывался мокрый суетливый язык.
— Уезжаете? — тихо спросил он, когда Эзра и Данута появились во дворе.
— Уезжаем, Соломончик, — ответил Эзра.
— А откуда вы знаете мое имя?
— Я все знаю.
— А что вы еще знаете? — прогудел сын Шолома Вайнера.
— Я знаю… я знаю, например, что ты очень любишь… — начал было Эзра. Но Данута перебила его:
— Эзра!
— Люблю подглядывать в окна? Да? — не растерялся Соломончик. — И вы бы подглядывали, если бы вам было скучно, — он высунул язык и тут же, как бы почуяв опасность, спрятал его. — А куда вы уезжаете?
Вид у Соломончика был плутоватый. С первого взгляда трудно было сказать, чего в нем больше — хитрости или непристойного простодушия.
— В Вильно, — неохотно ответил Эзра.
— Если бы не отец, и я бы туда поехал, — как ни в чем не бывало продолжал Соломончик. — Он меня никуда не пускает. Только к меламеду Гершену. Я, говорит он, тоже никуда не ездил, а, слава богу, стал хозяином заезжего дома. И ты, говорит, станешь, когда я умру. Но он умрет не скоро… А мне так хочется…
— Чтоб он умер?
— Нет. Мне хочется куда-нибудь поехать. Ведь это так интересно — спать не в своей постели.
— А в чьей? — не выдержал Эзра.
— Неважно, в чьей… Только не в своей… Когда вы уедете, я заберусь в вашу… лягу и буду, как вы… — Соломончик метнул взгляд в сторону Дануты, — как вы, любить Хайку…
Эзра и Данута застыли.
— Но Хайка требует, чтобы мы поженились. Иначе она и не согласна.
— Господи! — выдохнула Данута.
— Хайка говорит: грех, — продолжал Соломончик.
— А ты что говоришь? — допытывался Эзра. Он вдруг представил, как под рев публики будет изображать этого увальня, этого недоросля где-нибудь на рыночной площади, как будет показывать его ужимки, его причмокиванье языком, а Данута преобразится в Хайку, дочь меламеда Гершена, богобоязненную, перезрелую девицу с бородавкой на носу.
— Разве то, что делают все, грех? — спокойно спросил Соломончик.
— Ишь ты! — Эзра был поражен.
Данута слушала Соломончика, и вдруг против ее воли в сознании снова всплыла мысль о беременности. Ни к чему ей ребенок, ни к чему. Еще, не дай бог, вырастет такой, как этот Соломончик.
Дануте ни с того ни с сего захотелось ударить его, она и ударила бы, если бы не подумала о костеле.
Три года не ходила она на исповедь, и вот в этом глухом местечке, где и костела-то вроде нет, здесь, во дворе заезжего дома, в храме всех бродяг и странников, обители клопов и прелюбодеев, Данутой овладело нестерпимое желание излить душу, ощутить хотя бы на короткий миг радость общения с богом, к чему была приучена с детства и что, казалось, было безвозвратно потеряно.
— Ты куда? — спросил Эзра.
— К костелу.
— Там уйма яблок, — сказал Соломончик. — Но отец говорит: все они трефные.
Костел был деревянный, запорошенный листьями. Он гляделся в быструю норовистую Дубису. Во дворе, как нищенки, чернели голые яблони, на которых присмиревшими послушницами стыли местечковые вороны.
Приземистый, крестьянского вида человек, видно, ризничий, провел Дануту через открытую дверь прямо к исповедальне и, оставив ее одну, удалился.
От исповедальни, от задернутого занавеской окошечка веяло осенней сыростью и тайной.
Данута сама не понимала, зачем сюда пришла — за покаянием, за благословением, за советом? Хотя она нуждалась и в том, и в другом, и в третьем, ей было совершенно безразлично, что скажет ксендз — господи, почему его так долго нет? — просто хотелось других слов, других глаз, другой речи.
Три года Данута не была в костеле. Последний раз слушала мессу в вербное воскресенье, стояла с вербочкой в руке за колонной небогатого сморгоньского храма, смотрела на красавца Спасителя, как робкая девчонка, которая впервые пришла на свидание.
Через открытую дверь из притвора залетали легкие, тронутые мертвящей желтизной листья, устилали пол, ложились на стертые скамьи, и от этого костел казался осенним садом — Данута даже ощущала терпкий запах яблок-паданцев — садом, в котором дышалось необременительно и вольно.
Неземная прохлада костела как бы смыла с лица Дануты усталость, разгладила морщинки, наполнила душу какой-то готовой пролиться слезами смутой. Данута и не заметила, как большая слеза скатилась по ее щеке и упала наземь, словно листок. На миг ей почудилось, что она услышала звук падающей слезы — так тихо было вокруг, так отчетливо и обостренно воспринимались звуки.
Ксендза все не было, и когда Данута уже почти разуверилась, что ей удастся облегчить исповедью наболевшую душу, он появился: старенький, в поношенной, слишком широкой для него сутане, которую он поддерживал пухлыми белыми руками, как будто ступал не по полу, а по воде.
Ксендз окинул ее взглядом с ног до головы, юркнул в исповедальню, сел на скамеечку, отдышался и сказал:
— Слушаю тебя, дочь моя.
Данута растерялась, не зная, с чего начать — с отца ли, который бросил мать, с матери ли, изменявшей отцу, с тетушки ли Стефании, которая попрекала ее, сироту, каждым куском хлеба, с пана ли Чеслава Скальского, помещика и отставного офицера, который, когда она засыпала, приходил в ее комнату и похотливо тыкал стеком в ее молодое упругое тело. А может, сразу перейти к Эзре, к его-ее ребенку?
Исповедник сопел носом, и Дануту вдруг развеселила мысль, что святой отец уснул. Она прислушалась, приникла ухом к крохотному окошечку, к ситцевой занавесочке, стараясь укрепиться в своей догадке.
— Вы не спите, святой отец? — спросила она, поражаясь собственной наглости.
— Как можно, дочь моя! — возмутился священник. — Я слушаю тебя.
— Грешна я, отец мой, — процедила Данута и вдруг осеклась, раздумала рассказывать ему о своей жизни, бестолковой, суетливой, состоящей из сплошного то упоительного, то угарного греха. Чем он, этот тихий и недолговечный, как листопад, старец может помочь ей? Чем? Скажет: «Прочти три раза «Славься, Мария» или что-то в этом роде. А ей, ей нужен ответ. Но ответа ни у кого нет — ни у бога, ни у дьявола.
Данута замолчала, прикусила губу, уставилась на изображение Спасителя, потом на ангелов, похожих на чисто вымытых, хорошо откормленных поросят, потом на своды, под которыми чернели аккуратные ласточкины гнезда. Эти гнезда настолько захватили ее, что она, вместо того чтобы начать свою исповедь, спросила:
— У вас что, ласточки в костеле летают?
— Летают, дочь моя, — сказал ксендз.
— Как интересно, — она не скрывала своего восхищения.
— Не отвлекайся, дочь моя, — остудил ее восторг исповедник.
Он, видно, страдал астмой, беспрестанно сопел, и Данута устыдилась своей легкомысленности. Нашла о чем спрашивать — о ласточках. Пастыря надо спрашивать о том, как жить.
— Мой муж — еврей, — выпалила Данута, решив начать с главного. — Мы не венчанные.
— То, что не венчаны, это нехорошо, дочь моя, а то, что твой муж еврей, так и Христос был евреем.
— Христос был евреем, а Эзра им остался.
— Любишь его?
— Христа?
— Эзру.
Странно было слышать от него имя Эзры, но он произнес его внятно, без всякой брезгливости.
— Люблю… И его, и Христа… Только — господи, не покарай меня за кощунство — Эзру больше.
— Любить, дочь моя, надо всех поровну.
Слова старца приободрили ее, и она понеслась вскачь по городам и годам, принялась рассказывать о своих родителях, о слепом пане Скальском, до сих пор омрачающем ее сны, о том, как она ушла от него к Эзре, бродяге, скомороху, который и ее превратил в скиталицу.
Дыхание ксендза за ситцевой занавеской участилось, сделалось жарче и громче.
— Ты ждешь от него ребенка? — прохрипел ксендз.
Вопрос его застал Дануту врасплох. Чего-чего, а такой каверзы она от него не ждала.
— Нет, — сказала Данута. — Нет.
Вместо желанного облегчения от своей торопливо, по-детски искренней исповеди Данута вдруг испытала какое-то чувство щемящей, умноженной ложью, вины. Ей захотелось тут же от нее освободиться, чтобы она, эта вина, не угнетала и без того угнетенную душу.
— Он меня с ребенком бросит, — пожаловалась она на Эзру.
— Кто же тебе дороже? — спросил ксендз.
— Он.
— Он — ребенок или он — муж?
Она не ответила. Только почувствовала, как ее начинает бить озноб, то ли от прохлады — на дворе все-таки стоял сентябрь, — то ли от ее чрезмерной, губительной доверчивости.
— Молись, дочь моя! И уповай на бога, — напутствовал ее ксендз.
Он вышел из исповедальни и засеменил по листьям, устилавшим пол костела.
— Молись! — выдохнул он.
Ксендз шел медленно, чувствуя за собой дыхание Дануты, которая в ту минуту, наверно, была для него не грешницей, даже не женщиной, а тенью оголившейся яблони, падавшей на его сутулые, ссохшиеся плечи, не привыкшие ни к какой земной ноше.
В заезжий дом Шолома Вайнера Данута вернулась притихшая и просветленная, как будто приняла важное, почти роковое решение. Может, она и в самом деле прикоснулась к року сердцем, и сердце — как ни странно! — от этого прикосновения не лопнуло, не окаменело.
Эзры ни в доме, ни во дворе не было, и Данута всполошилась.
— Не видели моего? — осведомилась она у Шолома Вайнера.
Шолом Вайнер выпучил глаза и, прежде чем ответить, взглядом как рукой обшарил низ ее живота, холмики грудей, бойко выпиравших из-под платья, зарылся в копну ее рыжих густых волос.
— Реб Шнеер его увел, — сказал он, замурлыкав, как кошка при виде рыбы, выпрыгнувшей из ведерка.
— Шнеер?
— Наш кантор, — объяснил Шолом, все еще безнаказанно шныряя взглядом по ее сдобе. — Вон его обитель, — и хозяин заезжего дома провел по воздуху короткопалой, как рубанок, рукой, показывая на местечковую каланчу. — Только знаете, он у нас с тараканчиком в голове.
У Дануты не было привычки ходить следом за Эзрой. Она могла дожидаться его часами, перебирая и плетя, как косы, свои воспоминания или сидя за столом в каком-нибудь заезжем доме и гадая на замусоленных картах под вороний грай на червового короля.
Но сейчас его уход вызвал у нее какое-то смутное раздражение. Только поманили, и пошел. Больше нечего им здесь делать, хоть Мендель Пекелис, расщедрившись, и заплатил им столько, сколько не платят целой ватаге бродячих музыкантов. Пора убираться, пока не замело, не завьюжило, пока на дворе светлое, желтое, как костельная лампада, бабье лето. Пора! Не скоро доберутся они до Вильно, даже если им повезет и какой-нибудь крестьянин посадит их в телегу. А ведь до Вильно надо еще и в Бабты заехать, к колченогой Гите за зимней одеждой — ее, Дануты, кожушком и его, Эзры, сермягой (не таскать же это за собой круглый год!)
Возьмут у Гиты одежду и прямиком в литовский Иерусалим. В Вильно уйма докторов. Может, там Эзре помогут. За деньгами дело не станет. Шахна — пиковый король — даст, он человек богатый, служит в какой-то канцелярии. Это на бубнового короля — Гирша — рассчитывать нечего. Подумать только — в самого генерал-губернатора стрелял!
Данута вдруг вспомнила, как они с Эзрой на прошлой неделе гостили в Мишкине, как спали на чердаке, где ослепший голубь летал из угла в угол и садился на Цертину кровать, в которой они млели от любви. Голубь ворковал у изножья, и у них не было сил прогнать его.
Данута дошла до каланчи, над которой о чем-то сплетничали сороки. Они кружились в воздухе, как рассыпанная колода карт.
— Я слышал, как ты пел, — сказал кантор Шнеер и поставил на щербатый стол две кружки парного молока. — Пей.
Сухопарый, костистый, с седыми пейсами, как бы стекавшими серебристым ручейком в густой малинник бороды, лобастый, с мохнатыми тучками бровей, он смотрел на Эзру с каким-то восторженным сожалением.
— Пей, — повторил он, сам не притрагиваясь к своей кружке.
За окном, как маятник, мелькала Данута.
— Пей, голос купается в парном молоке, как усталый воин в струях Иордана.
Кантор Шнеер говорил витиевато, мудрено, помогая себе указательным пальцем, которым словно загребал в воздухе, и речь его, изысканная, цветистая, не вязалась ни с его внешним видом, ни с его повадками.
— Голос надо купать в парном молоке каждый день, — продолжал Шнеер. — А ты небось в вине его купаешь?
— Случается, — признался Эзра и отпил из кружки.
— Вино — радость, — сказал кантор. — Но когда радость начинается в чреве, она кончается в нужнике. Пей!
Эзра слушал его, отпивая маленькими глоточками, нежа свою измученную гортань и совершенно не понимая, зачем реб Шнеер позвал его к себе, зачем заманил в эту просторную и пустую комнату, где текут молочные реки в кисельных берегах.
— Слушал я тебя на свадьбе у Пекелиса и думал: вот из кого может выйти великий кантор. Да, да! — затараторил ом, хотя Эзра ему и возразить не успел. — Но для этого негоже драть глотку где попало и для кого попало. Петь надо только для одного человека.
— Для кого? — поглядывая в окно на вышагивающую Дануту, спросил Эзра.
— Для бога, — неожиданно ответил Шнеер.
— Но разве бог — человек?
— Человек, — не смущаясь, пробормотал кантор. — Единственный и настоящий.
— А мы?
— Мы? Мы — домашние животные: коровы, козы, собаки. Сидим в конуре, звякаем цепями, жуем в стойлах сено и радуемся, когда нас одарят лишней охапкой. Мендель Пекелис сколько сена тебе подбросил?
— Мендель Пекелис заплатил мне овсом.
— Ты парень — не промах, — рассмеялся Шнеер, и легкий ветерок восхищения взъерошил тучку его мохнатых бровей. Только сейчас Эзра заметил, сколько у него морщин — на лбу, на скулах, на высохших руках, — он словно весь был обнесен реденьким частоколом.
— У меня есть к тебе предложение, — сказал Шнеер.
— Но вы же совсем меня не знаете, — промолвил Эзра и снова глянул в окно, за которым под желтым ливнем расхаживала Данута.
— А что я должен о тебе знать? Мы все равно друг о друге ничего не знаем, кроме того, что родились и, когда придет наш час, умрем. Разве ты можешь к этому что-нибудь добавить?
— Нет, — сказал Эзра.
— Я — кантор, — теперь и Шнеер отпил из своей кружки. — Я должен слышать, а не знать. У тебя не голос, а ветвь саронского винограда, которую подтачивают черви. Я берусь их вывести, и все синагоги Литвы и Польши будут наперебой приглашать тебя и платить не овсом, а чистым золотом.
— Поздно, реб Шнеер.
— Что значит поздно? Я в молодости тоже харкал кровью, а вот же дожил до глубокой старости. Я в молодости тоже волочился за христианками, а ведь вот — остался евреем. Почему? Потому, что не базарные песенки распевал, а молитвы. Молитвы лечат, как парное молоко, поверь мне.
— Да, но я же не один.
— Что значит — не один?
— Ни в одной синагоге Литвы и Польши не станут слушать меня, узнав, что я… ну, что она — полька… — сказал Эзра и снова глянул в окно.
Данута перебрасывала котомку из одной руки в другую и делала ему какие-то знаки губами: мол, кончай, сколько можно разговаривать. Эзру уже самого тяготило краснобайство Шнеера. Он все равно не бросит свои скитания, не предпочтет сытую оседлость своим голодным странствиям, не будет распевать молитвы. Толпе нужны не молитвы. Толпе нужны грубые и ясные слова. Его, Эзру, манят площади, трактиры, он любит будоражить народ, науськивать, подстрекать против гонителей и лихоимцев. Эзра мечтает не обо всех синагогах Литвы и Польши, а о своем театре с крышей и сценой, с актерами и зрителями, с хлопками и криками восторга. Однажды он был в таком театре в Вильно. Он попросился бы туда, но кто его с таким акцентом примет? А еврейских театров нигде нет — ни в Варшаве, ни в Петербурге, ни в Киеве. Играют по-русски, по-немецки, по-фински, но только не по-еврейски. Запрещено! Хорошо еще, по-еврейски можно молиться. Молиться и проклинать.
— У меня тоже была жена, да будет ей хоть в раю сладко.
Шнеер зашагал по комнате, подошел к окну, протер стекла, чтобы получше разглядеть Дануту.
— А ты… ты что — не мог найти другую?
— Не мог, — отрезал Эзра. — Что по сравнению с ней все синагоги Литвы, и Польши, и всей Бессарабии в придачу?
— Позови ее, — великодушно произнес кантор. — В писании сказано: приюти чужестранца, открой дверь рабу и невольнику.
— Не надо ее звать, — твердо сказал Эзра. — Усталый воин не будет купаться в струях Иордана.
— А куда тебе торопиться?
— В Вильно брат умирает.
— Брат есть брат. Но ты еще раз подумай. Я научил бы тебя всем молитвам: и «Шима Исроэль» — «Внемли, Израиль!», и «Колнидрей». Ты только послушай!
И Шнеер вдруг высокой пронзительной нотой рассек воздух. Молитва затрепетала, взмыла под потолок, пронзила крышу и, видно, долетела до божьего чертога.
— Ну! — подзадорил кантор Эзру. — Давай вместе! Сейчас мы с тобой оторвемся от земли и перенесемся туда, на небо… и наш господь сотворит чудо — наполнит твои легкие воздухом, которого хватит на сто лет!
Сказав это, кантор снова затянул молитву.
Эзра диву давался: какой у Шнеера еще сильный и красивый голос. Он крепчал с каждым стихом, с каждым словом, с каждой буквой молитвы, пережившей гонения фараонов и амалекитян и звучавшей, может быть, еще в плаче на реках вавилонских; голос молодел и укорял Эзру, и Эзра не выдержал. Поддавшись какому-то колдовству, он против воли, сперва робко, потом смелей и смелей втянулся в это негаданное просветленное безумие: а вдруг господь и впрямь явит чудо, наполнит его легкие неземным делительным воздухом на сто, ну пусть не на сто, пусть еще на десять лет, и оттого, что Эзра не сплоховал, что у него из горла ничего, кроме чистых, завораживающих, подобно сну, звуков не исторглось, его охватило необъяснимое, давно забытое волнение. Ему почудилось, будто этот прорыв к детству, эта горячая и искренняя жалоба были предопределены свыше для того, чтобы он мог оплакать себя, бродягу и скитальца: своего отца, каменотеса и ваятеля Эфраима, который, видно, давно уже соорудил ему в душе могильный памятник; своего брата Гирша, на шее которого не сегодня-завтра палач затянет смертельную петлю; Дануту, которую он, Эзра, вырвал из родного гнезда и бросил в морось, вьюгу, листопад.
Наконец молитва изнурила Шнеера, и он подавленно-величаво замолк, озираясь по сторонам и теперь уже сам поглядывая в окно: не собрались ли зеваки? Ведь не каждый день происходит такое в местечке, где вообще ничего не происходит; ведь не каждый день глухонемая, униженная горестями душа обретает дар речи, отнятый у нее серыми, как старость, буднями.
— Спасибо, — сказал Эзра. — За молоко. За молитву. За то, что предложили остаться. Но кантором мне уже не быть. Я слишком грешен, чтобы петь во славу небес.
— А чем тебе платит земля? Овсом или кровью? — рассердился кантор и испугался собственных слов. Желая как-то смягчить их, он добавил: — Ты можешь спросить: «А чем мне заплатило небо? Чем? Отняло жену, не дало детей!» Это правда. Но ты запомни: вера выше правды. Как солнце выше печной трубы, забитой сажей. Вера светит, правда дымит.
В окне мелькнула тень Дануты.
Эзра встрепенулся, засуетился.
Заторопился и Шнеер. Видно, понял, что Эзру не уговорить.
— Я дам тебе адрес, — сказал он, допив свое молоко. — В Вильно живет мой родственник.
— Кантор?
— Доктор Гаркави. Брат покойной жены. Сходи к нему и покажи свои легкие. Скажешь: Ипудкин тебя прислал.
— Ипудкин?
— Это я. Денег он у тебя не возьмет.
— Спасибо.
— Запомни: Трокская, одиннадцать. Самуил Гаркави.
Шнеер Ипудкин (наградил же бог фамилией!) еще долго стоял у окна, пытаясь разглядеть не то Эзру с Данутой, не то Трокскую улицу, не то своего знаменитого родственника Самуила Гаркави, которого он ни разу в глаза не видывал, но о котором столько слышал и к которому великодушно посылал всех больных из этой сумеречной жемайтийской глухомани, где люди, если и лечатся, то только травами и молитвами.
Большак с выбоинами и рытвинами тянулся до самого горизонта.
Данута семенила впереди, а чуть сзади, втянув голову в плечи, шагал Эзра. Они уходили из этого сонного местечка, как и пришли: налегке, с пустыми карманами и ощущением неминуемой, упрямо преследовавшей их беды.
Эзра то и дело оглядывался — казалось, прыткая струйка крови, выползшая из дома достопочтенного Менделя Пекелиса, догонит их, и тогда прощай, Вильно, прощай, бурый таежный медведь!
Обычно переход из одного местечка в другое длился день, а то и меньше (местечки жались друг к другу, как горошины в стручке), но для Эзры и Дануты, голодных, вольных, бездомных, время не имело значения, они как бы не замечали его — разучивали в дороге разные сценки и куплеты, изображали богачей (таких, как скототорговец Мендель и Пекелис) или хозяев постоялых дворов (таких, как Шолом Вайнер), сварливых наложниц и мстительных любовников, томных еврейских барышень и спесивых польских графинь. Порой они из настоящего переносились в далекое прошлое, и тогда Данута превращалась в Юдифь, а Эзра — в Олоферна или в Амана.
— Нет ли у вас, хозяюшка, чего-нибудь на ужин. Жаркого, например? — спросил Эзра, затеяв с Данутой игру в «голодного путника и дебелую корчмарку».
— Лучше скажи, чего от тебя кантор хотел? Небось подговаривал бросить меня, — ответила Данута, отказываясь входить в образ.
— Не найдется ли у вас, хозяюшка, куска рыбы? — не унимался Эзра.
— Все твои сородичи только и делают, что науськивают тебя на меня… Я для них гонка… иноверка… Отец твой на меня волком смотрит… — сказала она.
— Отвечай: нет у меня ни жаркого, ни рыбы; все купцы приезжие съели!
— Женился бы на еврейке и горя бы не знал; готовила бы тебе жаркое, варила бы каждую субботу рыбу-фиш.
— А масла у тебя, хозяюшка, не найдется? — гнул свое «голодный путник».
— Хватит валять дурака!
Господи! Что это сегодня с ней? Раньше первая бросалась в водоворот игры, придумывала всякие ужимки, жесты, слова, поражая Эзру своей переимчивостью и необузданным воображением.
— А сметаны, хозяюшка?






