Козлёнок за два гроша Канович Григорий
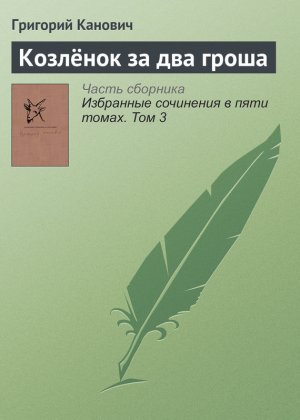
— Лей, — сказал Авнер, когда водовоз вернулся.
— Куда? — опешил Шмуле-Сендер.
Шмуле-Сендер плеснул ему воды на голову, на грудь…
— Еще, — попросил Авнер. — Лей, лей, — отрешенно повторял он. — Я всегда хотел умереть в дождь…
Вода просачивалась сквозь настил и капала с телеги на землю.
Было так тихо, что Шмуле-Сендеру казалось, будто капли попискивают, как птенцы.
— Я родился в дождь, — тихо сказал Авнер. — Мой отец Аба говорил: «Счастлив тот, кто приходит на свет в дождь. Бог с того смывает все грехи и пороки!»
— Ну! — неизвестно чему обрадовался Шмуле-Сендер.
— Теперь я, Шмуле-Сендер, знаю: никакого дождя в тот день не было.
— Был дождь… был… — ринулся в спор водовоз.
— Не было, — настаивал Авнер. — Ничего не было. И писем от твоего Берла не было.
— Что? — застыл Шмуле-Сендер.
— И Эфраимовых детей не было — ни Гирша, ни Эзры, ни Шахны… Как и не было дождя в тот день, когда я пришел на свет… В жизни все придумано. Кроме смерти.
Авнер вдруг подмигнул Шмуле-Сендеру, и от этого непроизвольного подмигивания водовозу стало куда страшней, чем от его слов. То ли от обиды, то ли от бессилия Шмуле-Сендеру вдруг захотелось заорать во всю глотку, что все было: и дождь, и письма, и молодость, и корица, и свадебный перепляс, но что-то — скорее всего, жалость — удерживало его.
Авнер лежал мокрый; капли воды сверкали в его бороде, как роса в отаве, и весь он — несмотря на хворь — был какой-то помолодевший, праздничный. Казалось, он постиг небывалую тайну, недоступную ни Шмуле-Сендеру, ни старику Эфраиму, привязанным собачьей цепью к конуре-жизни, к ее заботам и нуждам.
Лошадь подняла нечесаный хвост и стала испражняться, и запах ее помета, теплый, домовитый, поплыл над телегой, и от его непридуманности у Шмуле-Сендера полегчало на сердце.
Было, все было! Единственное, чего не было, так это счастья. Ну и что? Можно жить и без счастья! Без счастья даже лучше — нечего терять, не над чем дрожать, не с чем в смертный час расставаться.
Он отвязал гнедую, взял ее под уздцы и, как саму жизнь, повел к лесному ручью на водопой.
Все придумано, все, кроме писем белого Берла, уговаривал он себя и лошадь, увязая чужими штиблетами в вязкой весенней глине. Пока оттуда, из-за моря-океана, идут письма, никакой смерти нет.
За спиной у Шмуле-Сендера затрещали ветки.
— Ты? — уставился он на Эфраима.
— Как там Авнер?
— Худо ему, худо… — сообщил водовоз. — Боюсь, до Вильно не дотянет.
Старик Эфраим нагнулся и стал рядом с лошадью мыть тяжелые руки.
— Что-нибудь заработал? — спросил Шмуле-Сендер.
— Заработал, — неопределенно протянул старик Эфраим. — Только как Авнер Розенталь.
— Ты попросил милостыню?
Эфраим сидел на корточках, погрузив руки в прохладную струю и чувствуя, как в огрубелые ладони, точно в коряги, торкаются прыткие и пытливые мальки.
— Когда просишь не для себя, а для других, не страшно, — пробормотал Эфраим.
Старик Эфраим не спешил вытаскивать из воды руки, он поддакивал Шмуле-Сендеру не потому, что желал погибели Авнеру, а потому, что не хотел вставать, пока не отмоет попросившие милостыню руки.
— Почему за смерть и за роды надо платить? — возмущался Шмуле-Сендер. — Принимать новорожденного и хоронить мертвого должны даром!
Старик Эфраим вытащил наконец руки из воды, но вытирать не стал, а держал на весу, как будто боялся причинить им боль.
— Авнер еще, даст бог, обдурит костлявую!
Сознание того, что он бессилен Авнеру помочь, повергло Эфраима в состояние отупляющей, бездеятельной тоски.
Когда они вернулись к телеге, солнца уже не было; небо заволокло мелкой облачной рванью; накрапывал дождик, расхаживавший по опушке, как аист, — неторопливо и бесшумно.
По тому, как лошадь повела ноздрями, как она заартачилась, отказываясь подходить к телеге, Шмуле-Сендер решил: Авнер получил от бога последнюю милостыню.
Но нищий еще жил.
Маленькая, неспелая тыковка его головы была вся в каплях, как в испарине. Может, он и впрямь потел. Время от времени Авнер что-то стирал рукой с крутого, с залысинами лба, и это движение было единственным, изобличавшим в нем живого человека.
— Эфраим, — слабым голосом позвал нищий.
— Я.
Авнер не видел его, но ему было достаточно голоса Эфраима.
— Конец, — просто, как будто речь шла не о жизни, а о каком-то долгом и утомительном торге, сказал Авнер. Он снова провел рукой по морщинам на лбу, что-то вспомнил и, облизывая с губ капли усилившегося дождя, прошамкал:
— Я обещал тебе постучаться в любую дверь, но все двери открыты, Эфраим.
— Что? — вставил Шмуле-Сендер.
— Все двери открыты, — повторил Авнер. — Но за ними никого нет. НИКОГО. Даже кошки… Даже блохи. Мертвого блохи не кусают…
— Только глупостей не делай… пока я в лавку сбегаю… Куплю хлеба, селедки, сыра…
— Пусть наши враги помирают! — вмешался Шмуле-Сендер и, устыдившись, добавил: — Ладно. Пусть и враги живут.
Авнер перестал тереть лоб, словно ему наконец удалось соскрести постыдное, мучившее его всю жизнь клеймо.
Эфраим взял под уздцы лошадь, подвел ее к телеге, взобрался на заляпанное глиной колесо и, как бы примериваясь к стремени, закинул ногу.
— Господи! — взмолился Шмуле-Сендер. — Конец света! Слезай! Слышишь, слезай! В твои ли годы верхом скакать? И потом — зачем мертвому хлеб и селедка? Зачем?
Шмуле-Сендер боязливо глянул на телегу, как бы прося у Авнера прощения. У живого ли, у мертвого ли — неважно, но нищий не возражал.
Дождь падал на его маленькую неспелую тыковку, которой, как показалось Шмуле-Сендеру, уже больше не суждено родить ни одного семечка мысли.
— Я поскакал! — крикнул Эфраим и, отчаявшись оседлать гнедую, побрел пешком.
— Куда ты? Куда ты? — завопил Шмуле-Сендер, обращаясь неизвестно к кому — то ли к Авнеру, то ли к старику Эфраиму.
Они похоронили его в тот же вечер.
Эфраим самолично вырыл яму. Он не позволил погребальной братии даже прикоснуться к лопате.
Шмуле-Сендер стоял в сторонке и вытирал глаза.
— Если смерть — участь всех, — шептал он, — если все кончается в могиле, зачем вообще быть человеком?
Ужас исказил его лицо, когда старик Эфраим, склонившись над могилой, бросил в яму горсть изюма и горсть корицы.
В могиле, как в бакалейной лавке, запахло колониальными товарами.
Господи, господи, повторял сквозь слезы Шмуле-Сендер, посади его в раю за стол с праведниками и накорми досыта и хлебом, и селедкой, и напои его квасом или вином, сними с него лохмотья и надень на него парчовый кафтан и уложи его в постель без блох, и пусть твои ангелы сторожат его сон до утра, которое не наступает без твоей воли!
Эфраим не плакал. Он усердно охлопывал лопатой желтый песок и думал.
Пройдут годы, может, столетия, и из этого изюма и из этой корицы прорастут кусты винограда и коричное дерево.
Коричное дерево — Авнер Розенталь.
Оно, думал под загробный шелест песка Эфраим, поднимется среди этих старых языческих сосен, среди этих замшелых надгробий, и никаким топором сто не вырубишь, никакими молниями не испепелишь, потому что выросло оно не из земли, а из человеческого сердца, удобренного горестями и страданиями.
Без смерти, думал Эфраим, нет памяти. Но память сильней смерти, ибо смерть торжествует мгновенье, а память — вечно!
Прощай, Авнер Розенталь — нищий, здравствуй, Авнер Розенталь — богач!
IV
Присяжный поверенный Михаил Давыдович Эльяшев частенько ездил в 14-й номер — Виленскую политическую тюрьму — один или со своим помощником, записывавшим его беседы с подзащитными, но с братом арестанта, к тому же служащим в жандармском управлении, он направлялся сюда впервые.
Семен Ефремович терялся в догадках, что же побудило Эльяшева взять к защите дело Гирша, но ничего путного придумать не мог. Поди влезь в хитроумную голову Михаила Давыдовича!
— Надо беречь евреев, — отшучивался Эльяшев. — Нельзя допустить, чтобы из-за царапины на ноженьке его высокопревосходительства генерал-губернатора вашего брата вздернули на виселицу.
Как и все судейские, Михаил Давыдович имел склонность к краснобайству. Говорение доставляло ему ни с чем не сравнимое удовольствие, близкое к тому, какое испытывает от вина алкоголик. Только в отличие от алкоголика Эльяшев никогда не напивался словами, все время тянулся к новым, а когда их не находил, прибегал к высокородной, благозвучной латыни, поражая собеседника не только своей ученостью, но и некой недоступностью, долженствующей засвидетельствовать его исключительность.
Он был одет не по погоде — в клетчатое, свободного покроя пальто, сшитое из отменного английского сукна; на нем было пушистое, несколько легкомысленное кашне и мягкая фетровая шляпа, придававшая ему сходство с каким-нибудь романтическим героем, способным покорять самые черствые сердца.
— Нет свободы для всех, — запальчиво говорил он, косясь на извозчика, заученно нахлестывавшего конягу и мурлыкающего под нос какую-то польскую песенку. — В самой свободной державе всегда будет хоть одна тюрьма. Это только кажется, дорогой, что миром правят какие-то идеи. Вздор!.. Нонсенс! Им правят кишки! Потроха! Все кишки одной идеей не набьешь. У кого-нибудь она все равно вызовет рвоту. Вас рвет от моей идеи, меня — от его, — Михаил Давыдович ткнул пальцем в спину извозчика, — его — от нашей, и так пребудет до скончания века. Вы, конечно, вправе меня спросить, к чему я это говорю? Я это, дорогой, говорю к тому, что ваш Гирш, если он, конечно, хочет выйти сухим из воды, должен принять мои правила игры.
Эльяшев снял свои толстые, в роговой оправе очки, протер стекла и принялся близоруко глядеть по сторонам с таким вниманием, словно впервые попал в Вильно.
— Вряд ли мой брат откажется от своих убеждений, — печально сказал Семен Ефремович, прислушиваясь к незнакомой песне.
— Вы забываете, в какой стране мы живем, — искренне возмутился Михаил Давыдович. Без очков он был похож на откормленного хомяка.
— Разве убеждения зависят от страны обитания?
— Зависят! Еще как зависят! Франция, например, славится своей терпимостью… Германия — своей прусской разборчивостью… Но дело даже не в этом. Дело в том, что убеждения, если угодно, та же игра. У этой лошади, — Эльяшев наклонил вперед голову, — тоже есть убеждения. Тем не менее не она указывает кучеру, куда ехать… За долгие годы жизни я убедился в одной непреложной истине.
Семен Ефремович, видно, не проявил к его истине должного интереса, и Михаил Давыдович с нескрываемой обидой бросил:
— Почему вы не спрашиваете, в какой?
— В какой? — сдался Шахна.
— Стоит ли разрывать цепи на себе, чтобы тут же сковать ими других?
Слова Эльяшева казались какими-то книжными, ненастоящими, не имевшими к Гиршу никакого отношения. Настоящей была только песня извозчика, заунывная, с печальным, коротким, как вздох, припевом. Она правила кучером, который изредка сопровождал свое пенье щелканьем кнута и фельдмаршальским выкриком:
— Но! Холера ясна!
— Да, да, чтобы сковать других!.. Ведь ваш брат только к этому и стремился. Дай ему власть, и он из преследуемого превратится в преследователя, из гонимого в гонителя, из узника в тюремщика.
Семена Ефремовича уже злила проповедническая наставительность Эльяшева. Он, конечно, опытен и хитер. Но Гирша такими штучками не возьмешь. Латыни Гирш не знает. Во Франции не бывал. За свои убеждения готов и на костер, и на плаху.
— Гирш как-то сказал, что кто-то из нас должен быть первым евреем, не сгибающим спины, — пытался охладить пыл Михаила Давыдовича Шахна.
— И вы с ним согласны?
Семен Ефремович задумался. Песня мешала сосредоточиться, в голову упрямо лез припев, уводил куда-то с этих виленских улиц на привислянские луга, к стогам свежескошенного сена, к красивым польским молодкам, напоминающим обольстительную продавщицу из лавки Рытмана.
— Согласен! — выпалил он.
— Напрасно! Совершенно напрасно! Евреем, не сгибающим спины? Где? Здесь? В Российской империи?
— Да!
— Возблагодарим всевышнего, что нас здесь терпят с согнутыми спинами! Геройствовать можно у себя дома!
— А разве Россия — не наш дом?
— Не надо путать, дорогой, дом с приютом.
— Н-но! Холера ясна! — громче обычного вскрикнул извозчик.
— Будь я на месте государя, — быстро заговорил Эльяшев, — я бы давно все решил.
— Что?
— Открыл бы ворота и сказал: «Убирайтесь!» Не по душе вам моя держава, выбирайте себе другую. Хоть Америку, хоть Палестину! Но уж если вы выберете мою, то извольте слушаться, как все верноподданные, не стрелять в моих генерал-губернаторов, не терзать моих вельмож, не попрекать их пустяками, не поднимать гвалт из-за каждой царапины или ранки. От отеческого битья дырок не бывает!..
Михаил Давыдович продолжал жить в мире слов, он правил ими, как царь-самодержец; слова были его безропотными подданными, в верности которых он не сомневался; они трудились с утра до вечера без передышки, сбегались по первому его зову, как солдаты, готовые жертвовать собой ради его выгоды и блага.
Шахна слушал его и думал: как он с такими мыслями может защищать своих подопечных? На чьей же он, в конце концов, стороне? Суда или подсудимых? Закона или беззакония? Свободы или рабства? Но Эльяшев, видно, не морочил себе голову такими семинаристскими вопросами. На каждый случай у него был свой набор доказательств, свои тщательно продуманные доводы.
Семен Ефремович понимал, что господину присяжному поверенному предстоит тяжелейшая борьба, в которой его шансы на успех мизерны, если успехом считать не освобождение, а десять лет каторги. Желая чем-то помочь Михаилу Давыдовичу в его многотрудном деле, Шахна ненавязчиво, как бы вскользь, сказал:
— В Вильно приезжает отец.
— Чей отец?
Эльяшев не любил, когда с ним разговаривали намеками, не терпел туманных, обрубленных фраз, сам предпочитал выражаться ясно и недвусмысленно.
— Мой… И Гирша…
— Кстати… Очень кстати, — пропел Михаил Давыдович.
В его хитроумной голове созрел какой-то план, и он тут же поспешил поделиться им с Семеном Ефремовичем:
— Думаю, ему, отцу жандарма, вполне могут разрешить свидание с арестованным…
Эльяшев запнулся, но быстро нашел выход из положения:
— Вы уж на меня не обижайтесь. Говорю что думаю. Хотя, если честно признаться, мне одинаково отвратительны и революционеры, и жандармы.
— Но я, господин Эльяшев, не жандарм.
Семен Ефремович произнес это тихо и твердо, так, чтобы этот говорун, этот великодушный пройдоха не смел прекословить. Не ему, кормящемуся в прихожей у произвола и беззакония, судить, кто жандарм и кто ниспровергатель устоев.
— Н-но! Холера ясна! — понукал свою лошадь извозчик.
— Не обижайтесь, — пробормотал Михаил Давыдович. — Ради спасения человека я готов заключить союз даже с дьяволом.
Ради спасения человека? Нет, нет, подумал Шахна. Эльяшев согласился защищать Гирша не столько ради его спасения, сколько ради своего имени. Чем бы суд ни кончился, Михаил Давыдович внакладе не останется. Слава его станет еще громче: «Ах, Эльяшев! Тот самый Эльяшев, который защищает не только этого еврея-детоубийцу Ешуа Манделя, но и головореза Дудака!» А если он к тому же выиграет суд, к нему со всей России потянутся толпы обиженных. Чего-чего, а обиженных, жаждущих справедливости всегда больше, чем самой справедливости!
— Приехали! — объявил извозчик.
Эльяшев и Шахна поднялись на второй этаж тюрьмы и зашагали по длинному, плохо освещенному коридору с множеством одинаковых, окованных железом дверей.
Митрич узнал Семена Ефремовича, плутовато подмигнул ему и радушно сказал:
— Милости просим.
На первый взгляд в камере Гирша ничего не изменилось: тускло светилось забранное в решетку окно, серела арестантская койка с вывороченным матрасом, набитым прелой соломой, стояла прикрытая рогожей тлетворная параша.
И все же камера чем-то отличалась от той, прежней, в которой Семен Ефремович провел две страшные, две незабываемые ночи. Шахна и сам не мог понять, в чем состоит это отличие, но он чувствовал его своим взбудораженным нутром, радуясь тому, что больше — он почему-то был в этом уверен — с ним этот ужас не повторится. Теперь он был не соузник, а брат, даже гость, которого не запрут на засов (по первому же его требованию выпустят отсюда) и на которого силком не напялят арестантскую куртку.
Новизну камере придавало не только это новое ощущение, но и невесть откуда залетевшая сюда бабочка, которая то садилась на железный переплет окна, то взмывала вверх и, расправив крылышки, вольно кружилась в тюремном поднебесье.
Гирш с развороченной, незастеленной койки следил за гостями и тихо насвистывал.
— Здравствуй, Гирш, — промолвил Семен Ефремович. — Знакомься. Михаил Давыдович Эльяшев, твой защитник.
— Господин Дудак, — с какой-то печальной торжественностью, без всякого вступления начал присяжный поверенный, — следствие по вашему делу подошло к концу и передано в суд. Как вам, наверно, известно, вы предстанете не перед гражданским судом, а перед военным… Надеюсь, разницу вам объяснять не надо.
— Не надо, — послушно ответил Гирш и снова стал насвистывать.
— Скажу только, что если вы не проявите благоразумия, то за последствия я не поручусь.
Михаил Давыдович вынул из кармана носовой платок с вензелем, высморкался, прислушался к свисту.
— Благоразумие и еще раз благоразумие!
— Гирш! — пристыдил брата Семен Ефремович.
— Я слушаю, — пробормотал тот, все еще насвистывая.
Свист, видно, успокаивал, возвращал к другой, беспечальной поре, к другой жизни, где не надо было отвечать ни на какие вопросы, потому что ни деревья, ни птицы, ни текущий мимо местечка Неман их не задавали, а если и задавали, то не требовали ответа; ответом было само его существование, его волосы, его ноги, его глаза.
— Поверьте моему опыту: нет такого положения, из которого нельзя было бы найти выхода, — спокойно и весомо продолжал Михаил Давыдович. — От вас требуется совсем немного… Попросите прощения… Обещайте, например, уехать из России.
— Куда? — спросил Гирш.
— Мало ли куда! — Эльяшев отметил про себя его заинтересованность. — В Америку!.. В Палестину!.. В далекую Австралию. Лучше туда, чем на кладбище. Ваш брат — Семен Ефремович — купит вам шифскарту. Не упорствуйте!
Гирш заливался пуще прежнего.
Семен Ефремович вдруг подумал, что во всем виновата эта бабочка-самоубийца, которая отвлекает Гирша, напоминает, видно, мишкинские рощи и заставляет его то щелкать дроздом, то заливаться соловьем, и принялся выгонять ее.
Он размахивал руками, но бабочка и не собиралась улетать, садилась на стены одиночки, на потолок, на косяк железной двери и, когда Шахна уставал от взмахов, ярко-желтым пятном зависала в воздухе.
— Перестань, — не то к Гиршу, не то к бабочке обратился Семен Ефремович.
— Свистите, господин Дудак, свистите, — промолвил Эльяшев. — На суде у вас такой возможности не будет. Но я хочу знать: вы принимаете мое предложение или нет?
— Я отсюда никуда не уеду… Здесь родился, здесь и умру.
— Похвально, господин Дудак. Но позвольте у вас спросить: что лучше — в двадцать четыре года умереть в России героем или до ста дожить в Австралии сапожником? — сказал Михаил Давыдович и как бы в поисках поддержки глянул на Шахну. — Вы можете считать меня ретроградом… реакционером, но я вам вот что скажу: Россия больше нуждается в сапожниках, чем в героях! Подумайте, пока еще есть время. Или вам позарез хочется стрелять в генерал-губернаторов?
Гирш ничего не ответил.
Дав своему подопечному еще несколько полезных советов, как надо вести себя на суде, Эльяшев попрощался с братьями и в сопровождении ухмыляющегося Митрича вышел в коридор.
— Двух похорон отец не выдержит, — промолвил Семен Ефремович, когда они остались вдвоем.
— Двух похорон? — Гирш перестал свистеть.
— Эзра при смерти…
— Что с ним?
Бабочка села на щербатый стол, и Шахна мог отчетливо разглядеть выспренный рисунок на ее крылышках. Пестрые точки и запятые, смахивающие на древнееврейские письмена, сливались в один таинственный узор.
Неужели она отсюда никуда не вылетит?
— Отец приезжает, — сказал Шахна. — Он, конечно, захочет тебя увидеть.
— А ты ему что-нибудь соври.
— Отец все знает.
— Все?
— Все.
— Тогда он ко мне не придет.
— Почему?
— Сам знаешь.
— Но ты же не убийца… Рана оказалась пустяковой. Пуля прошла только щиколотку. Генерал-губернатор уже приступил к исполнению своих обязанностей.
— Уже приступил?
— В военном госпитале… Бумаги подписывает… посетителей принимает…
— Все равно я убийца, — сказал Гирш. — Я хотел его убить, а не ранить. Убить.
— Ты не должен так говорить. Ни отцу, ни судьям, ни себе. Никому.
— Мне и сейчас его хочется убить, — твердо произнес Гирш.
— Гирш! Брат мой! — у Семена Ефремовича перехватило дыхание; ноздри у него раздулись, он жадно, почти отчаянно задышал. — А меня гложет жажда любви… Хочется всех любить. Всех… и тебя, и его…
— Генерал-губернатора?
— Да… И этого Митрича, не понимающего своего несчастья… Всех, всех… Только боязно: не успею…
— Неужели тебе, Шахна, никогда… никого не хотелось придушить, зарезать…
— Хотелось, — неожиданно ответил тот.
— Вот видишь, — странно обрадовался Гирш.
— Мне хотелось самого себя… — сказал Семен Ефремович. — За то, что такой ничтожный… грешный… алчный…
Он попытался отыскать взглядом бабочку, но той нигде не было видно.
Улетела, подумал он с сожалением.
А может, ее и вовсе не было?
Конечно, не было. Откуда же ей было взяться здесь, в этом пресловутом 14-м номере, в этой неприступной каменной клоаке? Камера смертника не зеленая лужайка, не березовая роща на берегу Немана.
— Во всем, Гирш, виноват не генерал-губернатор. И не царь. А мы, — сказал он, озираясь.
— Мы?
— Пока мы будем во всем винить других, наша вина будет с каждым днем расти… Пора принять ее на себя… за все… за все грехи, собственные и чужие. Это я виноват, что ты здесь.
— Ты?
— Я.
Семен Ефремович снова оглянулся, но, кроме некрашеных стен, параши, покрытой рогожей, и выщербленного земляного пола, ничего не увидел.
— Я не очень любил тебя… там… на свободе…
— Не любил, и ладно.
— Нет, нет… Любить надо живых, а не…
Шахна осекся.
— Мертвых? Так ты хотел сказать?
— Жалеть надо не погибающих, не приговоренных… не сосланных, а тех, кто с тобой рядом… — Семен Ефремович заглатывал слова, то и дело откашливался. — Послушай, — понизил он голос, — только что здесь летала бабочка.
— Тебе померещилось, — промямлил Гирш.
— Нет, нет… Она летала.
Арестант оглядел одиночку и пожал плечами.
— Я видел ее собственными глазами, — горячо возразил Семей Ефремович, как будто его уличили во лжи. — Ты щелкал дроздом, а она порхала… Только не смейся надо мной: двадцать пять лет тому назад я уже видел ее… в березовой роще над Неманом, куда Алоизас телят пригонял… Это была та же бабочка. Клянусь.
— Бабочки живут всего один день. От силы два, — сочувственно произнес Гирш. — Ты, брат, переутомился.
Ржаво щелкнул засов.
— Митрич обед несет, — сказал Гирш.
— Давай его спросим.
— О чем?
— О бабочке.
— Далась тебе эта бабочка. Ну летала, летала!






