Козлёнок за два гроша Канович Григорий
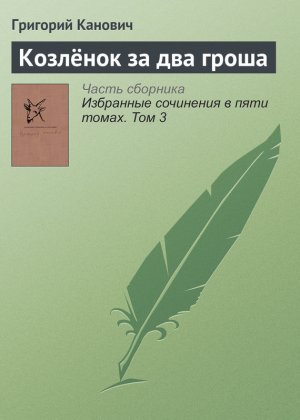
Авнер робко дергал вожжи.
Двадцать шагов… двадцать пять… тридцать… Казалось, опасность миновала.
Но в тот момент, когда им ничего как будто бы не грозило, из мрака, из придорожных кустов выскочил самец, легкий и прыгучий. Он скалил пасть, и белые клыки сверкали в темноте, как зажженные подсвечники.
Гнедая шарахнулась в сторону, понеслась вскачь, Шмуле-Сендер слетел с козел.
— Спасите! — воскликнул он, когда новым толчком его бросило наземь. — Береле! Береле!
Ему казалось, что Береле, его белый счастливый Берл, должен бросить все свои дела, закрыть свою лавку, где он торгует лучшими в мире часами, и примчаться сюда, на этот большак, чтобы спасти его от неминуемой смерти. Но Берл не закрыл своей лавки, не примчался сюда, и Шмуле-Сендеру впервые от этой мысли было больно, куда больней, чем если бы его укусил волк.
Ко всем запахам примешивался запах крови. Видно, лошадь в темноте поранилась о дерево.
Где-то в чаще выла волчица, и ее призыв бередил душу.
Волк прислушался, напрягся, напружинился и бросился в серый проем между деревьями.
— Эфраим, — простонал Шмуле-Сендер, — Лошадь жива? Не ранена?
— Жива твоя лошадь, — ответил Эфраим. — Если бы серый сунулся, я бы ему киркой голову размозжил.
— В писании сказано: не убий! — напомнил Авнер.
— Это сказано про человека… — заступился за Эфраима Шмуле-Сендер, — а не про волка.
— Это сказано про всех, ибо нет крови, которую можно смыть, — сказал Эфраим, — Но иногда убивать приходится. — И после паузы добавил: — Этот волк будет мне сниться.
— Волк сниться? — опешил Шмуле-Сендер. — Волк, который мог растерзать нашу лошадь… нас?..
— Ты ничего не понимаешь, — огорченно промолвил Эфраим.
— А что тут понимать? — Шмуле-Сендер подошел к лошади, которая утянула телегу в просеку и с холки которой он собирал в ладонь кровь.
— Человек уподобляется зверю не тогда, когда, защищаясь, убивает, а когда, защитившись, забывает, что он — убийца. Так меня учил отец. Так я учил своих детей…
Шмуле-Сендер осмотрел в темноте телегу, колеса, грядки, сбрую, взял лошадь под уздцы — не погонять же ее, раненую, кнутом — и повел по просеке, что-то бормоча себе под нос.
Сразу же за лесом, отливая расплавленным оловом, текла степенная, кишащая рыбой река.
Рыбы выпрыгивали из воды, и плеск ее, как и волчий вой, звучал предвестьем — может, бездны, а может, рассвета.
На берегу Шмуле-Сендер распряг гнедую и вместе с ней забрел в воду.
Рана на холке была неглубокая, но все еще кровоточила.
Старик Эфраим и Авнер смотрели с берега, как Шмуле-Сендер промывает рану.
Он промывал ее долго, как бы священнодействуя.
— Простудишься, — сказал нищий. — Вылезай!
Но водовоз по-прежнему стоял по колени в майской еще студеной воде и гладил гнедую, набирал в пригоршни воду, плескал на рану и снова что-то бормотал себе под нос.
Казалось, он никогда не выйдет из воды. Казалось, так оба и застынут до рассвета, до конца жизни, и рыбы будут торкаться в их ноги, как в коряги.
Шмуле-Сендер снял с себя вдруг рубаху, разорвал ее и обвязал конскую рану.
Голый по пояс, он напоминал Эфраиму их молодость, когда они вместе купались в Немане; а лошадь смахивала на старуху — его бабушку Блюму.
Вода омывала Шмуле-Сендера со всех сторон, как остров; он и был островом, маленьким, безлюдным островком на земле, на котором обитает только одно животное — старая, раненая лошадь.
— Вы возвращайтесь домой. Дальше я пойду один, — сказал Эфраим.
Но сквозь плес, сквозь журчание воды, сквозь собственное бормотание Шмуле-Сендер ничего не слышал.
— Один, — повторил каменотес.
Лошадь мотала мокрой гривой, Шмуле-Сендер, привстав на цыпочки, поправлял на ней повязку, для возницы не существовали ни Эфраим, ни Авнер.
— Он уходит, Шмуле-Сендер, — сказал Авнер. — Он больше не может ждать…
Эфраим зашагал по берегу — решительно и безвозвратно.
Авнер стоял между водой — Шмуле-Сендером и сушей — Эфраимом и не знал, что же ему выбрать. И воды жаль, и суши. Будь его, Авнера, воля, он охотно выбрал бы лес, ушел бы туда и вместе с волком день-деньской шумел бы, как дерево. И кончилось бы его нищенство, ибо кто же побирается, шелестя листьями?
— Эфраим! Шмуле-Сендер! — заметался он.
И остался один на пустынном берегу.
Когда Шмуле-Сендер вывел лошадь из воды, Эфраима уже и в помине не было.
— Ушел.
— Куда?
— Туда, — и Авнер ковырнул пальцем лес.
Шмуле-Сендер запряг лошадь, Авнер забрался в телегу, странники выкатили на большак, но большак, как и берег, был темен и пустынен.
— Эфраим! — закричал Шмуле-Сендер. — Эфраим!
— Э-фра-им! — куражилось эхо.
Шмуле-Сендер понукал раненую лошадь, и в душе его накипала обида — обида на Эфраима, бросившего их среди ночи, на Авнера, оставшегося с ним (не останься он, Шмуле-Сендер сразу же повернул бы оглобли), на самого себя, полуголого, озябшего, чуть не сгубившего свою гнедую.
Светало. Поля вокруг залило молоком, молоко чуть-чуть подогрели, и заклубился молочный, без мороси, туман, из тумана проступили первые избы, раскиданные по холмам.
— Смотри! — воскликнул Авнер. — Обратно идет!
— Кто?
— Эфраим!
— Кирку забыл, — виновато сказал Эфраим, когда телега подкатила впритык.
Шмуле-Сендер недовольно хмыкнул и зачастил:
— И резец, и долото, и лопату…
— Сами знаете… я без них как без рук.
— Без них, значит, как без рук… А без нас? Без меня? Без Авнера? Без моей бедной лошади? — частил Шмуле-Сендер.
Эфраим нахмурился.
— Авнер, — воскликнул Шмуле-Сендер. — Выкинь его пожитки!
— Что? — лицо Авнера перекосилось, как плетень, о который бык трется рогами.
— Выкинь! — еще раз скомандовал Шмуле-Сендер.
— Да ты совсем рехнулся!.. Садись, Эфраим! И чтобы больше ни-ни!..
Эфраим не пошевелился.
— Садись!.. — взмолился Авнер. — Не ради него… не ради меня, а ради сына своего Гирша… Пусть твое нетерпение пешком идет, а ты садись!..
— Ждешь, чтобы я тебя попросил? — кипятился Шмуле-Сендер. — Не дождешься… Я тебя никогда ни о чем не просил и просить не буду.
Но в голосе его не было ни прежней злости, ни обиды.
Старики не заметили, как сзади них, откуда-то из озимых, появилась горстка людей, которая шла напрямик через поле.
Поначалу Эфраим подумал, что это богомольцы, направляющиеся на престольный праздник в Россиены, в славный на всю Жмудь костел, потом предположил, что это чьи-то богатые похороны, но когда они, эти люди, пересекли поле и вышли на большак, каменотес увидел, что это не крестный ход, не похороны, а новобранцы.
— Солдаты! — с телеги, как со сторожевой вышки, крикнул Авнер.
— В войско гонят, — сказал Шмуле-Сеидер.
— В войско, — примирительно произнес Эфраим.
Он вдруг вспомнил, как они со Шмуле-Сендером уходили в рекруты. То было не весной, а зимой, в лютый мороз. Бабушка Блюма бежала за телегой, на которой их увозили, протягивала внуку варежки и кричала: «Фроймеле! Возьми! Ты еще, не дай бог, обморозишь руки. А без рук какой же ты каменотес? Возьми!» Она бросила варежки в телегу, унтер, который сопровождал рекрутов до Россиен, подхватил их, надел на свои лапы и еще помахал ей, старой. Этим повезло. Их гонят не в январе, а в мае. Но и им невесело. Кто знает, вернутся ли домой — с японской ли, с персидской ли границы. Что персы, что японцы — один черт, какая разница, чья пуля.
— Что будем делать? — забеспокоился Шмуле-Сендер.
— А что делать? — недоуменно спросил нищий и добавил: — Семнадцать душ, не считая конвоира.
— А ты уже сосчитал? — вздохнул Шмуле-Сендер. — Ты без счета не можешь. А говоришь: лавочник Авнер Розенталь умер.
Шмуле-Сендер вглядывался в даль, которая теперь уже и далью не была, семнадцать душ новобранцев и три конвоира заслонили горизонт. Можно было попытаться убежать от них, да разве пустишь раненую лошадь в галоп? У Шмуле-Сендера еще тлела надежда на то, что ни новобранцы, ни их конвоиры не станут с ними связываться, двадцать человек в телеге не уместятся, кому-нибудь все равно придется топать пешком. Ну, а уж если позарятся на воз, то Шмуле-Сендер пустит в ход свой последний козырь: георгиевский крест. Он получил его за храбрость. За то, что он первым ворвался в расположение турок и уложил их конвоира. Шмуле-Сендер его не носит, чтобы в местечке, не дай бог, не подумали, будто он крестился. Ведь о его храбрости помнит только Эфраим. Георгиевский крест лежит в комоде, и Шмуле-Сендер тайком от Фейги чистит его, чтобы не заржавел. Все заржавело: и любовь, и молодость, и храбрость, а вот он, этот крест, сияет как звезда на небе.
— Заберут телегу, и кукуй, — поделился он вслух своими сомнениями и прикрыл голую, волосатую грудь.
— Что-нибудь придумаем, — бросил Эфраим.
Новобранцы подходили все ближе и ближе.
— Ну? — торопил Эфраима Шмуле-Сендер.
Эфраим перебирал в памяти все знакомые ему хитрости, но ни одна не годилась для того, чтобы одолеть маленькое — всего в двадцать душ — войско.
Наконец его осенило. Он засуетился, велел Шмуле-Сендеру остановиться, а Авнеру лечь навзничь.
— Зачем? — испугался Авнер.
— Ложись! — свирепо повторил Эфраим.
По правде говоря, Авнер еще никогда в жизни не ложился по команде. Хотя он и обожал спать, укладывание в постель доставляло ему не радость, а мучение. Ляжет и не встанет. Как ни клял Авнер свою жизнь, он тем не менее цеплялся за нее — может, к концу, перед закатом удастся найти в куче золы хоть одну изюминку, хоть кроху корицы. Вдруг и ему придет письмо, сочиненное не им самим, а каким-нибудь Розенталем, его дальним родственником, миллионером, банкиром, который перед смертью составит завещание и оставит ему где-нибудь в Нью-Йорке или Париже, в Вене или Берлине часть, частицу, толику своего наследства; Авнер снова откроет бакалейную лавку, только не в Мишкине, а в Вильно, напротив главной синагоги или в каком-нибудь другом людном месте; он скинет с себя эту хламиду, это отрепье, эти штаны с оторванной штаниной — зацепился в темноте за корягу — и облачится в смокинг, наденет цилиндр, пристегнет к манжетам золотые изюминки запонок.
— Сейчас мы тебя накроем соломой… и попоной, — продолжал Эфраим.
Нет, он не позволит, чтобы его смокинг закрыли соломой, чтобы золотые изюминки запонок касались грубой дерюги.
— Рядом положим лопату, — не унимался каменотес.
Лопату рядом с цилиндром? Никогда! Да знает ли Эфраим, с кем имеет дело?!
— А зачем лопату? — осведомился Шмуле-Сендер.
— Авнер — больной, — объяснил Эфраим. — Авнер — почти покойник.
— Покойник. Конечно, покойник. А кто из нас не покойник? — пропел нищий. — Разве что миллионер Розенталь, — добавил он невпопад.
— У тебя проказа, — сказал каменотес.
Новобранцев от телеги отделяли уже не сажени, а вершки. Слышно было, как они переговариваются по-литовски. Уже была видна их одежда — армячки, залатанные сермяги, даже кожушки. Оделись, видно, с прицелом: пока их пригонят на японскую или персидскую границу, пройдет не только весна, но лето и осень, а там и зима наступит. Пахарям и сеятелям тоже нельзя обмораживать руки. Кто повернет плуг? Кто станет разбрасывать семена?
— У тебя проказа, — уговаривал его Эфраим. — К тебе нельзя прикасаться. Ложись и…
— И что? Помирать?
— Чешись, — сказал Эфраим.
— Это — пожалуйста! — хохотнул Авнер.
— Раздирай кожу ногтями. Ты же умеешь всех изображать!
Конвоиры, которые шли впереди новобранцев, поравнялись с телегой.
— Куда едете? — беззлобно спросил старший из них и потер рыжую бороду.
— Прокаженного везем, — по-русски ответил Эфраим.
— Умеешь по-русски?
— Так точно. Солдат седьмой пехотной дивизии под командованием его высокопревосходительства генерала Стародубцева, — отрапортовал каменотес.
— Ишь ты!
Литовцы-новобранцы пристально глядели на неухоженную, замотанную лошадь, холка которой была обвязана разодранной холщовой рубахой, и тихо посмеивались. Кто-то из них подошел к гнедой, поднял ее морду и, как бы прощаясь со свободой, с родиной, с пашней, ткнулся в нее лицом.
— А не врешь, старый? — прохрипел бородач и, шагнув к грядке, заглянул за нее, как за плетень.
Авнер лежал навзничь и чесался. Казалось, его кусали полчища блох. Он вертелся, стонал и все время с гибельной мольбой в голосе просил:
— Люди добрые! Печешите! Почешите!
Конвоир-бородач протянул было к Авнеру руки, но Эфраим остановил его:
— Проказа!..
— Почитай, пятьдесят верст без роздыху протопали. Не мешало бы нас немного подвезти… хотя бы до Россиен… ноги, как кандалы…
— Да чего ты его упрашиваешь! — пристыдил бородача молодой конвоир с огромными, как беличий хвост, усами. — Эй, вы! Именем государя!
— Прокаженного везут, — умерил его прыть бородач. — На тот свет захотелось?
— Да врут они, — не сдавался молодой.
— У меня крест… Георгиевский крест, — быстро вставил Шмуле-Сендер, боясь, что бородач уступит молодому.
— Умора! — воскликнул усач. — А лошадь почему у тебя обвязана? У нее что, зубы болят?.. Умора!
— Ее волки покусали, — не столько к конвоирам, сколько к литовцам-новобранцам обратился Шмуле-Сендер. — Вилкай, — сказал он по-литовски.
— Вилкай, — ответили новобранцы, и по их поспешному и дружелюбному ответу Эфраим понял, что имеют они в виду не только лесных волков, а тех, которые приходят в их избы от имени государя-императора и уводят пахарей за тридевять земель, на японскую или на персидскую границу.
— Волки в мае не кусают! Заврался… морда!
— У меня крест… Георгиевский крест, — чуть ли не божился Шмуле-Сендер.
— И за цто ты его полуцил? — коверкая русскую речь, поинтересовался молодой конвоир с усами. — Мозет, за храбрость?
Какая-то неведомая сила подхватила Шмуле-Сендера, он ринулся на усача, как когда-то на русско-турецкой в окопы турков, невзирая ни на что: ни на снаряды, тяжелые, как его страх, ни на страх, свистевший над головой, как снаряды.
— Так точно! — выпалил Шмуле-Сендер. — Вы думаете, храбрых евреев не бывает?!
Молодой конвоир подошел к лошади, потянул за конец рубахи, которой была обмотана конская холка, лошадь заржала от боли; на солнце смолисто сверкнула запекшаяся кровь, кое-где еще сочившаяся из раны.
— Кровь, — удивленно сказал усач. — Глянь-ка, Саввич! Кровь. Не врут, значит.
— Кровь, она завсегда — правда, — буркнул Саввич.
Авнер лежал на дне телеги, прислушивался к разговору, неистово раздирал ногтями кожу, радовался за Шмуле-Сендера, за его храбрость, о которой он раньше и не подозревал, за выдумку Эфраима, за то, что у него, у Авнера, нет проказы и, слава богу, уже не будет; радовался он и за литовцев, которые не скоро попадут в казармы, потому что, как ни тяжек путь, лямка солдатская тяжелей; радовался за бородача-конвоира, который поверил Эфраиму и не стал обыскивать воз. «Кровь — завсегда правда», повторял про себя Авнер, та, что течет из ран лошади, и та, что всю жизнь по капельке вытекает из жил человека.
— Ликит свейки, — сказал новобранец в кожушке. — Лайминги эсат. (Прощайте!.. Счастливые вы!)
Конвонр-усач ругнулся, скомандовал: «Шагом арш!», и новобранцы медленно, оглядываясь назад, поплелись по большаку, на котором, кроме нелепо обмотанной лошади и трех старых евреев, никого не было.
— Что он сказал? — не переставая чесаться, полюбопытствовал Авнер. Он был как никогда серьезен, словно отвечал не за телегу, не за лошадь, не за Шмуле-Сендера и Эфраима, а за весь белый свет.
— Он сказал: «Шагом арш!» — напомнил Шмуле-Сендер.
Возница придерживал лошадь, чтобы не вздумала переходить на рысь и догонять конвоиров; солнце светило ему в лицо, и лицо, измученное ночными страхами, овеянное волчьим дыханием, понемногу разглаживалось; блаженная улыбка засыпающего ребенка соперничала на нем с лучами солнца, как бы пытаясь их переупрямить. Порой блаженство Шмуле-Сендера омрачалось мыслью о конской ране. В первом же местечке он раздобудет щепоть соли, посыплет на рану и скажет: потерпи, моя орлица, поболит и заживет.
— Я про новобранца, — сказал Авнер.
— Он сказал, что мы счастливые, — объяснил Эфраим.
— Мы — счастливые? — вскинул голову Шмуле-Сендер.
— Хи-хи, — чужую глупость Авнер всегда хоронил в смехе. — Хи-хи.
— Он сказал, что они завидуют нам. — Смех Авнера, видно, задел Эфраима.
Ни Авнер, ни Шмуле-Сендер не могли взять в толк, чему это новобранцы завидуют.
— Завидуют, что ходим по их земле, — сказал Эфраим.
— Хи-хи, — снова засмеялся Авнер.
— Завидуют, что пьем их воду, — продолжал каменотес.
— Их воду? — удивился Шмуле-Сендер. — Вода ничья.
— Топчем их луга.
Все казалось простым и ясным, но Эфраим никак не мог найти подходящие слова, чтобы такая же ясность снизошла и на Авнера, и Шмуле-Сендера.
— Я их луга не топчу, — буркнул Авнер. Он был погружен в какую-ту думу, которую хихиканье прикрывало, как облако прикрывает верхушку дерева.
Эфраим чувствовал, что сейчас эти новобранцы меньше всего занимают Авнера.
— Они, — Эфраим глянул вдаль, где уже растаяла цепочка тех, кого через всю Россию гнали к месту их ратной службы, — завидуют, что мы будем видеть их жен, их отцов и матерей, их лошадей и пашни.
Он еще что-то перечислил, но лицо Авнера выражало не сочувствие, а удивленное недоверчивое понимание. Он то и дело посматривал по сторонам, как будто что-то выискивал, и Эфраим терялся в догадках — что именно?
— Ну что, что мы будем каждый день видеть их жен и лошадей. Они все равно не наши. Хи-хи. — Авнер снова зачесался. Ему нравилось загонять Эфраима в тупик, класть его в спорах на лопатки — пусть не бахвалится своей недюжинной силой. Настоящая сила у еврея не в руках, а в голове, в быстром и неожиданном соображении.
— Разве все, что мы, Эфраим, видим — наше? — дожимал он каменотеса. — Мое… твое… Шмуле-Сендера?
— Ты никогда, Авнер, в войске не служил, — назидательно сказал Эфраим, которого трудно было сбить с толку.
Низменность сменилась взгорьями, холмами, лесом. Авнер оживился, хотя Эфраима слушал рассеянно, все еще захваченный своей тайной мыслью, заставляющей его все время оглядываться по сторонам и что-то искать. Мысль эта, видимо, была из разряда тех, которые приходят в голову один раз в жизни и которой ни с кем нельзя делиться.
— Я говорю: ты, Авнер, в войске не служил, — стараясь привлечь его внимание, повторил Эфраим.
— И слава богу.
— Завидуют, что мы остаемся на их родине, которую они, может быть, покидают навсегда.
— Шмуле-Сендер, — обратился Авнер к вознице. — Ты когда-нибудь слышал, чтобы хозяин завидовал нищему? Мы, Эфраим, нищие!
— На свете всегда есть кто-нибудь, кто беднее нас. Беднее и несчастнее. Сейчас они, — Эфраим попытался взглядом отыскать на горизонте хозяев Литвы, — сейчас они беднее нас. Кто знает — вернутся ли обратно.
Леса становилось все больше. Он подступал к самому большаку, но теперь не пугал их, а Авнера просто привораживал. Он не спускал с деревьев глаз и упрямо продолжал искать то, что было его тайным вожделением.
— Что ты все время там ищешь, Авнер? — не выдержал Эфраим.
— Ничего… — ответил нищий и, как бы возвращаясь к прежнему разговору, сказал: — Странный ты, Эфраим, человек!.. Вместо того чтобы беспокоиться о своем сыне… думать о Гирше… ты думаешь обо всех: и об этих новобранцах, и об этих конвоирах, и о Иоселе-Цыгане.
И снова взглядом вырубил в чаще просеку.
— А ты? — спросил Эфраим.
— Это, конечно, нехорошо, но я всегда думаю об одном человеке.
— О себе, — сказал Эфраим.
— О себе я не думаю.
— А о ком?
— Об Авнере Розентале.
Теперь хихикнул Шмуле-Сендер, но тут же кулаком прикрыл рот.
Лошадь шла, не чуя поводьев и боли. Она была терпеливей их всех. У нее было терпение не скотины, а божества. Большак бежал назад, в Мишкине. Изредка попадались речушки, забывшие свои имена и навек помолвленные с такими же безымянными озерами.
— Ты и Авнер Розенталь — один человек, — сказал Эфраим.
Ему хотелось сделать для нищего что-то доброе, чтобы Авнер с такой одержимостью не всматривался в лес, чтобы не искал того, чего никогда не найдет ни в чаще, ни на большаке, ни в Вильно.
Если хорошенько подумать, он, Авнер, больше всех рисковал: откройся обман, проведай конвоиры про то, что никакой он не прокаженный, а просто надувала, он, может быть, кончил бы свои дни не в богадельне, а на каторге.
— Это вам только кажется, — промолвил нищий, — что я и Авнер Розенталь — один человек. Авнер Розенталь никогда бы с вами не поехал… Авнера Розенталя никто… никогда бы… под страхом смертной казни не заставил бы чесаться. Если бы Авнер Розенталь появился на людях в таких штанах, как эти, — нищий потрепал оторванную штанину, — он тут же бы умер. Я не могу в таком виде въехать в Вильно — в Ерушалаим да Лита.
— Давай поменяемся, — чувствуя, куда клонит Авнер, сказал Эфраим. Он почти не сомневался, что нищий что-то задумал. Кто ему в святую субботу подаст пару старых… пару поношенных штанов? Да и в штанах ли дело? Просто утомился Авнер, понял, что эта дорога длиной во всю оставшуюся его жизнь — не его дорога. Не его сына судят в Вильно, не его отпрыск служит там в присутственном месте, не его дочь убежала с фармазоном в Киев.
— Я в твоих штанах потону, — ответил Авнер и слез с телеги. — Вы поезжайте… поезжайте…
— Куда ты? — озаботился Шмуле-Сендер. Как и Эфраим, Шмуле-Сендер вдруг подумал, что у Авнера какой-то тайный замысел — только поди догадайся, какой. Может, ему надоело с ними, может, и впрямь соскучился по работе (давно он не побирался), но когда солнце зайдет, всем евреям на свете будет запрещено работать, даже просить милостыню.
— Вернись, — сказал Эфраим.
— Ты первым хотел нас бросить, — уклонился от ответа Авнер. — Если бы не кирка, не резец, и духа твоего тут не было бы, — добавил он и вздохнул.
В его вздохе было больше жалости, чем осуждения, и еще в нем была какая-то тайна, которую он скрывал от них, боясь, что они только высмеют его.
— Прощайте, — бросил Авнер и зашагал по большаку.
Он шел медленно; так же не спеша трусила лошадь. Шмуле-Сендер и Эфраим молчали, следя за фигуркой нищего, похожего на придорожное распятие, которому опротивело стоять на одном месте и которое пустилось куда глаза глядят.
Возле леса Авнер свернул на лесную стежку.
— Поезжай за ним! — сказал Эфраим.
— Нам тут не проехать, — промолвил Шмуле-Сендер. В самом деле лесная стежка была слишком узка для телеги. Поедешь и увязнешь в суглинке или — что еще хуже — ступицу сломаешь. А верхом на одной лошади, даже на такой, как его, Шмуле-Сендера, далеко не ускачешь.
— Поезжай, — повторил Эфраим.
— Да зачем нам за ним гнаться? — возмутился водовоз. — В каком-нибудь доме раздобудет нортки и вернется. Никуда не денется.
— Он не вернется, — сказал Эфраим.
— Откуда ты знаешь? — не сдавался Шмуле-Сендер.
— Он что-то задумал, — выдохнул Эфраим. — Понимаешь, что-то задумал.
Пока они спорили, Авнер исчез из виду, и, как они ни всматривались в чащу, найти его взглядом уже не могли.
Колеса вязли в мокром суглинке, гнедая тужилась, и после каждого ее шага гримаса боли искажала усталое лицо возницы. Черт-те что придумал, злился про себя на Эфраима Шмуле-Сендер. Сам переполошился и его напугал. Да ничего с Авнером не случится. Ну что может случиться с человеком, у которого нет ни ножа, ни веревки, ни ружья. Что?
— Ты меня здесь подожди, — сказал Эфраим.
Легко сказать — здесь подожди. Это ведь не большак, который принадлежит каждому — пешему и конному. Это поле. И не просто поле, а озимые.
— Это озимые, — сказал Шмуле-Сендер. Он хотел объяснить Эфраиму, что хозяин, не дай бог, еще спустит на них собак или придет с ватагой односельчан и изобьет их до смерти за то, что они топчут его хлеб насущный.
— Он, наверное, в чаще. Человек — не иголка. Найдем, — сказал Эфраим.
До чащи было недалеко, но Шмуле-Сендер опасался забираться туда с телегой. Заберешься, а обратно не выберешься.
Прикинув в уме все выгоды и все убытки, Шмуле-Сендер решил выпрячь гнедую, взять ее с собой, а с телегой будь что будет. Вернуться на большак без Эфраима для Шмуле-Сендера было бы куда хуже, чем с ним.
Шмуле-Сендер долго выпрягал лошадь, долго складывал в телегу сбрую, постромки, Эфраим терпеливо ждал его и, когда тот закончил, буркнул:
— Не отставай!






