Козлёнок за два гроша Канович Григорий
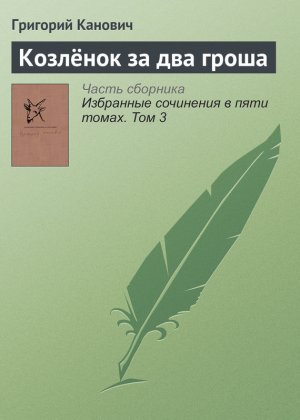
Семен Ефремович постоял немного и, выбрав самую большую печаль, двинулся к выходу.
Он миновал Немецкую улицу и, удивляясь тому, что никто на него не обращает внимания, вышел через переулок Стекольщиков к своему дому.
Дома он, не раздевшись, лег, закрыл глаза и тихо, по-щенячьи заплакал.
В неожиданно накалившейся от удушья тишине Семен Ефремович услышал, как скребется мышь, и позавидовал ей — ему хотелось юркнуть под землю, но впервые земля была уже мышиной норкой.
Мышиное поскребывание сменилось чьими-то шагами, тихими и вкрадчивыми, как будто кто-то ступал на мягких мохнатых лапах; шаги приближались, и Семен Ефремович, еще не в бреду, но уже не наяву сообразил, что это ходит по комнате Беньямин Иткес, получеловек-полуовн, над кроватью, над столом, над полом клубится невыносимая, выворачивающая душу вонь. Она проникла во все поры, и Шахна до крови раздирал шею, грудь, живот, чтобы освободиться от нее. «Уходи! Уходи! Уходи!» — заклинал он темноту, словно та была живым существом, способным сочувствовать и понимать. Измученный лихорадкой, Шахна встал, распахнул окно, но смрада не убавилось, со двора, где росли две чахлые липы, несло не весной, не запахом набухших почек и распускающейся листвы, а отвратительной вонью. «Уходи! Уходи! Уходи!» — теряя последние силы, умолял Шахна невидимого Беньямина Иткеса. Семен Ефремович знал: так неотступно, так дурно пахнет грех.
Порой между мышиным поскребыванием и шорохом шагов наступали какие-то спасительные паузы; Беньямин Иткес вместе с источаемым им смрадом исчезал, но на смену ему в комнату вваливался хоровод богомольцев, и тогда Шахна чувствовал, что весь состоит из волдырей и струпьев; он ощупывал их в темноте, тщетно пытаясь сколупнуть.
К утру Семен Ефремович впал в беспамятство.
На третьи сутки к нему явился нарочный Крюков.
— Его высокоблагородие послал за вами карету, — сказал он, оглядывая жилище толмача. Окна были настежь распахнуты; ветер развевал на них тоненькие занавески; из соседней булочной пахло сдобой.
Крюков наклонился над лежащим Шахной, понюхал раз, другой, пробормотал: «Вроде бы не пьян», надавил пальцем на веко, проверил, не мертв ли, и, убедившись, что не мертв, принялся легонько его тормошить.
— Господин толмач!.. Господин толмач!.. Его высокоблагородие изволят гневаться… Заждались вас…
Но Семен Ефремович по-прежнему не двигался, как будто ничего не слышал. Он и впрямь ничего не слышал. Казалось, в жизни участвовали только его полуоткрытые глаза, а не законопаченные глухотой уши.
— Одевайтесь, господин толмач, — сказал Крюков одетому Семену Ефремовичу. — Его высокоблагородие изволят гневаться.
Нет! Он больше никогда туда не вернется. Никогда. Завтра же уедет из Вильно куда-нибудь к черту на кулички, на родину — откроет свой хедер, начнет учить детишек, попросится в письмоводители к Маркусу Фрадкину, а может, подастся в Галицию, к хасидам, в последователи и ученики к какому-нибудь рабби. Надо иметь мужество и признать свое поражение. Он, Шахна, не годится в посредники между добром и злом или, как сказал Гирш, между душой и задницей. Задница победила?..
— Его высокоблагородие велел в крайнем случае… — Крюков сделал ударение на предпоследнем слоге.
Семена Ефремовича снова опалил озноб. Он вдруг представил себе, как на виду у всего дома его запихивают в карету или под конвоем ведут через весь город в жандармское управление. На миг ему почудилось, что никакого Крюкова и никакого Ратмира Павловича нет, что все это подстроено Беньямином Иткесом, получеловеком-полуовном, оборотнем, заставляющим и его, Шахну, воплощаться то в вонючего раба, исполнителя чужой воли, то в бессильного мятежника, не желающего творить добро под конвоем.
Мысль о Беньямине Иткесе была до того пронзительной, что Семен Ефремович даже принюхался.
— Пахнет? — спросил он Крюкова.
— Так точно, господин толмач, — ответил унтер. — Сдобой из булочной.
Шахна с трудом поднялся с кровати. Кружилась голова, бунтовали ноги, он покачнулся, но услужливый Крюков подхватил его и повел за собой.
Внизу их ждала карета.
Шахна привалился к стенке и, поглядывая в окно на снующих горожан, с каким-то горьким и удивленным отчаянием думал, что им нет никакого дела ни до него, ни до его брата, ни до благовония добродетели, ни до вони греха: все живут между добром и злом, как между двумя дворами, мимо которых проходят каждый день, не замечая того, кто пытается их подмести.
— Пришлось, ласковый мой, даже Крюкова за тобой посылать, — приветливо, без злости встретил его Ратмир Павлович.
— Болен я, — сказал Семен Ефремович и весь сжался. Сейчас небось начнет допытываться: чем? А что он может ему сказать? Что? Что его изгнали из синагоги ломовых извозчиков? Ратмиру Павловичу что синагога, что мечеть, что кинесса — один черт. Никаких Иткесов Князев не знает. Кого не допрашивал, с тем не знаком!
— Наша служба не спрашивает: болен ли, здоров ли? Она спрашивает: предан ли? — сказал Князев.
Семен Ефремович едва стоял на ногах. Голова кружилась, как огромный осенний лист, не знающий, куда упасть; рябило в глазах.
— Я служу богу, — сказал Шахна.
— С вами всегда так: уклоняетесь от ответа на чужие вопросы, чтобы задавать свои… Да ладно, не будем спорить… Вижу, ласковый ты мой, неможется тебе… Кончим дело твоего братца и отдохнем… возьму тебя с собой на охоту, научу стрелять… Я знаю одно дивное место возле Игналины… Литовская Швейцария… Прошлой осенью я там даже стишок накропал… Жена забодала, а мне нравится… Хочешь прочту? — неожиданно предложил он.
Семен Ефремович едва заметно кивнул.
— Стишок неказистый, но от души… Вот послушай! — сказал Князев и, вскинув голову, начал:
- Над лугом облака плывут,
- И бор уж в золото рядится,
- И улетают там и тут
- На юг встревоженные птицы.
- Слежу, как тянется их клин
- По дальней неземной дороге.
- И задаю себе один
- Вопрос в смятенье и тревоге.
- Ах, где же, милая, тот край,
- Который нас теплынью встретит?
- Слезой, упавшей невзначай,
- И наши лица осень метит…—
— Ну как?.. Правда недурно? — обратился он к застывшему Семену Ефремовичу.
— Да, — сказал тот.
— Особенно вот это: «Слезой, упавшей невзначай, и наши лица осень метит…»
Шахна слушал его и думал, как порой чудовищно странно совмещаются в человеке самые разные начала. Ратмир Павлович пишет стихи, палач Филиппьев играет на флейте, надзиратель Митрич по праздникам поет в хоре Святодухова монастыря, лесоторговец Маркус Фрадкин собирает священные свитки.
— А знаешь, почему жена забодала его?
— Нет.
— Потому что не поверила, что «милая» — это она…
Семен Ефремович ждал, когда Князев от благодушного балагурства и чтения стихов перейдет к делу — за шутками-прибаутками он никогда о нем не забывал! — чем-нибудь ошеломит, но Ратмир Павлович был по-прежнему весел и беззаботен.
— Ну что Эльяшев? — спросил он, разглядывая в карманное зеркальце свои мелкие и острые, как у хорька, зубы. — Небось сумасшедшую цену заломил?
— Заломил, — думая о другом, ответил Семен Ефремович.
— Мало ему, негодяю, каменного дома на Ягеллонской, золотишка в Орловском банке. Но ты не огорчайся. За деньгами дело не станет. Я их тебе дам.
— Вы? — промолвил Семен Ефремович и задохнулся от собственного удивления.
— До гроба с тобой за Петю не расплачусь. Как бы не ты, тлеть бы Петруне в воде…
Осмотрев свои зубы, Князев принялся разглядывать прыщик на правой щеке. Он разглядывал его с каким-то брезгливым и упрямым вниманием, и Семен Ефремович поймал себя на мысли, что точно так же Ратмир Павлович смотрит на него, своего толмача.
— Я не возьму у вас ни копейки, — сказал Шахна.
— Не хочешь даром, возьми в долг, — искушал его полковник. — Под небольшой процент…
— Не могу.
Нет, нет, денег Шахна у него не возьмет, ни даром, ни в долг, как бы Князев его ни уговаривал. И не только потому, что добро не продают, а делают, а потому, что он, Шахна, не даст себя окончательно закабалить. А Ратмир Павлович, видно, только к этому и стремится.
— Ваше высокоблагородие, — сказал Семен Ефремович, отвлекая внимание Князева от облученного весенним солнцем прыщика. — После того как закончится следствие, я хотел бы уйти…
— Позволь тебя, ласковый ты мой, спросить, куда? — Ратмир Павлович спрятал зеркальце в карман мундира.
— Может, вернусь на родину, — сказал Шахна.
— Чем же мы тебе не угодили? — спросил Князев.
В этом «мы» было что-то слипшееся, набухшее; оно облипало Семена Ефремовича, подчиняло себе его волю; воздух загустел, как войлок, нечем было дышать; взгляд его обессмыслился, и в нем ничего, кроме покорности судьбе, не было. Но Шахна нашел в себе силы очнуться, воспротивиться.
— Моя тайна больше не тайна, — объяснил он.
— Тебя выследили? Кто?
— Мои соплеменники.
Ратмир Павлович слушал его без всякого интереса, как будто наперед знал, что Семен Ефремович скажет.
— Конечно, еврей-портной или еврей-меламед приятней для вашего уха, чем еврей-жандарм. Но почему, ласковый ты мой, жандармами должны быть только русские?
Шахна снова почувствовал противную слабость: все, что происходило, казалось, происходило не с ним, а в другой жизни, где Ратмир Павлович был не больше чем марионетка, да и он, Шахна, — тряпичная кукла — висел на ниточке, которую кто-то дергал сверху.
— Подумаешь — выследили! — рассмеялся Ратмир Павлович. — Больше бояться будут… Ибо страх — хозяин жизни… Ты только скажи, кто они, и мы их так пугнем, что и имя твое забудут.
— Вы плохо, однако, знаете евреев.
— Евреи! Евреи! А что твои евреи не из того же теста? Не из тех же костей? Не хочешь их называть — дело твое. Ты, ласковый мой, на все смотришь со своей еврейской колокольни. А ты поднимись повыше!
— Рад бы, ваше высокоблагородие, да нас выше не пускают.
— Что правда, то правда, — против ожидания согласился Ратмир Павлович. — Признаться честно, я схлопотал от начальства даже выговор за то, что взял тебя в толмачи, как будто для перевода с еврейского я должен был пригласить татарина или черкеса! «Выкреста возьмите, полковник, выкреста!»
Как Шахна ни силился понять, зачем Ратмир Павлович послал за ним Крюкова, уразуметь этого он не мог. Не за тем же, чтобы выслушивать его проповеди. Хороши проповеди, когда тут же, за окном, возводят виселицу для твоего брата!
При мысли о Гирше Семен Ефремович ощутил какую-то удушливую неприязнь к полковнику, но не подал виду. Сидел спокойно, глядя на Ратмира Павловича пустыми, залитыми казенной преданностью глазами.
— Я за то, чтобы к вам в России относились как к равным, — витийствовал полковник. — Чем вы, например, хуже литовцев?
Пусть витийствует, пусть, думал Шахна. Только бы не расспрашивал его про синагогу ломовых извозчиков, Маму-Ротшильда, кантора Исерла, вдову Товия Мину, про Арье-Лейба, шорника Гедалье и гончара Хоне (Семену Ефремовичу казалось, что полковник их всех знает).
Шахна уже жалел, что признался. Ведь мог бы утаить, мог не сказать ни слова. А теперь? Теперь сам ничего не добился да еще поставил под угрозу других.
— Когда я служил в Сибири, то даже написал его величеству императору докладную записку об улучшении быта алтайцев, якутов, бурятов и прочих племен в связи с их плачевным положением, усугублявшимся высокой смертностью и почти поголовным невежеством… Жаль, до сих пор ответа не получил… Пришлют ответ, а Ратмира Павловича Князева в Сибири уже нет, Ратмир Павлович Князев, как говорят белорусы, тута.
Полковник перевел дух, подошел к окну, распахнул его, заслуженно и жадно вдохнул струю весеннего воздуха, существовавшего как бы отдельно от того, который сгустился в кабинете в войлок, поправил на себе мундир, выдвинул ящик стола, достал «Дело о покушении Виленского мещанина Гирша Дудака на генерал-губернатора…», полистал его и с небрежностью человека, уверенного в своей правоте, тут же захлопнул.
— Я за то, чтобы о вашем будущем пеклись не только для того, чтобы успокоить изредка поднимающуюся в вашу защиту заграницу, но и для того, чтобы вы спокойно тачали сапоги, а не стреляли в русских чиновников.
Семен Ефремович не перебивал его. Только когда Князев замолк, он сказал:
— Уже полдень, ваше высокоблагородие. А Гирша Дудака все нет. — Он не решился сказать «брата».
— Привезут, — успокоил его Ратмир Павлович. — Никуда твой Гирш Дудак не денется.
Семена Ефремовича охватила какая-то странная тревога, которая усиливалась оттого, что он никак не мог найти ей объяснения.
— Я долго думал, какой тебе сделать к юбилею подарок, — промолвил Ратмир Павлович, и тишина вдруг развалилась.
— За что же? — выдохнул Шахна.
— За верную службу. Ведь в конце мая исполняется третья годовщина, как мы вместе…
Князев сунул руку в открытый ящик стола и вынул оттуда черную головешку пистолета.
— Пистолет? — спросил Семен Ефремович.
Ратмир Павлович подвинул к нему головешку; холодная сталь уже касалась Шахниного запястья; такой же стальной и холодной была решимость Князева. Толмач пялился на оружие и с ужасом думал о том, что стоит ему взять эту обуглившуюся головешку в руки, как вмиг обуглится кисть, потом локоть, потом предплечье, потом вся его жизнь. Пока он, Шахна, — только посредник, только покорный свидетель, только молчаливый соглядатай, но за одну минуту все может измениться, даже если он ни в кого не выстрелит; через минуту свидетель и соглядатай превратится в сообщника; через минуту он лишится всего, чем гордился, и закабалится, обезличится, станет двойником жандарма. Вторым Крюковым…
— Угадай, чей он?
Ратмир Павлович как будто глумился над ним, и обессмыслившийся взгляд Шахны нигде не находил опоры, перелетал с полковничьих погон на пистолет, с пистолета на погоны.
— Угадай, — подзадоривал Шахну Ратмир Павлович.
Игра, казалось, захватывала Князева целиком, возвращала ему силы; он молодел, добрел; лицо его принимало какое-то счастливое, ребячливое выражение.
Господи, думал Семен Ефремович, когда же зацокают копыта жандармских лошадей!
Но за окном было тихо. Так тихо, что в кабинете слышно было, как в доме напротив портной крутит ручку швейной машинки.
— Это пистолет твоего брата — Гирша Дудака, — с какой-то истребительной торжественностью объявил Князев.
Он что, собирается подарить ему улику? Его высокоблагородие просто балуется, его высокоблагородию скучно в столице Северо-Западного края, где, кроме бегов, цирка Мадзини и оперетты Модзолевского, нет никаких развлечений; его высокоблагородие сейчас спрячет пистолет в ящик стола, и все страхи кончатся; начнется очередное дознание.
— Это из него твой брат пальнул в генерал-губернатора, — серьезно, без тени куража сказал Князев. — Отныне этот пистолет твой!
— Нет, нет, — закричал Семен Ефремович, не узнав своего голоса. Голос был какой-то задушенный, старческий, он начинался не в гортани, а в чреве.
— Нет жандарма без оружия, — назидательно произнес полковник и потер пальцем прыщик.
— Но я… я, ваше высокоблагородие, я не жандарм и жандармом никогда не буду.
— Кто же ты? — спокойно спросил Князев.
Семен Ефремович растерялся. В самом деле — кто он такой? Недоучившийся семинарист? Писарь? Стряпчий? Самозваный толмач?
— Я… я — никто, — пробормотал Семен Ефремович и затих.
В какой-то миг Шахну уколола мысль о том, что он зря отказывается от подарка. Пальнул себе в лоб, и ты свободен; свободен от позора, от голода, от надобности защищать брата, от добра и зла, от страха — хозяина жизни; ты больше не его слуга, не его лакей, не его наймит. В смерти сбываются все желания. Только в смерти.
Ратмир Павлович расстегнул ворот мундира, впился пальцами в кадык и стал ласково себя душить.
Больше он Семену Ефремовичу пистолета не предлагал.
— Ваше высокоблагородие, — после паузы сказал толмач, как бы оправдываясь за свою неслыханную дерзость. Ему шубу с барского плеча, а он ее в грязь! — Я все равно не умею с ним обращаться.
— И ходить же ты, ласковый мой, не умел. Однако же ходишь. Повертев пистолет в руке, Ратмир Павлович помрачнел, прицелился в Шахну. — Ходишь ведь?
Шахна молчал. Он смотрел на портрет императора, висевший на стене, над самой головой Ратмира Павловича. Когда полковник откидывался на спинку стула, его голова как бы подпирала носки царственных сапог.
Император был написан во весь рост, со скипетром в руке и шашкой на боку. По шашке расхаживала первая весенняя муха. Иногда она расправляла куцые крылышки, взлетала и с жалобным голодным жужжанием кружилась над массивным дубовым столом.
— Зря ты, Семен Ефремович, отказываешься от подарка. Зря… Пистолет врага отечества в руках слуги отечества!.. Символ, братец, символ!.. Кыш! — неожиданно закричал на муху полковник. — Кыш!
Шахну знобило. Он был не в силах унять эту дрожь, эту озерную рябь на лице, на руках, на груди, и оттого, что Ратмир Павлович видел ее сквозь одежду, у Семена Ефремовича перед глазами все время что-то плыло — не то мыльные пузыри, которые он пускал когда-то в детстве, не то эполеты Князева, не то позолота с императорского портрета.
— Видите ли, ваше высокоблагородие, — медленно начал Шахна. — Враги отечества могут быть его лучшими слугами, а слуги — самыми лютыми врагами.
— Нельзя ли поясней?
— Все зависит от того, что мы будем подразумевать под служением. Для одних палач Филиппьев — слуга отечества, а для других…
Семен Ефремович замолк. Он знал, что существует грань, за которую в споре с Ратмиром Павловичем заходить и бессмысленно и небезопасно; там, за той гранью, Князев переставал шутить, терял самообладание и превращался в непоколебимого служаку.
За окном послышался цокот копыт, а через некоторое время скрипнули и рессоры жандармской кареты.
— Долго ехали, — упрекнул недовольный Князев ротмистра Лирова, когда Крюков ввел Гирша Дудака в кабинет.
— Пришлось окольным путем, — отрапортовал ротмистр Лиров, отвечавший за транспортировку арестантов из 14-го номера в жандармское управление.
— Окольным путем? — удивился полковник и снова замахнулся на муху. — Кыш, проклятая! Крюков, голубчик, прихлопни ее ради Христа.
— «Купец» донес, что карету якобы собираются отбить, — как ни в чем не бывало продолжал ротмистр, краем глаза следя за тем, как грузный и неуклюжий Крюков охотится за мухой-баламуткой.
Муха жужжала пуще прежнего, улетала от Крюкова, расхаживала по потолку, как полковой командир по плацу, и все — Ратмир Павлович, Шахна, ротмистр Лиров и даже арестант Гирш — кто кляня, кто восхищаясь, наблюдали за ней и ее преследователем.
Наконец муха снизилась, Крюков выждал, пока непоседа, покружившись над головой Князева, сядет на царскую шашку, и так шлепнул ладонью по холсту, что император закачался от удара, как пьяный.
— Убил, ваше высокоблагородие, — смущенно доложил Крюков.
— Ступайте, — сказал Ратмир Павлович ротмистру и Крюкову.
Те щелкнули каблуками и вышли.
— Садись, — приказал арестанту Князев.
Гирш сел.
— Семен Ефремович! Сними-ка с него оковы. От закованного в кандалы правды не услышишь. Вот ключ!
Семен Ефремович взял ключ и стал неумело отмыкать наручники.
— Ты только не волнуйся, — поучал своего толмача полковник. — Они снимаются очень просто. Надо вставить ключ в дырочку, потом два раза повернуть влево, и готово!..
Но ключ в дырочку ни за что не хотел попадать; Шахна волновался, кусал губы и думал не о брате, не о Ратмире Павловиче, а почему-то о мертвой мухе. Только что кружилась над ними, нежилась на солнце, пела мушиные гимны весне, и вот прихлопнули ее, раздавили… и что-то произошло в мире; мир стал на одну муху бедней и одним убийством богаче…
— Ну что ты так долго? — возмутился Ратмир Павлович, отнял у Шахны ключ, щелкнул и победоносно возгласил: — Щелк, и ты свободен.
Шахна расстроился, что это не он, а Князев доставил Гиршу эту короткую радость, но печаль его длилась недолго. Мысли Семена Ефремовича снова вернулись к мертвой мухе, размазанной по царской шашке.
— Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? — по-учительски спросил Ратмир Павлович, не то у арестанта, не то у толмача.
Братья молчали.
— Знаешь ли ты такого Федора Сухова по кличке Суслик? — спросил Князев.
Гирш не отозвался. Он сидел за столом и короткими крепкими пальцами гладил поверхность наручников.
— Ты сходил на Еврейскую?.. — промолвил Гирш, все еще поглаживая шершавую поверхность своих оков.
— Нет.
— Что он сказал? — осведомился Ратмир Павлович.
— Он не знает никакого Федора Сухова, — быстро ответил Семен Ефремович. — А я не знаю, как по-еврейски «суслик»… Мои познания кончаются на домашних животных… на корове… козе… лошади…
Семен Ефремович старался заговорить Князева. Ему хотелось, чтобы полковник как можно меньше расспрашивал Гирша. А вдруг Гирш не выдержит, вдруг проговорится?.. Кроме того, Шахну не оставляло подозрение, что Ратмир Павлович понимает по-еврейски, пусть немного, но понимает. Каждый день он встречает Шахну словами: «Ви лебт а ид?» («Как поживает еврей?»). Если верить Князеву, он в бытность свою в Сибири и по-бурятски говорил. «Надо, голубчик, знать язык аборигенов. Чтобы не объегоривали начальников-россиян». Он даже просил у Шахны, чтобы тот подыскал ему какие-нибудь учебники и словари, и страшно удивился, узнав, что нет в империи ни таких учебников, ни таких словарей.
— А Вайнштейна Арона он знает? — продолжал допрос полковник. — Сына присяжного поверенного Дорского.
Все висело на волоске. Семен Ефремович это понимал и в душе сетовал на то, что брат так неуступчив и самонадеян. Гирш еще и на него накличет беду, пострашнее тех двух тюремных ночей, хотя он, Семен Ефремович, и за одну ночь поседел. Вон сколько седины!..
— Арон Вайнштейн, — терпеливо объяснил Князев. — Он же — Андрей, он же — Коммивояжер. Бежал из Орловского централа. Скрывается в Вильно.
— Он зря тратит время, — промолвил Гирш. — Я был у цирка Мадзини один.
— Он говорит, что вы зря тратите время, что он был у цирка Мадзини один.
— Объясни ему: вина, поделенная на троих, не то же самое, что вина, взятая на себя одного. Неужто ему жить надоело?
Пока Шахна выслушивал Ратмира Павловича, Гирш успевал подготовиться к ответу.
— Только, пожалуйста, без громких слов об идее и прочем. На свете нет такой идеи, которая стоила бы человеческой жизни. Идея, за которую надо жертвовать собой или другими, этот же способ убийства, только облагороженный. Убивая, нельзя умножить число счастливцев.
— Почему же он тогда служит в жандармерии? — буркнул Гирш.
— Он спрашивает, почему же вы тогда служите в жандармерии? — перевел Шахна.
— Почему? — удивился Князев. — Это все равно, что спрашивать человека, который тушит огонь, когда горит его дом.
Шахна перевел слово в слово.
— Но он тушит его керосином, — сказал Гирш, щелкая наручниками.
— Переведи!
— Он сказал, что вы тушите свой дом керосином.
— Хозяин дома лучше знает, где вода, а где керосин.
Ратмир Павлович любил такие сшибки. Сам допрос не доставлял ему такого удовольствия, как резкий и непримиримый спор, в котором, как Князеву казалось, он обнаруживал не только гибкость ума и недюжинную хватку, но и добивался явного превосходства над противником. Сие чувство было сродни вдохновению, мучительной и сладкой тайне рождения стиха.
— Стало быть, никакого Вайнштейна и никакого Сухова ты не знаешь? — казенным голосом спросил полковник и выглянул в окно.
Внизу в окружении солдат конвойной команды ротмистр Лиров и Крюков осматривали карету: щупали колеса, открывали и закрывали дверцу, проверяли упряжь и сбрую, не доверяя даже смирным жандармским лошадям, возившим с молодых лет не сено, не зерно, а арестантов.
— Нет, — ответил Гирш.
— И никакого извозчика на месте происшествия не было? — пытаясь все-таки что-то выудить, осведомился Князев. — Вайнштейн и Сухов бежали именно на пролетке.
— Нет.
— Что ж. Дело хозяйское… — промолвил Ратмир Павлович и задумался. — Ты, наверно, считаешь меня извергом? — в упор спросил Князев и обратился к Шахне: — Переведи, да только поточнее.
Шахна заговорил по-еврейски.
— Да, — сказал Гирш.
— А я, представь себе, не изверг… я хочу тебе помочь. Скажешь, ложь, скажешь, жандармская хитрость. Но это правда, чистая правда. Начнем с того, что и я когда-то твердил на допросе: «Нет, нет, нет».
— Вы… на допросе? — уставился на него Шахна.
— Я… Это было в Петербурге… в годы моего студенчества… на третьем курсе… На мое счастье, следователь попался хороший… До сих пор его имя-отчество помню… Павел Пафнутьевич… Да что вам рассказывать, все равно не поверите.
— Напрасно вы так думаете, — оживился Шахна. Признание Князева откликнулось в его душе какой-то призрачной надеждой. А вдруг действительно случится чудо, и палач Филиппьев не затянет на шее Гирша петлю.
— Помню, Павел Пафнутьич на одном из допросов притчу мне рассказал… может, даже вашу… про лисицу и рыбок…
Ратмир Павлович снова выглянул в окно — карета была готова. Вокруг нее толпились зеваки. Видно, ждали, когда из жандармского управления выведут арестанта.
— Гуляла однажды лисица по берегу реки и видит, как рыбки мечутся из стороны в сторону…
Он подождал, пока Шахна переведет.
— Мечутся, ищут убежища от грозящей опасности. «Что вы так мечетесь, милые рыбки?» — спросила их лисица. «Бежим от страшных неводов, которые злые люди расставляют, чтобы погубить нас», — ответили рыбки. «Охота же вам жить в этой неверной воде, где вы вечно подвергаетесь опасности? Не лучше ли вам будет выйти ко мне на сушу и там в отдаленной роще жить со мной в мире и в ладу, как жили некогда мои предки с вашими?», — сказала лисица. Но рыбки ответили: «Это ты лисица, о которой идет молва как о самой умной из зверей?»— «Я», — сказала лисица. — «Если в воде нам приходится вечно трепетать за свою жизнь, то на суше нам не прожить ни одной минуты. Лучше трепетать, но жить»… Павел Пафнутьевич так мне и сказал: «Лучше трепетать, но жить».
Внизу заржала лошадь.
Ратмир Павлович встал из-за стола, прошелся по комнате, открыл окно, в которое хлынула струя воздуха, скорее деревенского, чем городского; в нем чувствовался запах первой, еще сиротливой листвы.
— Запомни, — промолвил Князев. — Прирученные волчата преданней любой собаки. Желаешь что-нибудь добавить к своим предыдущим показаниям?
— Нет, — не задумываясь ответил Гирш.
— Дурак, — не сдержался Князев. — Жену бы пожалел… ребенка… если любишь их…
Гирш нахохлился, втянул голову в плечи.
— Любит, — ответил за брата Семен Ефремович.
— Надень-ка на него наручники, — обратился к своему толмачу полковник.
Он мстит мне, промелькнуло у Шахны. Мстит за то, что я отказался от его подарка, за то, что отвечал за брата, что не вразумил его вести себя так, как ему, Ратмиру Павловичу, хочется. «Лучше трепетать, но жить». Но Гирш, увы, скорее рожден, чтобы других приводить в трепет, чем самому трепетать.
— Разве допрос закончен? — срывающимся голосом спросил Семен Ефремович. Пока допрос длится, Гиршу ничего не грозит. И ему, Шахне, ничего не грозит.
Семен Ефремович не спешил брать у него ключ, старался заново возбудить интерес Князева к Гиршу, но тот и не думал допрашивать арестанта, терпеливо дожидаясь, когда Семен Ефремович возьмет у него ключ.
— Надеть легче, чем снять, — сказал Ратмир Павлович. — Щелк, и ты в неволе.
Шахна смотрел на наручники и думал о том, что до сих пор, до этой князевской просьбы, он еще был свободен, принадлежал себе, и вот наступила минута, которая перевернет вверх дном всю его жизнь, обесценит в ней то, что было дорого, и до неимоверных размеров укрупнит то, что в ней тлело подспудно, тайно от всех. Шахна понимал, что щелканье железа, поворот ключа сделают его уже не толмачом, а тюремщиком, Крюковым или Митричем, выкормышем ига, что после этого он не сможет называться слугой господа. Хорош господен слуга, заклепывающий в кандалы своего ближнего.
Его вдруг пронзила удивительная по своей ясности и безысходности мысль, что он, Шахна, уже осужден, ему уже вынесен приговор, что закованный в кандалы Гирш свободней и счастливей его. Все вдруг сместилось, опрокинулось. Кто здесь господин и кто здесь раб? Кто здесь лисица и кто здесь рыбка? Гирш идет на виселицу, чтобы господин перестал быть господином. Но ведь куда важней, чтобы раб перестал быть рабом.
Раб, раб, прошептал по-еврейски Шахна. Он смотрел на брата с боязливым восхищением, с испуганной надеждой, рассчитывая на его сочувствие и понимание, но взгляд Гирша был непроницаем.
Вместо того чтобы поддержать его беспомощный и жалкий протест, его благородную нерешительность, Гирш добровольно протянул руки, как будто в кандалах чувствовал себя в большей безопасности, чем без них.
— Запирай, — приказал Князев. Он расценил медлительность Семена Ефремовича как сговор, как безмолвное подстрекательство к непослушанию. — Это только первый раз страшно, — сказал он и положил перед толмачом ключ.
Семен Ефремович не сводил глаз с ключа; ключ вдруг словно ожил, взмыл к потолку, зажужжал, как муха, перелетел с потолочной балки на эполеты Ратмира Павловича, а потом с эполетов на шашку императора. Шахна даже услышал звон.
— Сходи на Погулянку, попроси лекарства, — напомнил ему Гирш.
— Что за лекарство? — допытывался Семен Ефремович.
— Порошки… От бессонницы… Так и скажи: «Брат просил порошки от бессонницы»…
— О чем он тебя просит? — насторожился Князев.
— Он просит, чтобы я сходил к его жене… Мире… и попросил порошки от бессонницы.
И чтобы у Ратмира Павловича не оставалось сомнения в его искренности, Семен Ефремович взял наручники, подержал их на весу, словно стараясь взвесить, и сунул в железные кольца собственные руки.
— А они тебе к лицу, ласковый ты мой, к лицу… Ей-богу, — сказал Князев и улыбнулся.
В кабинет вошли ротмистр и Крюков.
— Карета готова, — доложил Крюков, косясь на закованного толмача.
— Езжайте! — разрешил Князев.
Крюков замялся.






