Козлёнок за два гроша Канович Григорий
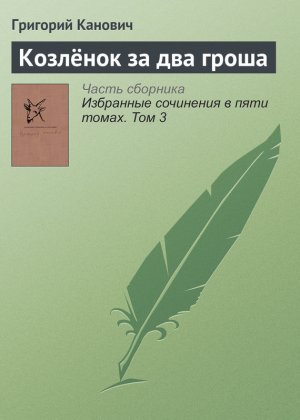
В коридоре запахло едой.
— Иди, — сказал Гирш. — Иди… Если увидишь отца, попроси у него прощения за сапоги.
— За какие сапоги?
— За юфтовые… Когда я уходил в Вильно сапожничать, я обещал сшить ему юфтовые сапоги… Так вот передай: если помилуют, будут не юфтовые, а хромовые, как у Маркуса Фрадкина.
В камеру вошел Митрич, поставил на стол миску с бурдой, положил краюху хлеба, луковицу.
— Так и передай, — буркнул Гирш.
— И больше ничего?
— Ничего.
Гирш принялся хлебать бурду.
Митрич подождал, пока он справится с едой, вылил остатки в парашу и направился к двери.
— Постойте! — крикнул Семен Ефремович.
— Чего тебе?
Надзиратель уставился на бледного толмача, но тот только покусывал губы.
Господи! Да Митрич поднимет его на смех! Какая еще бабочка? Бабочка в 14-м номере? Хо-хо-хо!
— Я скоро… не закрывайте… я сейчас выйду, — пролепетал Семен Ефремович и вдруг почувствовал, как его осыпало узорчатой, похожей на древнееврейские письмена пыльцой, как он весь уменьшился, ссохся и превратился в махаона.
— Дай отцу адрес Миры. Пусть позаботится о ней, когда она родит, — попросил Гирш.
— О Мире я сам позабочусь.
— Сам?
— Если… если с тобой что-нибудь случится, я женюсь на ней. По нашему обычаю брат берет в жены вдову брата.
Гирш расхохотался:
— По нашему обычаю брат берет в жены вдову брата? А о том, что Мира никогда за тебя не пойдет, ты подумал?
— Но почему?
— Потому что гордая… потому что ты, как и всякий жандарм, будешь напоминать ей в постели виселицу.
У Семена Ефремовича потемнело в глазах. Он хотел было броситься к Гиршу, схватить его за ворот арестантской куртки, повалить на пол и топтать, топтать, но ноги его не слушались. Махаон! Махаон, умеющий ползать, но не летать.
— Да, — произнес он тихо, — я служу в жандармерии. Но я, Гирш, лучше тебя… я еще ничью кровь не пролил, а с тебя… а на тебе…
Семен Ефремович сгорбился, втянул голову в плечи, но голова была слишком тяжелая, и она никла на тонкой шее.
— Чужая кровь не высыхает, — прохрипел он.
И вдруг добавил:
— Прости! Прости!..
В самом деле, какое право он имеет обвинять его, вступившегося за свою честь и за честь своих поруганных товарищей? Разве он, Шахна, только что не распространялся о любви ко всем и каждому? Почему же для своего брата делает исключение? Ведь ожидающего казни Гирша надо любить больше всех. Любить, а не унижать правдой, ничем тебе не грозящей.
— Я пошутил, — сказал Гирш. — Может, Мира согласится и будет с тобой счастлива.
— Мне пора, — косясь на дверь, произнес Семен Ефремович. — Советую тебе не горячиться. Я лично не во всем согласен с присяжным поверенным Эльяшевым… И я говорил бы правду даже на костре, сколько бы поленьев под меня не подкладывали, но ради отца… ради беременной жены я бы подумал.
— Я подумаю, — пообещал Гирш. — Думаешь, Шахна, мне не хочется жить? Думаешь, я из железа?
— Тогда в чем же дело?
— Ты этого не поймешь… Иногда, брат, я этого и сам не понимаю… Я тебя только об одном прошу: не приводи сюда отца.
В коридоре Семен Ефремович замедлил шаг, остановился возле Митрича и, превозмогая смертельную усталость, спросил:
— Скажи, служивый, ты здесь не видел такой маленькой… такой цветистой бабочки?
Надзиратель обалдело вытаращился на Шахну.
— Никак нет, — ответил он растерянно, словно упустил по службе что-то важное. — А зачем она вам?
— Зачем? — Семен Ефремович уже был не рад, что спросил. — Я хотел… хотел ее выпустить.
— Чтобы отсюда выпустить, надо сперва посадить, — резонно заметил Митрич. — А бабочек, кажись, еще не сажают…
Когда до Вильно оставалось верст двадцать-тридцать, Шмуле-Сендер и Эфраим решили больше не останавливаться на ночлег, а ехать и ночью — благо ночь выдалась тихой и светлой, такой, какой она бывает не в начале мая, а в середине лета, в самую косовицу ржи.
Звезды горели ярко, не затухая, как будто кто-то наверху все время подкручивал фитиль, и свет их, благостный, звонкий, лился на голову лошади, спокойно и чинно ступавшей в еловой тишине, на возницу, на растравленную душу Эфраима.
Смерть Авнера опустошила их, унизила их замысел, лишила какой-то невидимой, но прочной опоры, безвозвратно унесла то, чему они не могли подыскать названия.
Казалось, за смертью Авнера последует что-то страшное, ибо цепь, из которой вынули звено, не может не рассыпаться. Старик Эфраим и Шмуле-Сендер (правда, в меньшей мере) относились к смерти, как к работе, — не выполнить ее нельзя. Их потрясло только то, что Авнер справился с этой работой раньше, чем они, и получил за нее ничтожное вознаграждение — желтый песчаный холмик на чужом кладбище, не орошенный родственной слезой.
— Самое страшное на свете, Эфраим, когда некому тебя оплакать, — сказал Шмуле-Сендер. — У тебя, слава богу, дети… У меня Фейга…
— Самое страшное, Шмуле-Сендер, когда оплакиваешь своих детей, — ответил Эфраим, вглядываясь в дорогу.
После встречи с Данутой его угнетало какое-то колючее, застилавшее глаза предчувствие. Как он ни гнал его от себя, оно подкрадывалось, захватывало его ум, обжигало сердце. Вглядываясь в спокойный литовский пейзаж с ленивыми, словно только что созданными всевышним коровами, с редкими ветряками, размахивавшими деревянными крыльями, с голубыми подковами озер, разбросанными по обе стороны большака, Эфраим испытывал не столько радость, сколько тревогу. Ему казалось, что вон за тем поворотом вся эта благодать кончится и начнется то, чего он больше всего боялся, — тюрьмы, суды, присутственные места, содом и гоморра, царство дьявола, заманившего его, Эфраима, детей, чтобы надругаться над их чувствами, рассорить, погубить, подчинить какой-то слепой, не знающей пощады силе — силе отречения и отщепенства.
Шмуле-Сендер глубокомысленно морщил лоб и укоризненно поглядывал на Эфраима. Снова заладил: оплакивать детей! Как будто по дороге в Вильно не о чем поговорить. Да знает ли Эфраим, что Вильно — вовсе не царство дьявола, не содом и гоморра, а благословенный город с сорока пятью синагогами и десятью базарами — мясным, рыбным, вещевым, скотным, что живут там люди в высоченных домах, словно птицы на деревьях, что он, Шмуле-Сендер, был тут в молодости, ему даже одну барышню сватали, но он вернулся на родину, в Мишкине. Зачем ему столько синагог — у него грехов и для одной не наберется. Зачем ему десять базаров — что на деньги водовоза купишь? Другое дело — Берл! Тому город подавай. И не абы какой, а громадный, всем городам город, Нью-Йорк! Он в этом своем Нью-Йорке как рыба в воде плавает и еще от удовольствия пузыри пускает. Недаром пишет: «Наступит день, когда все евреи — из Мишкине ли, из Сморгони ли, из Вильно ли, из Бердичева ли — приедут в Нью-Йорк. И все там будут плавать, как рыбы. До евреев-рыб ни городовой, ни пьяный мужик не доберется!»
Шмуле-Сендер приедет в Вильно и перво-наперво спросит у Шахны, что такое «ол райт»… Шахна — человек ученый, Шахна умеет говорить по-всякому, должен знать, что такое «ол райт». Почему там, у них, этого «ол райта» полно, а у нас о нем никто слыхом не слыхивал.
— Знаешь, Эфраим, — протянул Шмуле-Сендер. — Иногда мне в голову лезут глупые мысли.
— Только иногда?
— Я вдруг подумал: что бы я сделал, будь я царем?
— Ну и что бы ты такое сделал?
— Что бы я сделал?.. Я бы, во-первых, всех сделал евреями.
— А во-вторых?
— Тебе мало во-первых?
Шмуле-Сендер никак не мог придумать, что бы он сделал во-вторых. Может, закупил бы в Америке этот «ол райт», чтобы его и здесь на всех хватило.
Вокруг чернели молодые ельники, от которых веяло прохладой и мшистой прелью. В придорожных кустарниках по-щучьи, гоняясь за прошлогодней листвой, метался ветер. Кое-где, на пригорках, переламываясь в звездном сиянии, дрожал силуэт крестьянской избы.
Где-то в бору ухал одышливый филин.
Шмуле-Сендер молчал и в уме переделывал мир: превращал в рыб евреев и литовцев, русских и татар, грузил на пароходы этот диковинный американский «ол райт», сжигал все виселицы, выпускал из тюрем всех узников, разгонял всех судей, менял панталоны и штиблеты, носил на обеих руках часы фирмы «Бернар Лазарек и сын», покупал впрок для своей лошади овес, открывал в Вильно одиннадцатый базар и сорок шестую синагогу.
— Я загадал желание, — сказал он Эфраиму.
— Какое желание? — снизошел каменотес.
— Если мы въедем в Вильно утром… на рассвете… до того, как погаснет последняя звезда… твоего Гирша помилуют.
Лошадь шла бодро, и с каждым ее шагом от ночи, как от черной льдины, отламывался кусок, который таял на глазах, оседал и погружался в светающую пучину.
Когда они въехали в Вильно, день только занимался, и оттого, что желание Шмуле-Сендера сбылось, его и Эфраима охватило какое-то радостное волнение.
— Ерушалаим де Лита! — воскликнул Шмуле-Сендер. — Литовский Иерусалим! Здравствуй!
И он поклонился.
— Поздоровайся с городом, Эфраим!
Тот склонил голову.
— Что за красота! Только ради этого стоило родиться! Смотри!
Шмуле-Сендер поворачивал голову то вправо, то влево, что-то восторженно бормотал не то городу, не то лошади, не то своему сыну Берлу, и все они — и лошадь, и город, и Берл — как бы шептали ему в ответ долгожданные, сокровенные слова, над которыми со всех сторон плыл могучий звон колоколов, зовущих прохожих к заутрене.
Эфраим слышал, что на свете есть большие города, но чтобы на земле были такие большие, как Вильно, он представить себе не мог.
Все поражало его: и беззаботные прохожие, сновавшие туда-сюда, словно никогда не были обучены ремеслам, и их странные, невиданные дотоле одежды — монашеские рясы, роскошные военные мундиры, шляпы, похожие на перевернутые миски; и городовые со спесивыми бляхами, и пролетки с поднятыми верхами, и длинные, бесконечные улицы, втекавшие одна в другую, как речки в половодье в Неман; и бесчисленные костелы и церкви, состязавшиеся в своем великолепии, но особенно будоражили воображение многоэтажные каменные дома, как бы громоздившиеся друг на друга и надменно рвавшиеся в небо.
Как же люди ухитряются на такой высоте жить? Как хорошо, что на кладбище нет этажей.
Неужели и Шахна живет в таком доме?
Эфраим войдет к нему, а у Шахны — крест на шее, и икона в углу, и жена-иноверка.
Хватит с него, Эфраима, Эзры!
— Ты хоть знаешь, где эта улица — Большая? — спросил он у Шмуле-Сендера.
— Нет. В Вильно все улицы большие. И эта, и та, — ответил возница.
На углу телега остановилась.
— Не скажете ли, добрый человек, как нам проехать на Большую улицу, — обратился Шмуле-Сендер к уличному торговцу, торговавшему нитками, пуговицами, иголками и прочей мелочью.
— Что за люди! — воскликнул торговец. — Целый день стоишь и ждешь, когда кто-нибудь к тебе подойдет и спросит: «Почем?» А они спрашивают, как проехать на Большую улицу! Наверно, думают, что меня кормят ответы.
Шмуле-Сендер охотно купил бы у него и ответ, и моток ниток — хоть их из Вильно Фейге привезет, — но в кармане не было ни гроша.
— Поедете сперва направо, потом налево, потом снова налево, потом направо… — затараторил торговец. — Потом вниз до Трокской. А оттуда до Большой один шаг.
— Спасибо, — сказал старик Эфраим и про себя решил, что, когда разживется деньгами, обязательно придет на этот угол, к этому желчному терпеливому торговцу, и купит у него на полтинник всякой всячины. А если повезет и Гирша помилуют или сошлют на каторжные работы, он, Эфраим, расщедрится на целый рубль!
Лошадь громко цокала копытами по мостовой. Шмуле-Сендер долго плутал по городу, пока наконец через горловину Трокской улицы не въехал на Большую.
Старик Эфраим нашарил за пазухой кисет, достал смятый листок с адресом, поднес к глазам и, волнуясь, облизывая пересохшие губы, неумело и виновато, как в хедере, прочел:
— Восемь…
— Что восемь? — осведомился Шмуле-Сендер.
— Дом восемь…
— Ты иди один, — промолвил Шмуле-Сендер. — А я пока лошадь пристрою.
Ему не хотелось мешать Эфраиму. Пусть побудет наедине со своей радостью. Долгожданная, нечаянная радость похожа на невесту — она застенчива и целомудренна, не терпит посторонних глаз, ищет себе укромный уголок и там, не стесненная ничем, царствует и зачинает другую, новую радость. До этого порога, до этой Большой улицы в этом большом городе Вильно все было просто. Все они: и Шмуле-Сендер, и Авнер, и старик Эфраим — составляли как бы одно целое, были одной плотью и одной кровью. Только смерть могла их разлучить. Смерть или такая разлучница, как радость.
Он, Шмуле-Сендер, на Эфраима не в обиде. Будь на месте Шахны белый счастливый Берл, он тоже уединился бы с ним. Жаль только — одному придется до Мишкине добираться. На дорогах неспокойно: разбойники рыщут, беглые солдаты; можно и не доехать. А тут, в Вильно, ему больше делать нечего — во все сорок пять синагог не сходишь, на всех десяти базарах не побываешь. Шмуле-Сендер отдохнет немного и, уповая на господа бога, двинется восвояси.
— Погоди, — сказал ему старик Эфраим. — Шахна даст тебе немного денег. Купишь своей гнедой овса.
— Иди, иди, — отнекивался возница. — Нет лучшей лошади, чем радость. Радость не то что в телегу — в поезд может впрячь, и потащишь, припеваючи…
— Какая тут, Шмуле-Сендер, радость! — вздохнул Эфраим.
И он, не оборачиваясь, зашагал к дому.
Шмуле-Сендер с какой-то виноватой завистью смотрел ему вслед, почесывая себя кнутом за ухом, где, видно, была затканная паутиной полупустая кладовая его мыслей.
Никогда еще белый счастливый Берл не казался таким далеким, как в эту минуту. К горлу подступила теплая пасхальная галушка, которую он никак не мог проглотить, глаза предательски заблестели, но Шмуле-Сендер до хруста сжал кнут и снова уставился на дом номер восемь.
Никуда он, конечно, без Эфраима не уедет. И не потому, что боится разбойников или беглых солдат, а потому, что иначе и быть не может. Всю жизнь — даже на русско-турецкой войне — вместе и вдруг врозь?
Эфраим встретится с сыновьями, насытится любовью или печалью и повернет оглобли обратно.
Шахна даст отцу на дорогу рубль-другой, и они, попрощавшись с литовским Иерусалимом, покатят назад в Мишкине, в свой Иерусалим.
Не спуская глаз с дома Шахны, Шмуле-Сендер вдруг ни с того ни с сего принялся думать о смерти. Когда он умрет, думал он, никто в его яму не бросит ни горстки корицы, ни пригоршни изюма, никто не завернет в его саван ни шила, ни рубанка. Может, Эфраим — если переживет его! — зачерпнет в Немане кувшин чистой прозрачной воды и плеснет в могилу.
Долго думать о смерти Шмуле-Сендер не умел, и потому, наверно, его мысли, задев Эфраима и Шахну, как куры на ячменное зерно, сбежались к счастливому белому Берлу. Это, конечно, замечательно, что его часы показывают самое точное время в мире. Но почему они показывают самое точное время не в России, а в Америке? Чем она, эта Америка, лучше?
Шмуле-Сендер посмотрел на окна и попытался угадать, за каким из них живет старший сын Эфраима Шахна.
Окна были одинаковые, как и жильцы, и эта одинаковость повергла Шмуле-Сендера в горестное изумление.
— Шмуле-Сендер! — услышал он чей-то голос.
Поначалу ему показалось, будто он ослышался. Будто обращаются не к нему, а к другому Шмуле-Сендеру. В Вильно их, небось, столько, сколько одинаковых окон. На каждом углу — Шмуле-Сендер, возле каждой лавки — Шмуле-Сендер, синагоги кишат Шмуле-Сендерами, на базаре не продохнуть от Шмуле-Сендеров, городовой с бляхой, и тот, наверно, бывший Шмуле-Сендер.
Когда он обернулся, то увидел рыжеволосого малого в опрятном пальто с широкими, как тротуарные плитки, карманами, в причудливой — или, как ее называли противники модной одежды, немецкой — шляпе со стеганым верхом и кожаным козырьком, в высоких, аккуратно зашнурованных ботинках, с гладко выбритыми щеками.
— Шахна! Шахнеле! — простонал Шмуле-Сендер. — Как же ты меня узнал?
— А я не вас узнал, — признался Шахна.
— Не меня?
— Лошадь. Ведь я же с вашим Берлом на бочке катался.
— Катался, катался! — пританцовывая на месте, повторял польщенный вниманием Шмуле-Сендер. Он тыкал в старшего сына Эфраима кнутом, желая убедиться, что перед ним не привидение, а живой человек.
— Помнишь, как ты у меня допытывался: «Ты всю реку вычерпаешь?» Всю не всю, а пол-Немана вычерпал, — ответил Шмуле-Сендер и просиял, завидев Эфраима. — А вот и твой отец!
— Помню.
— А как ты затычку вытащил — помнишь?
— Помню… Ну как — весь Неман вычерпал?
Старик Эфраим узнал сына еще издали, замедлил шаг, как бы свыкаясь со своей радостью и давая успокоиться сердцу. Побежишь, и оно, чего доброго, лопнет.
Не спеши, не спеши, уговаривал он себя, чувствуя, как в груди вместо одного сердца забилось два, одно другого громче и больней.
Застыл и Шахна.
Вид отца огорошил его. Старик Эфраим держался прямей, чем прежде; кудлатая его голова заросла еще больше; молодые дикие космы выбивались из-под шапки; он не горбился, не сутулился, и глаза его — насколько Шахна разглядел издали — тлели по-прежнему тихо и белесо, как головешки; только брови гуще присыпал иней, но и он был какой-то молодой, почти праздничный, словно выпал только вчера ночью.
— Дай-ка мне, Шмуле-Сендер, кнут, — попросил он, подойдя.
— Зачем? — испугался возница.
— Дай-ка! Дай!
Шмуле-Сендер протянул ему кнут, старик Эфраим расплел его, шутливо щелкнул им над немецкой шапкой Шахны.
— Что ты делаешь? — выпучился Шмуле-Сендер.
— Вытяну его за то, что приезжал редко… что тратился на меня…
Шахна не выдержал, бросился к отцу, обнял за плечи, поцеловал в можжевеловую бороду быстро, истово, виновато, уткнулся в стариковскую грудь, в которой, перебивая друг друга, продолжали биться два сердца, одно — радости, другое — тревоги.
— Ладно, — приговаривал довольный Эфраим. — В другой раз высеку… Завтра, завтра…
Он машинально повторял это «завтра, завтра», вкладывая в это слово какой-то непонятный постороннему смысл, важность которого должна была обнаружиться позже.
— Что ж мы стоим! Пойдем ко мне, — предложил Шахна.
— У меня, Шахнеле, дело, — отнекивался Шмуле-Сендер.
— Вилию решили вычерпать? Она и так обмелела.
— Посланец из Нью-Йорка приехал… Подарок от Береле привез… Золотые часы со звоном…
— Со звоном? — спросил Шахна и глянул на отца.
— Ага… — пробормотал Шмуле-Сендер. — Идите, идите… Вам надо вдвоем…
Старику Эфраиму не хотелось в такую минуту уличать Шмуле-Сендера во лжи.
— Шахна! Лошадь в пути проголодалась. Дай Шмуле-Сендеру на овес!
Семен Ефремович достал бумажник — ни Эфраим, ни Шмуле-Сендер никогда не видели такого кошелька с застежками, большими и малыми отделениями — и протянул водовозу деньги.
— Приходи к вечерней молитве, — промолвил Эфраим.
Шмуле-Сендер радостно замурлыкал; лошадь замотала головой. Она всегда знала, когда хозяин возвращается с деньгами, а когда и с пустыми руками. В этом гнедая Шмуле-Сендера была куда прозорливей, чем его жена — Фейга.
Жилье Шахны не обрадовало Эфраима. Оно поражало бедностью, даже убогостью. Единственное богатство — книги. Книг было много, больше, чем у рабби Авиэзера, и все толстые, в каких-то почерневших переплетах, от которых пахло клейстером и табачным листом. В углу стояла скромная односпальная кровать, застеленная недорогим серым покрывалом, с большой, взбитой, как взъерошенная наседка, подушкой.
— Да-да, — неопределенно протянул Эфраим. При таком жалованье Шахна мог жить намного лучше — купить мебель, шкаф, двуспальную кровать. Неужто он собирается ходить в холостяках целый век? — снять комнату попросторней, а может, даже не одну. Не придумал ли Шахна свою службу, как Шмуле-Сендер часы со звоном?
— Ты, наверно, есть хочешь? — спросил Шахна без всякой связи.
— Нет. Вижу, пейсы состриг. Одет по-немецки. Может, говорю, крестился?
— Бог миловал, — откашлялся Шахна.
— Но и раввином не стал. Почему?
Эфраим настойчиво, не давая Шахне передышки, подбирался к главному: что же он, его сын, делает в славном городе Вильно, где сорок пять синагог и десять базаров. Чем и на каком базаре торгует?
— Ты на меня не обижайся, — сказал Эфраим.
— За что?
— За вопросы. Что поделаешь, если старость — не вопрос, а ответ.
Эфраим поднял глаза, снова оглядел келью Шахны, задержался взглядом на давно не мытом окне, на золотом муравейнике лучей, потом — на сыне.
— Один живешь?
— Один. Господь бог тоже холостяк.
— Ишь, куда хватил!.. У господа бога есть ангелы… херувимы… мы, его дети…
— Мы — дети дьявола, — серьезно сказал Шахна.
Наступило тягостное молчание. Слышно было, как по Большой улице с лихой песней вышагивают солдаты.
Эфраим приехал в Вильно не для того, чтобы спорить со старшим сыном. Эфраим вообще не любит спорить. Шахна знает, зачем он пустился в эту далекую, в эту изматывающую дорогу. Почему чужой человек — Юдл Крапивников — ему про Гирша уши прожужжал, а родной сын об этом ни слова?
— Как ты думаешь, — вырвалось у него внезапно, — отдадут мне Гирша?
— Если суд его признает виновным, то вряд ли…
— А зачем он им мертвый?
— Его еще могут помиловать… Ради жизни можно поступиться своими убеждениями. Жизнь выше убеждений.
Эфраим насупился, выглянул в окно, за которым по-прежнему сокрушала булыжник тяжелая поступь солдат.
— Убеждения до тех пор хороши, — сказал Шахна, — пока не становятся предубеждениями. У Гирша жена… не сегодня-завтра родится ребенок… ты… — Он вдруг спохватился, что говорит с отцом, как с Ратмиром Павловичем.
— Для тебя я, выходит, не существую?
— Существуешь… Гирша защищает лучший присяжный поверенный в Вильно — Михаил Давыдович Эльяшев, — зачастил Шахна. — Будем, отец, надеяться, верить.
— Я, сын мой, со дня рождения верю… В бога… в вас, моих детей… Кроме веры, у меня никаких убеждений не было. И что?
Эфраим замолк.
— И что? — продолжил за него Шахна.
Раньше ему никогда не приходилось видеть отца таким открытым, смятенным, алчущим правды и понимания.
— Как был один, так один и остался.
— Ты не один, отец, — утешил его Шахна.
— Один. Один.
— А мы?
— Ты же сам сказал: «Мы — дети дьявола…»
— Я имел в виду совсем другое, — принялся оправдываться Шахна, с каждой минутой лишаясь не столько доводов, сколько уравновешенности.
— Верить можно только мертвым, — твоей матери Гинде, твоим мачехам Двойре и Лее… нищему Авнеру, да будет ему пухом земля, твоему деду Иакову… А вы — живые.
— Но мы, отец, в этом не виноваты.
— Да. И все же только мертвые не изменяют.
— А бог?
— Бог, — старик Эфраим запустил руку в космы. — Он такой же несчастный отец, как я… как Шмуле-Сендер… Он ждет от каждого из нас, что ему подарят часы со звоном… Но каждый из нас знает, что часов, показывающих веру, как время, нигде, даже в хваленой Америке, нет.
— Ать-два! Ать-два! — раздавалось за окном.
— Послушай, Шахна, где их хоронят?
Шахна понял, о ком спрашивает отец, и нахмурился.
— На военном поле.
— А что такое военное поле?
— Обыкновенный пустырь. Но Гирш еще жив! — возмутился Шахна.
Как отец может об этом так просто говорить? Как будто речь идет не о живом человеке, а о каком-нибудь кладе — мешке с золотыми монетами, зарытом, как гласит молва, солдатами Наполеона на том же военном поле. Господи, что будет, когда отец узнает, что он, Шахна, почти причастен к казни Гирша? — подумал Семен Ефремович.
— Ты мне, Шахна, растолкуй старому, за что он его… этого генерал-губернатора?..
— Он велел их прилюдно выпороть. Всех до единого. За поркой наблюдало полгорода: дамы… господа… все приставы Вильно… восемь пожарных с брандмейстером во главе. Хохот, визг, улюлюканье!
— Меня в детстве еще и не так пороли. Задница на то и задница, чтобы нет-нет да огреть ее. Стоит ли из-за своей, пусть и в волдырях, задницы лишать другого жизни? Разве ты, Шахна, стрелял бы? Разве я стрелял бы? А Эзра?..
— Нет. Но исполосовали не задницу, а его душу, — заступился за Гирша Шахна.
— А ей порка полезна, — спокойно ответил Эфраим. — Мою душу вы вон сколько лет порете… А она к вам все равно тянется…
Шахна был готов говорить о чем угодно, рассказывать о Гирше или Эзре, смакуя подробности, только бы старик не спрашивал о его житье-бытье.
Да и о чем, собственно, его можно спрашивать? Он, Шахна, ни в кого не стрелял, в тюрьме не сидел, фокусы на площадях не показывал. Жизнь его (если посмотреть на нее глазами отца) течет ровно и беспечально. Ведь единственное, на что старик обратил внимание и что его, похоже, встревожило, это одиночество Шахны, отсутствие жены. Но это ж не беда. Чего-чего, а жен у Дудаков, как шутили в местечке, всегда было в два раза больше, чем надо.
Эфраим то ли от усталости, то ли от обилия обрушившихся на него впечатлений угрюмо помалкивал, и в этой угрюмости Семену Ефремовичу мнилась какая-то непредсказуемая угроза.
— Отец, — сказал он. — У меня есть один хороший знакомый… мы когда-то вместе с ним учились в раввинской семинарии… Сейчас он какой-то чин… в жандармерии… кажется, толмач… Он попросит своего начальника, чтобы тебе разрешили свидание.
— А зачем мне свидание с начальником?






