Козлёнок за два гроша Канович Григорий
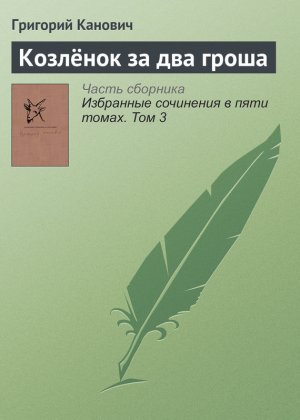
Сейчас все откроется, мелькнуло у Семена Ефремовича. Сейчас он узнает, кто они, его ночные гости. Не подослал ли их Ратмир Павлович?
— В нечестном суде невозможно быть честным, — промолвил наголо остриженный.
Семен Ефремович не стал возражать. Он подошел к кровати, откинул одеяло, взбил подушку, всем своим видом давая понять, что гостям пора и честь знать.
— Значит, отказываетесь? — без всякой надежды спросил молчун.
— Да, — сказал Шахна. — Гирш просил, чтобы вы через меня передали ему порошки от бессонницы…
— Будут порошки… будут, — не задумываясь, выпалил говорун. — Если другого выхода не останется.
Семен Ефремович не понимал, о чем толкует Арон Вайнштейн, но, верный выработанной за годы совместной работы с Князевым привычке, не требовавшей особых умственных усилий, кивал, прислушиваясь к мышиной возне.
Господи, подумал Шахна, наверно, яд?! И он говорит об этом так просто, словно речь идет о липовом чае или пасхальной медовухе. Что это за люди, которые не останавливаются ни перед чем — ни перед выстрелами, ни перед отравой. Да знают ли они, что у Гирша беременная жена, что у нее вот-вот родится ребенок?
А он сам? Разве он не благословил брата на самоубийство? Разве не снял с себя ремень?
Убийцы, убийцы, все убийцы, подумал Семен Ефремович про себя и вдруг, обезумев от усталости, от отвращения к себе, закричал:
— Оставьте меня! Оставьте!
Переглядываясь и не оборачиваясь, пришельцы засеменили к двери.
Семен Ефремович стоял, не двигаясь, обхватив отяжелевшую голову, ненавидя себя за слабость. Ну чего он ощерился на них? Они доверились ему, а он их, неразумных, выгнал. Дети! Молокососы, не знающие жизни, возомнившие себя героями! Надо было встать перед ними на колени и умолять, чтобы оставили надежду изменить бомбами мир, чтобы взялись за какое-нибудь дело: этот Коммивояжер вполне мог бы пойти по стопам своего отца — присяжного поверенного Мирона Александровича Дорского, а этот Суслик — поступить в ученики к какому-нибудь кузнецу или жестянщику, эдакая у него силища. Надо было не гнать их взашей, а вразумить, объяснить, что главное не столько творить добро, сколько не множить зло. Что проку в добре, запятнанном кровью?
В углу зашуршала мышь.
— Нехама, — тихо позвал ее Шахна. — Нехама! — еще раз повторил он, и мышь зашуршала бойчей, чем прежде.
За долгие бессонные ночи они привыкли друг к другу.
Семен Ефремович уже и сам не помнит, когда и как вырвалось у него это имя — Нехама. Так звали дочку рабби Авиэзера, которую прочили ему в невесты.
— Нехама, невеста моя, — прошептал он.
Светло-серый зверек метнулся из угла на середину комнаты, и Семен Ефремович отчетливо различил в темноте серебристую шкурку и кончик хвоста.
— Зачем мы приходим в этот мир, Нехама, если и ты, и я до скончания дней своих вынуждены жить в подполье… Мое подполье — мое тело. Оно темней и глубже, чем твое, Нехама, и нет в нем ничего, кроме страха и крох надежды.
Семен Ефремович не почувствовал, как у него брызнули слезы.
Он не стыдился их, не вытирал, и они спокойно текли по его небритому, исхудалому лицу, пробиваясь через терновник щетины. Слезы делали его прежним, возвращали из Вильно к забытым истокам, в иные, неблизкие, пределы, к своему старому, нерусскому, имени — теперь он уже был не Семен Ефремович Дудаков, а Шахна, Шахнеле, как ласково называла его мать.
Слезы заменяли материнскую ласку, очеловечивали привычное жилье, утепляли, придавали что-то родное этим углам, затканным паутиной, этим окнам, выходящим в темный и глубокий, как колодец, двор, этой мебели, которую он, Шахна, купил за бесценок прежде, чем вселиться сюда.
Семен Ефремович вдруг поймал себя на мысли, что без слез дом не очаг, а приют, временный, неверный, и даже обрадовался, что плачет.
— Нехама! — сказал он, испуганный тем, что мышь перестала шуршать.
Ему казалось, что он обращается не только к мыши, но и к давно умершей матери, к угрюмому отцу, упрямо долбящему кладбищенский камень, к этому молчаливому камню, к меламеду Лейзеру, ко всему, что жило, трепетало, переливалось рядом с ним в ту пору, когда он был Шахной, Шахнеле. Казалось, что и сама мышь прибежала сюда, в Вильно, оттуда, с берегов Немана, из дедовской избы.
После смерти, подумал Семен Ефремович, и он, может быть, превратится в мышь, не простую, а кладбищенскую, ту, что живет одновременно с живыми и мертвыми.
Он превратится в мышь и вернется на родину.
Каждый должен вернуться на родину: кто мышью, кто мотыльком, кто зябликом.
Семен Ефремович почувствовал на губах привкус соли, облизал их, все еще продолжая думать о том, что отодвинулось, удалось, безвозвратно ушло из его жизни, оставшись только в его снах и слезах.
— Спать, Нехама, спать, — пробормотал он и двинулся к кровати.
Он лег, натянул на голову байковое одеяло, но и сквозь его толщу он слышал жалобный писк мыши, И в этом писке умещалась вся несправедливость мира, стоны всех обиженных, всех приговоренных к смертной казни через повешение, всех, ждущих своих мужей из тюрем, всех, тяжко и напрасно добивающихся истины, и всех, разочаровавшихся в ней.
От мыши бессонная и тревожная мысль Семена Ефремовича перешла к богу, но и бог сейчас казался скорее вместилищем утрат, чем обретений.
Ему не хотелось, чтобы за окном рассвело, и поначалу небеса вроде бы выполняли его желание, но потом в комнату хлынул свет, и Семен Ефремович понял, что настало утро и пора вставать.
Раньше пробуждение доставляло ему ни с чем не сравнимую радость. Он вскакивал с постели, бежал к колодцу, обливал себя студеной водой и спешил засесть за изучение Торы. Он собирался открыть в ней нечто такое, что перевернуло бы все прежние представления о мире, о вере, о смысле жизни на земле.
Теперь же он всегда просыпался с какой-то опаской и даже неловкостью.
— В самом деле — стоит ли просыпаться, чтобы переводить жандармскому полковнику Ратмиру Павловичу Князеву показания какого-нибудь Кримера или Кремера, Гирша или Мотла, чтобы ловчить, обманывать, ждать милости от председателя военно-полевого суда Смирнова или палача Филиппьева?
Стоит ли просыпаться ради того, чтобы тебя выставили на смех, чтобы над тобой безнаказанно поглумились — надели наручники и отпустили на все четыре стороны?
Стоит ли просыпаться, чтобы оказаться в постели с нелюбимой женщиной, выслушивать ее жалкие любовные признания и задыхаться от запаха замоченного чужого белья?
Семен Ефремович вдруг вспомнил обворожительную Юлиану Гавронскую, и у него защемило сердце. Где она? Что с ней? Вышла ли за кого-нибудь замуж или гордо вдовствует до сих пор?
Господи, как давно он не был в антикварной лавке!
Маймонид, Галеви, Платон, Аристотель — все заброшено, все забыто.
Послезавтра из Риги вернется Ратмир Павлович, его Маймонид и Галеви (он ведь тоже пишет стихи!), послезавтра из 14-го номера привезет закованного Гирша его Платон — Крюков, послезавтра снова вытянется перед Князевым в струнку его Вольтер — ротмистр Лиров.
Шахной овладело нестерпимое желание вырваться из этого заколдованного круга, приобщиться к чему-то подлинному, чистому, незапятнанному, забыться, сбросить с себя это тяжкое бремя забот о других, заняться собой и только собой.
В комнате становилось все светлей.
Семен Ефремович встал с кровати, размял онемевшие суставы, глянул в один угол, в другой, скользнул взглядом по половицам — в кои-то веки он мыл пол, — поискал Нехаму, но мыши нигде не было.
Куплю ей у Соловейчика крупы, решил Шахна и вышел из дому.
Моросило.
Мышиное шуршание дождя успокаивало, ласкало душу.
Семен Ефремович шел наобум, как в детстве.
Мимо сновали прохожие.
Два хасида, черные, как ночь изгнания, катили пустую рассохшуюся бочку.
Бочка погромыхивала по мостовой, и от этого грома смирный майский дождик суровел и пах грозой и селедкой.
Маленькая монахиня с белым чепцом на голове и таким же белым воротничком, как ласточка, выпорхнула из костела и засеменила вслед за Шахной.
Какие они счастливые, думал он, чувствуя затылком чужое дыхание, — и эти хасиды, и эта монахиня, и этот дождик.
Семен Ефремович и сам не заметил, как очутился возле ешибота — раввинского училища.
Он уже собирался было пройти мимо, но какая-то неведомая сила остановила его, а потом и подтолкнула к серому кирпичному зданию, в котором, как ему теперь казалось, он провел свои лучшие дни в Вильно.
Здание было таким же, как прежде. Не хватало только нужника во дворе. На его месте желтело огромное пятно, а чуть поодаль из свежих досок был сколочен новый нужник.
В памяти внезапно всплыло, как он подкарауливал у старого нужника своего недруга Беньямина Иткеса, злоумышленника, осквернившего его талес — подарок благочестивого рабби Элиагу. Рабби Элиагу так его любил, что подарил — вопреки обычаю — талес неженатому!
Семен Ефремович мысленно укорил себя, что не пошел на похороны рабби Элиагу. Чего боялся? Ведь это он первый привел его на священные луга Торы и сказал:
— Здесь все твое: каждый злак и каждый цветок. Срывай их во славу господа. И помни: кто спасает одного человека, тот спасает весь мир.
В синагоге ломовых извозчиков Шахна узнал, будто и рабби Акива плох — шьет себе саван. Семен Ефремович не поверил — где это слыхано, чтобы человек сам себе саван шил!
Может, рабби Акивы давно уже нет в живых?
Семен Ефремович прошел через двор, поднялся по каменной лестнице на второй этаж, отыскал взглядом угловую комнату, в которой жил рабби Акива, постучал в дверь, не надеясь услышать ответа, но ошибся; ответ последовал, причем быстрее, чем Шахна предполагал.
— Кто там?
— Я, Шахна.
— Кто, кто?
— Шахна Дудак, — выкрикнул Семен Ефремович, словно перед ним была не дверь, а ворота рая.
За дверью воцарилось молчание. Рабби Акива что-то вспоминал или взвешивал.
Семен Ефремович приоткрыл дверь, заглянул в комнату.
Рабби Акива сидел за столом и, то и дело поправляя сползающие на нос очки, что-то шил.
Легкая белая материя, являясь как бы продолжением его бороды, стекала на колени; в жилистой руке рабби Акивы посверкивала большая иголка.
— Не ждали, — произнес Семен Ефремович.
— Я уже никого не жду, — признался рабби Акива. — Никого, кроме смерти. Наверно, надо перестать.
— Что?
— Ждать, — сказал рабби Акива. — Со смертью, как и со счастьем, чем больше ждешь, тем позже приходит.
— Ну что вы, рабби… Вы еще…
Семен Ефремович не отрывал взгляда от сновавшей по краю савана иголки, и оторопь вдруг сменило горькое изумление. В иголке не было нитки!
— Разве жизнь — не похороны? — спросил рабби Акива. — Жить, сын мой, значит хоронить… Сперва мы хороним свое детство, потом свою молодость, потом с чьей-то помощью и свою старость… Хорошо, что ты пришел… Ведь ты был нашим лучшим учеником, Шахна Дудак!
Семен Ефремович пытался перевести взгляд с жилистой руки рабби Акивы на его бороду, на выцветшую ермолку, которая, как божья коровка, застыла на макушке, но глаза упрямо продолжали искать иголку.
— Дудак, Дудак, — врастяжку сказал рабби Акива. — Один Дудак сюда уже приходил.
— Приходил? Когда?
Известие было настолько странным и неожиданным, что Семен Ефремович поначалу не мог его как следует оценить.
— Тебя спрашивал, — продолжая орудовать иголкой, сказал рабби Акива. — По-моему, брат твой… Он даже имя свое назвал. Эзра. Твоего брата зовут Эзра?
— Эзра, — подтвердил Семен Ефремович.
— Это только они, — рабби Акива мстительно ткнул иголкой в дверь, — думают, что я рехнулся… А я еще в полном уме, сын мой… У меня в голове не ночь, а ясный голубой полдень, как в молодости.
Что-то случилось с отцом, промелькнуло у Семена Ефремовича. Брат Эзра не станет разыскивать его зря. Кочевник, гуляка, острослов, он терпеть не может раввинскую братию.
Подозрения Шахны усиливались еще оттого, что рабби Акива был похож на отца — и повадками, и внешностью, и еще бурлившей в нем силой, а главное — как и отец, он загодя готовился к смерти.
Рабби Акива разгладил саван, воткнул иголку в ворот своей рубахи, покосился на дверь и возгласил:
— Обед! Сейчас они принесут нам гороховый суп и кусок говяжьего мяса.
Через некоторое время дверь и впрямь отворилась.
Тощий, длинный, как жердь, ешиботник, припадавший на правую ногу, принес миску горохового супа, в которой, как лягушка, плавал кусок мяса. Он оглядел Семена Ефремовича с ног до головы, поставил миску на саван и хотел было удалиться.
— Куда ты ее, дурья голова, ставишь! — возмутился рабби Акива. — Саван — не скатерть!
— А куда мне ее ставить? Куда? Куда? — закудахтал ешиботник.
Спорить с ним было бесполезно. Рабби Акива оголил угол стола и передвинул туда миску.
— Принеси и гостю поесть, — велел он. — А пока ты, дурья голова, вернешься, мы помолимся.
И первый принялся молиться.
Творил молитву и Шахна. Он молился за отца, за обоих братьев — Гирша и Эзру, за свою непутевую сестру Церту, бедствующую с малолетним Давидом в Киеве, за беременную Миру, которую он в глаза не видел, за Арона Вайнштейна и даже за этого Суслика — Федора Сухова.
Рабби Акива проговаривал слова молитвы быстро, не опаляя ни своих губ, ни своей души, а Шахна был словно в горячке, в бреду, в очистительном исступлении.
Семен Ефремович ничуть не сомневался, что рабби Акива знает о его службе в жандармском управлении, о его столкновении с богомольцами, среди которых были и воспитанники училища. Сам рабби Акива синагоги ломовых извозчиков больше не посещал — ноги не слушались.
Шахна был ему благодарен за то, что он ни о чем его не расспрашивал, не совестил, не упрекал. Совместная трапеза и молитва как бы подчеркивали доверие старца. В самом деле — зачем донимать его расспросами, захочет — сам расскажет о себе. И потом разве важно, где человек служит?
Рабби Акива кончил молиться, взял ложку и погрузил ее, как весло, в суп. Он не столько ел, сколько задумчиво греб ею.
В комнату неслышно вошел верзила-ешиботник, принес еще одну миску, только поменьше и без мяса.
— Мясо кончилось, рабби, — сказал он.
— Ступай! — замахнулся на него веслом рабби Акива. — Все у них кончается. Все.
Ешиботник так же неслышно вышел, как и вошел.
— Рабби, — сказал Семен Ефремович. — Я пришел к вам, чтобы вы укрепили мой дух… Я не хочу жить, рабби. Вы учили меня крушить зло. Но зло, видно, сильней нас. Оно везде и всюду. Оно неистребимо.
— И хорошо, — сказал рабби Акива, зачерпнув веслом гороховой жижи.
— Что же в этом хорошего?
— Мой отец — портной, да сохранится память о нем, любил повторять: «Чтобы только работа не кончилась… чтобы только работа не кончилась…» Много зла — много работы… Ты еще молод. Тебе нельзя опускать руки.
— Но я, рабби, не столько крушу зло, сколько ему прислуживаю.
— А ты что хочешь — войти в огонь и не опалить одежды?
Семена Ефремовича поражала и восхищала ясность его ума и непреклонность, но в них не было ни сострадания, ни сочувствия.
— Послушай, сын мой… Если ты когда-нибудь доберешься до земли обетованной, сходи к Стене плача и поплачь за меня… и за этих бездельников, — старик ткнул ложкой в дверь, — и за брата твоего Эзру… за всех, кто томится и кто умрет на чужбине.
Рабби Акива засопел носом.
— Ты еще, Шахна, не знаешь, что такое чужбина.
— Знаю, рабби.
— Если ты знаешь, то почему не покидаешь ее? Почему?
Семен Ефремович помолчал, посмотрел на рабби Акиву, на его жилистые руки, на иголку в вороте.
— Всюду для нас чужбина, — сказал Шахна. — Наше отечество — это не земля, обетованная или необетованная, не моря, не рощи, а небо, рабби.
— Как ты сказал?
— Я говорю: наше отечество — небо. Но мы, рабби, не можем туда взлететь… потому что окаменели. От своих грехов, от своего сиротства, от своей покорности… Мы, рабби, — камни, а не птицы.
Рабби Акива издал глубокий вздох; рука его потянулась к вороту, он взял иголку и стал обметывать шов, который никто, кроме него, не видел.
Шахна следил, как проворно снует его рука, как вонзается в легкую материю иголка, как выныривает из нее.
— Рабби, — сказал он.
— Я слушаю тебя, сын мой.
— Ваш челнок без паруса.
Рабби Акива заморгал седыми, словно накрахмаленными, ресницами, уставился на своего ученика. О чем он говорит? О каком парусе? Саван — вот его парус!..
— Вы забыли, рабби, продеть в иголку нитку.
— А я все время так, — признался старец.
— Как?
— Без ниток. Кончились нитки, — объяснил он. — Кого ни попрошу, все в один голос твердят: «Кончились!». Нигде, даже у Пергаментника нет… Они, — рабби Акива снова покосился на дверь, — думают, что я сумасшедший… считают, что раз человек не может себе сшить пеленки, то и саван не может… Они не ведают, что пеленки — это только часть будущего савана, только лоскуток.
Рабби Акива замолк, вдохнул всей грудью застоялый комнатный воздух.
— Может, ты, Шахна, принесешь мне ниток? Не может быть, чтобы в лавке Пергаментника их не было!
Когда Семен Ефремович назавтра принес ему из лавки Пергаментника моток белых ниток, он уже рабби Акивы в живых не застал.
— Съел гороховый суп и умер, — сказал верзила-ешиботник, и Шахну передернуло от его безучастного, почти насмешливого тона. Верзила был Семену Ефремовичу чем-то неприятен — коробила его скрытая наглость, коварная услужливость, внешний вид. Откровенная неряшливость в нем сочеталась с эдакой вальяжностью, которая не умерялась, а даже оттенялась хромотой.
— Почему вы ему ниток не давали? — выпалил Шахна, как будто от них, от этих ниток, зависела жизнь старца.
Ешиботник поскреб в затылке, смерил Семена Ефремовича неприязненным взглядом, но все же ответил:
— Интересно было.
— Что интересно?
— Все училище сбегалось смотреть.
— На что смотреть?
— Как он выдергивает из бороды волосы и вдевает в игольное ушко.
— Из бороды… волосы? — ужаснулся Семен Ефремович.
— Да. Можно было умереть от хохота.
Гнев исказил лицо Шахны, из всех щелей в ноздри снова ударила вонь предательства; Семен Ефремович побагровел, схватил верзилу за грудки и поволок по коридору; верзила старался вырваться, спотыкался, пиная Семена Ефремовича правой, хромой, ногой, пытался укусить его руку и на все училище что есть мочи кричал:
— Отпусти!.. Ублюдок! Жандармский прихвостень!
Из классов высыпали ешиботники.
— Бейте его! — вопил верзила. — Он служит в жандармерии!.. Дьяволу!..
Семен Ефремович ждал, когда зеваки, выстроившиеся вдоль стен и спокойно наблюдавшие за стычкой, бросятся к нему, оторвут своего однокашника и начнут колошматить, но то, что он увидел, так ошеломило его, что он разжал руку и отпустил своего пленника.
Ешиботники кланялись.
Господи, подумал Шахна, они кланяются не тебе, а дьяволу, жандарму.
Ему вдруг захотелось крикнуть: «Бейте! Бейте!», но зеваки стали понемногу расходиться, и Семен Ефремович остался один в пустом коридоре.
Он долго не мог опомниться, пока его не вывела из оцепенения мысль о мертвом учителе.
Покойник, как и положено, лежал на полу.
Как на плоту, подумал Семен Ефремович.
Он протиснулся через толпу бородатых старцев в черных сюртуках и черных шляпах, нашарил в кармане моток ниток, купленный у Пергаментника, вынул и поставил, как свечу, в изголовье рабби Акивы.
Из Риги Ратмир Павлович вернулся в необыкновенном расположении духа — о наручниках (а этого Семен Ефремович больше всего боялся) даже не вспомнил, весь сиял, лучился свежей, пахнущей морем радостью. Князев говорил о чем угодно — только не о деле Гирша Дудака, охотно рассказывал о рижских достопримечательностях, особенно о прибрежной полосе, признался Семену Ефремовичу, что, выйдя в отставку, на юг, видно, не поедет; ну и что, что там тепло; Антонина Сергеевна жары не переносит; другое дело — окрестности Риги: сосна, залив, дачи на любой вкус, хочешь в шведском, хочешь в немецком стиле. Да и население дружелюбней, чем на Кавказе или тут, в Вильно.
Семен Ефремович слушал его и, как всегда, думал о своем. Его не занимали ни сакли, ни дачи в шведском или немецком стиле. Главной его заботой было найти в шумном, тысячеликом Вильно Эзру.
Каждый день, после службы, Семен Ефремович рыскал по городу; посещал базары и парки, где порой выступали заезжие фокусники и силачи, заходил в молельни и даже в костелы.
Он подолгу просиживал в синагоге ломовых извозчиков, порой до самого закрытия, когда служка выпроваживал всех, кроме нищих и калек (иногда он и их выгонял), ловил на себе презрительный взгляд Мамы-Ротшильда или шорника Товия, содрогаясь при мысли, что кто-нибудь из них поведал Эзре о том, где его брат служит.
Но Эзры нигде не было.
Как странно все устроено, размышлял Семен Ефремович. Какой-нибудь Арон Вайнштейн — Коммивояжер или Федор Сухов — Суслик находят тебя сразу, хоть ты их и видеть не желаешь.
Когда не только базары и площади, синагоги и костелы, но и трактиры были обысканы, Семен Ефремович совсем отчаялся.
Эзра, видимо, в Вильно не задержался, проехал мимо, смирился было Шахна, но тут он вспомнил про еще одно злачное место — трактир Янкеля Зивса.
Янкель Зивс был городской знаменитостью. Прославился он тем, что приторговывал «белым мясом» — свининой. Все Вильно облетело его крылатое выражение:
— Если бог создал свинью, то Янкель Зивс может себе позволить сотворить свинину.
У Зивса обычно собирались молодые выкресты или отроки, похожие на Коммивояжера — Арона Вайнштейна, бредившие мятежными переменами, читавшие запретные книжки и предпочитавшие говорить между собой на всех языках, кроме родного.
Семен Ефремович для очистки совести решил заглянуть и к пронырливому Зивсу и не ошибся.
Эзра сидел за столиком и маленькими глоточками пил густое, красное вино.
Он ни на кого не обращал внимания — то ли оттого, что был сосредоточен на какой-то мысли, то ли оттого, что был слегка навеселе.
Семен Ефремович потоптался на месте и нерешительно направился к брату.
Его отношение к Эзре было не простым. Шахну восхищала необыкновенная сметливость брата, его безоглядная доброта ко всем — к людям и животным, его легкокрылое воображение, способность отрываться от земли и воспарять в такие выси, какие в их роду никому и не снились. Но вызывала неприязнь его бездумность, упорное, не свойственное евреям безделье, веселое и прибыльное вранье. Шахна до сих пор помнит, как маленький Эзра — ему тогда шел седьмой год — продал сыну меламеда Лейзера голубя на крыше. Когда Генех, сын меламеда, отсчитал ему три пятака, Эзра сунул их в глубокий, как мережа, карман и спокойно сказал:
— Бери!
— Но они же на крыше… — пробормотал озадаченный Генех.
— Если бы голуби были у меня в руке, я взял бы с тебя втридорога, — отрубил Эзра.
Мать Лея в нем души не чаяла. Она мечтала, чтобы ее поскребыш стал торговцем, открыл свою лавочку, но торговал не изюмом и марципанами, не лопатами и боронами, не сукном и ситцем, а золотыми брошками и браслетами. Эзра же целыми днями носился по березовым и сосновым рощам, ставил силки, ловил дроздов и трясогузок или гонялся за рыжими, пламенеющими, как золотые изделия, белками. Дважды отец снимал его с крыши мишкинского костела, куда он лазил, чтобы убедиться, есть бог или нет.
— Никакого бога нет, — сказал он, вернувшись домой.
— Бог живет выше, — заступилась за всевышнего мать Лея.
— А почему он не живет на земле? Там, где нужен?
Все это — и мать Лея, и клочки разговоров, и даже проданные сыну меламеда Лейзера Генеху голуби — припомнилось Семену Ефремовичу, пока он шел к столику, за которым Эзра потягивал свое дешевое вино.
— Шалом-Алейхем, братец, — сказал Шахна.
Эзра поднял на него затуманенные глаза и стукнул стаканом о столик; вино выплеснулось, потекло по скатерти; Семен Ефремович вошел в это вино, как в Неман, и теплая красная струя радости обдала его с ног до головы.
— Шахна! Янкель! Еще одну бутылку «Кармела», — попросил Эзра.
Трактирщик Янкель Зивс из-за стойки наблюдал за ними, сняв с головы ермолку и оголив свои удачливые, еще не тронутые проседью кудри.
— Не надо, — тихо возразил Семен Ефремович.
Из письма отца он знал о пагубной страсти брата и не собирался потворствовать ей.
Янкель Зивс засуетился, достал из-под прилавка бутылку вина «Кармел».
— Хоть бы пыль с нее стер, — упрекнул трактирщика Эзра, когда тот поставил бутылку на стол.
— Эта пыль драгоценная, — отрезал Зивс. — С нашей праматери-родины… с Эрец-Исроеля… За такую пыль лишний гривенник положено брать.
Семену Ефремовичу не хотелось рассиживаться, но он понимал, что сейчас Эзру никакими силами от стола не оторвешь.
— За встречу, — сказал Эзра. — Как ты, божий человек, живешь?
Шахна уловил в его голосе насмешку и весь сжался. Он все про меня знает, подумал Семен Ефремович. Только делает вид, что не знает. Жалеет или ждет удобного случая, чтобы ударить под дых? Скоморох и жандарм — разве может быть что-нибудь более несовместимое?
— Ты лучше скажи, что с отцом?
— С отцом все в порядке. Отец сюда едет.
— В Вильно?
— Со Шмулей-Сендером и нищим Авнером… Решил с Гиршем попрощаться.
Семен Ефремович не притрагивался к своему стакану. Он сидел нахохлившись, испуганно провожая взглядом каждое движение алчущей руки Эзры к хмельному зелью. Отрешенность брата, глуховатость звонкого в прошлом голоса, какая-то непонятная, занозистая обида, засевшая в его мозгу, внушали Семену Ефремовичу тревогу.
Внушал тревогу и приезд отца. Ну что он на старости лет надумал? Хоть бы предупредил! Шахна нанял бы извозчика — того же короля виленских балагул Хаима-Янкеля Вишневского — и привез бы его из Мишкине в Вильно. Далеко ли они, старики, уедут? Не ровен час, помрут по дороге, и некому их будет похоронить.
— Зачем ты искал меня?






