Козлёнок за два гроша Канович Григорий
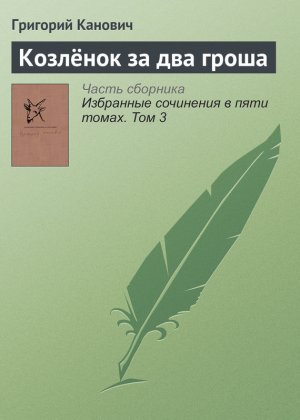
— С Гиршем, — поправил его Семен Ефремович.
— Еврей в жандармерии? — удивился старик Эфраим.
Всей правды Семен Ефремович сказать отцу так и не посмел. А вдруг Ратмир Павлович откажет в просьбе? Вдруг он, Шахна, не выхлопочет для отца разрешения? Что тогда? Пусть отец вернется в Мишкине, ничего о нем, Шахне, не узнав. Если же Князев поможет и отец до суда попадет в 14-й номер, то Гирш ему все равно все расскажет.
— Если ты ничего есть не будешь, то я тебе постелю, — сказал Шахна и, подойдя к кровати, взбил подушку.
— А ты?
— Я — на полу.
— У евреев на полу только мертвые спят, — промолвил старик Эфраим, не отказываясь. Усталость давала себя знать. Голова висла; в глаза словно накрошили луку; ноги отяжелели и вросли в пол, как надгробия.
— Может, я и есть самый мертвый из твоих сыновей… — печально произнес Семен Ефремович.
Мысль его работала с лихорадочной быстротой. Может, лучше самому признаться, чем ждать, когда кто-нибудь — тот же Гирш или какой-нибудь завсегдатай синагоги ломовых извозчиков — откроет старику глаза. В конце концов, он, Шахна, ничем себя не запятнал. Совесть его чиста. Во всем, что происходит в жандармском управлении, не он виноват. Не он допрашивает, не он судит, не он отправляет на виселицу или в Сибирь.
— Что-то я не слышал, чтобы евреев брали в жандармерию, — снова усомнился Эфраим.
— Есть даже евреи, пьющие чай с государем.
— Такой еврей с каждым глотком становится православным, Шахна, — пробасил Эфраим, — всю жизнь я учил вас говорить правду.
— Учил.
— Если Гирш действительно хотел умертвить генерал-губернатора, то я не могу от своего сына требовать, чтобы он на суде лгал. Я могу только просить его, чтобы он не говорил правды.
— По-твоему, лучше отречься от жизни ради правды, чем от правды ради жизни?
— Каждый, Шахна, выбирает сам… Я не могу выбирать за Гирша… Или за тебя…
Эфраим помолчал, снова вперил взгляд в Шахну, как будто желая что-то выжечь, и добавил:
— Ведь и ты, сын, спустился в ад, не спросив меня.
Он сел за стол, положил на него свои руки и принялся разглядывать набухшие, голубоватые жилы; и каждая жила, как ручеек или стежка, убегала, уплывала от его старости к его истоку, к его детству, в зеленый принеманский край.
— Вернусь в Мишкине, и рабби Авиэзер, или жена этого несчастного корчмаря Ешуа Манделя Морта, или сам Маркус Фрадкин, у которого ты служил писцом, спросят меня: «Ну как там в Вильно твои дети?» И что я им, Шахна, отвечу?
Семен Ефремович сидел неподвижно за столом, и от этой неподвижности казался еще угрюмее.
— Что я им отвечу? Сын Шахна, гордость моя и сила моя, спустился в ад, чтобы спасать грешников, и сам грешником стал.
— Отец!
— А Гирш, смутьян и бунтовщик, вместо того чтобы народить нашему народу сто сапожников и сто швей, кончил свои дни на виселице…
Семен Ефремович зажмурился, снова открыл глаза, снова зажмурился: над подушкой порхала пятнистая, усыпанная пыльцой бабочка. Она то возникала, то исчезала. Шахна таращил глаза и думал не столько о словах отца, сколько о своем странном, болезненном состоянии, которое, начавшись в раввинской семинарии с гибели Беньямина Иткеса, все больше усугублялось.
До недавних пор Семен Ефремович еще надеялся справиться с болезнью без посторонней помощи, но чем дальше, тем больше убеждался, что ему без нее не обойтись. Он уже не раз порывался посетить доктора, даже выбрал в путеводителе по Вильно адрес: «Д-р. Хаим Брукман, душевные болезни. Александровский бульвар, двадцать. Прием больных с 10-ти до 15-ти», подходил к докторскому дому, прочитывал затуманенными глазами невеселую надпись на медной табличке и, понурив голову, плелся назад, на Большую, к мыши Нехаме, к Беньямину Иткесу, полуовну-получеловеку, к своему одиночеству.
После суда, думал Семен Ефремович, он обязательно сходит к этому Брукману, попросит какое-нибудь лекарство, а если оно не поможет, то он бросит все и уйдет куда глаза глядят.
— А Эзра, поскребыш, бражничает в придорожных шинках, — продолжал Эфраим, — и выкобенивается на базарах.
Семену Ефремовичу не хотелось вконец огорчать отца: пусть он об Эзре узнает попозже. А теперь — спать, спать, спать!
— У него есть дети? — спросил Эфраим.
— Нет, — ответил Шахна, догадываясь, о ком отец говорит.
— Одно счастье, — вздохнул старик.
— Жена его — Мира — ждет ребенка.
— Весной все беременны: и птицы, и деревья, и женщины, — сказал Эфраим.
Он стянул башмаки, поставил их под кровать, разделся, почесал лохматую грудь и лег.
Через минуту рядом лег и Шахна, и легкий, без видений, сон сковал его веки.
Эфраим смотрел на его седые волосы, и соблазн дотронуться до них не давал ему до утра уснуть…
На службу Семен Ефремович ходил мимо Вилейки, через Ботанический сад, вкушая прозрачный, как слеза, воздух, прислушиваясь к шуму быстрой, норовистой речки и следя за кружением крикливых ворон над Крестовой горой, где, по преданию, были похоронены три стойки», несгибаемых в своей вере монаха. И кресты, возвышавшиеся над грешным, торгующим, прелюбодействующим, погрязшим в гордыне городом, и безымянные монахи, противостоявшие вероотступникам, волновали душу и внушали ему, изгою, некую зависть, навевали необыденные мысли о бренности и скоротечности жизни.
Но сегодня Семен Ефремович пошел напрямик, через город. Не терпелось прийти на службу пораньше, чтобы не расплескать свою решимость, не разменять ее на пустопорожние, хоть и возвышенные, разговоры.
Допросы тяготили Ратмира Павловича Князева, утомляли, делали крайне раздражительным, а беседы с Семеном Ефремовичем, с которым он в последнее время еще больше сблизился, доставляли ни с чем не сравнимое удовольствие. На чем только полковник и толмач не схлестывались!
— Почему в Англии живут одни англичане? — наступал, бывало, Князев.
Шахна начинал что-то объяснять, но его объяснения не удовлетворяли Ратмира Павловича, и он от Англии переходил к Франции или Германии.
— А почему в Германии одни немцы?.. Почему? Ответь мне, если ты такой умный.
Семен Ефремович осторожно, чтобы не распалить полковника, отвечал, избегал острых сшибок, кое о чем осмотрительно помалкивая, но Князева только бесила его осмотрительность.
— Только мы и Америка — проходной двор! Терпим у себя дома несметное множество народов и народцев! Отсюда и все наши беды.
— По-вашему, во всем виноваты инородцы? — тихо, почти льстиво вставлял Семен Ефремович.
— С русским человеком всегда легко договориться, — настаивал полковник. — Куда легче, чем, например, с вами или с литвинами. Я уже не говорю о поляках.
— Договориться можно со всеми. Все зависит от того, кого считать волком, кого — овцой.
— По-твоему, мы волки? Да добрее русских людей на всем белом свете нет. Их и бьют, и унижают больше вашего, а они терпят… землю пашут… лес сплавляют… шахты роют… Чтобы покончить со всеми распрями, есть только один выход — перевести всю жизнь на русские начала.
Ратмир Павлович принимался расхаживать по кабинету, заложив руки за спину; иногда он переходил на мелкую рысь, словно гнался за кем-то; Семен Ефремович послушно поворачивал голову то влево, то вправо, чтобы не пропустить какое-нибудь движение начальника, заменяющее слово, а главное, чтобы ни на минуту не позволить себе забыться, подумать о чем-то своем, не о народах и народцах, а о том же докторе Хаиме Брукмане с Александровского бульвара.
— Моя идея, — разглагольствовал, бывало, Ратмир Павлович, — чрезвычайно проста. Возьмем, например, евреев. Будь моя воля, я бы вас всех с первого января будущего года превратил в русских. Поголовно! И живите где хотите, и учитесь где вам заблагорассудится. Никакой черты оседлости, никаких ограничений! И точка! То же самое проделать с прочими: литвинами, караимами, поляками, татарами, якутами, бурятами. И покончено с проходным двором! Ну, что ты на это, Семен Ефремович, скажешь?
— Что я на это скажу?
Идея Ратмира Павловича поставила Шахну в тупик. Согласиться с ней он не мог, но и не принять ее было страшновато.
— Боюсь, ваше благородие, инородцы все равно начнут роптать. Литвины потребуют, чтобы все были литвинами, и вы… и Антонина Сергеевна, и ваш Петя… Татары — чтобы все были татарами…
— Никогда!
— Но почему? — осмелел толмач.
— Почему? А вот почему! — заранее предчувствуя свое торжество, повторял Князев. — У малых нет будущего. Будущее, ласковый ты мой, только за большими. Речки высыхают, море плещется вечно. Ему никакие засухи не страшны. Малость обмелеет, но останется. А речки? Сам посуди: зачем тебе, речке, Шахне Дудаку, — полковник вспомнил его старое имя, — быть маленьким, если ты в мгновение ока можешь стать большим? Я все продумал, все подсчитал. Море! Огромное, могучее море. Как в Англии или в Германии.
Шахна малодушно кивал головой — маленькая речка покорно текла в море.
Такие беседы порой затягивались до глубокой ночи; Князев вызывал своего опричника, топтуна — Крюкова, посылал в ресторан Млынарчика за едой; Крюков приносил лососину, жареных цыплят в соусе, пльзенское пиво, и споры продолжались.
Но сегодня Семен Ефремович не собирался задерживаться на службе, тем более что никакого допроса не предвиделось; дело Гирша было передано в суд, а нового недопрошенного преступника-еврея в 14-м номере не содержали. Не намерен был Шахна и до ночи лясы точить, обсуждать замечательные идеи своего начальника — пусть под лососину, пусть под жареных цыплят в оливковом соусе.
Воспользовавшись перерывом, Семен Ефремович решил попросить у Князева за отца: так, мол, и так, уважьте, ваше благородие, последнюю просьбу старика, разрешите свидание с сыном. (О том, чтобы в случае чего ему, Эфраиму, отдали тело Гирша, и заикнуться нельзя было!)
Князев обладал добрым сердцем. Прослужив более двадцати лет в жандармах, он испытывал к некоторым арестантам презрительную, брезгливую жалость, умел ценить чужое благородство и стойкость.
В каком-то ночном споре с Шахной он вспомнил этого юнца Кримера или Кремера и со свойственной ему задумчивой, русской распевностью сказал:
— Вот если бы мой Петя был таким, как он.
— Но он же государственный преступник!..
— Ну и что? Пете бы его твердость!
Утешало Шахну и то, что все прожекты Ратмира Павловича, его сногсшибательные идеи проистекали не от злобы, слепой вражды или предубежденности, а от неверного понимания племенных нужд, которыми он волей судеб вынужден был заниматься в этом чужом, разношерстном и, как ему казалось, неблагодарном крае.
Как назло, Князев долго не приходил — на костельных часах давно пробило десять, — и Семен Ефремович, зная пунктуальность Ратмира Павловича, уже стал беспокоиться. А вдруг он совсем не придет? В жандармском управлении ходили слухи о том, что жене Князева якобы противопоказан сырой литовский климат, другие говорили, что дело вовсе не в климате, что генерал-губернатор не доволен шефом жандармов и что в ближайшее время следует ждать его перевода в другой город.
Стараясь держаться в стороне от этих слухов и пересудов, Семен Ефремович тем не менее живо переживал каждую новость и меньше всего хотел, чтобы на место Ратмира Павловича назначили какого-нибудь другого служаку.
Когда в коридоре раздались тяжелые шаги Князева, Шахна почти просиял. Странно, но в эту минуту он готов был простить Ратмиру Павловичу все: и свое двухдневное пребывание в 14-м номере, и шутку (хороша шутка!) с наручниками, и ежедневное подтрунивание над его набожностью.
— Какие новости? — с порога осведомился полковник.
Семен Ефремович не понял, о каких новостях говорит Князев.
— Как там у вашего мудреца сказано: благая весть утучняет кости, — пророкотал Ратмир Павлович. — Что-то не вижу, чтобы они у тебя утучнились.
— Ваше благородие! Я никогда вас ни о чем не просил. И не попросил бы, если бы не отец, который неожиданно приехал.
— Бедный, бедный!..
Нельзя было понять, к кому относятся его слова, то ли к Семену Ефремовичу, то ли к его отцу.
Князев снял китель, повесил его на спинку стула, сел, размял волосатые руки.
— Помог бы я тебе, — полковник добродушно улыбнулся. — Да не знаю, останусь ли в Вильно… Поедешь со мной?
— Зачем я вам? Может, там, куда вы поедете, евреев не будет.
— Может быть. Но один головастый еврей русскому человеку не помеха.
Полковник снова улыбнулся. Он был в хорошем расположении духа, и Семен Ефремович терялся в догадках, не зная, чему это приписать — то ли удивительному, пронизанному щедрым майским солнцем утру, то ли тайному решению Ратмира Павловича уехать отсюда, то ли тому, что не надо было начинать день с осточертевших, въевшихся в печенки, допросов.
— Я знаю, Семен Ефремович, о чем ты собираешься меня просить, но… — полковник развел борцовские руки. — Рад бы… Да ваш Гирш в карцере. А карцеру не положены свидания.
— Как же вы, ваше благородие, догадались о моей просьбе? — удивился Шахна.
— Сам — отец. Когда сыну грозит смерть, у отца одно желание: увидеть его, приласкать… Плохи его дела. Плохи…
— Отца?
— Гирша.
— Но ведь приговор еще не оглашен.
— Приговор не оглашен, а форма уже готова. На всякий случай.
— Какая форма?
— О приведении приговора в исполнение. В ней только до поры до времени имеются пропуски.
— Пропуски?
— Фамилия осужденного и время казни проставляются в последнюю минуту. А место? Место известно — военное поле, — сказал Ратмир Павлович и погладил погоны на кителе. Семен Ефремович проследил за движением его руки, и снова, как в 14-м номере, в воздух взмыла бабочка, очень похожая на золотое шитье погона.
— Что с вами? — заметив, как Семен Ефремович покачнулся, спросил Князев.
— Ничего… Ничего… Сейчас пройдет.
Он затравленно оглянулся, покосился на полковничий китель, и большая слеза облегчения выкатилась у него из правого глаза, когда он увидел на кителе не насекомое, а высокий знак жандармского отличия.
Отправлю отца и — к доктору, подумал он. К доктору. На Александровский бульвар.
— Может, удастся по пути в суд, в карете? — сказал Князев.
— В карете?
— Посадим твоего батьку в карету, пусть потолкует с сыночком.
Семен Ефремович вздрогнул. Ему показалось, что Князев решил это сделать неспроста, что он все знает: его осведомители, филеры, доносчики донесли про этого Арона Вайнштейна и этого Федора, которые грозились отбить у жандармов Гирша; Ратмир Павлович придумал эту карету вовсе не из благородства, а из корысти. При отце Гирш себя будет вести совсем иначе, чем в его отсутствие. В его отсутствие он может еще выкинуть черт-те что, а с отцом… Отца он не станет подвергать опасности. Присутствие Эфраима Дудака оградит карету от нападения.
— Ну, как? — кокетливо, унижая Шахну своей властью и добротой, спросил Князев.
— Ваше благородие! Разве это возможно?
— Возможно, возможно.
Семен Ефремович не сомневался, что, когда кончится суд над Гиршем, Ратмир Павлович взыщет с него за это свидание, учинит ему допрос, вытянет из него, кто такой этот Арон Вайнштейн и этот Федор? Зачем, мол, к тебе приходили, ласковый ты мой?
Он снова глянул на полковничьи погоны. Господи, что они, юнцы, могут сделать с одним пистолетом и Марксом за пазухой?
— Я дам распоряжение, — продолжал Ратмир Павлович. — Возле Георгиевского проспекта отца высадят. Конечно, десяти минут для разговора с сыном маловато. Но я и так нарушаю все установления.
— Десяти минут хватит, — успокоил его Семен Ефремович.
Теперь ему и эти десять минут казались лишними. Что может произойти за десять минут? Ничего, ровным счетом ничего. Гирш не пойдет на попятную. Не пожалеет отца… А отец только душу разбередит.
Но Шахна не чувствовал себя вправе отказать отцу в этой милости, дарованной сердобольным, хитроумным жандармом.
Он никак не мог представить себе отца рядом с Гиршем в наручниках, бок о бок с молчаливыми солдатами. Да они при солдатах рта не раскроют!
Может, не говорить отцу про эту карету, соврать что-нибудь, сказать, что суд продлится еще год-полтора, что должны еще найти сообщников Гирша. Отец не станет дожидаться в Вильно полтора года, разыщет в какой-нибудь синагоге Шмуле-Сендера и, помолившись, отправится назад, в Мишкине. Тем более что Гирш и не желает его видеть.
Кому, кому, а родителям сыновья неправда продлевает жизнь.
— Ваше благородие! То, о чем я у вас спрошу, покажется вам неслыханной наглостью. Но я… но мне все-таки трудно удержаться.
— Что ж, наглецы иногда побивают скромников.
— Скажите, Ратмир Павлович, — Шахна впервые за долгие годы совместной службы обратился к своему начальнику по имени-отчеству, вложив в свое обращение и свою надежду, и свое уважительное отношение к Князеву, не подорванное даже его склонностью к издевательствам и пакостям, — скажите, Ратмир Павлович, — повторил он, — если бы мой брат пожелал перед судом креститься, это облегчило бы его участь?
— А он что, выразил такое пожелание?
— Вы не ответили на мой вопрос.
— Но и ты на мой не ответил. — Князев подошел к двери, распахнул ее и громко, как восточный глашатай, воззвал: — Иван!
В кабинет влетел Крюков.
— Чаю нам!.. И кренделей! С марципанами!..
— Бегу!
И Крюков исчез.
— Допустим, он выразил такое желание, — промолвил Семен Ефремович. — Мог бы он рассчитывать на большее снисхождение судей?
— Перед русским судом, по-моему, все равны. Но, думаю, такой поступок произвел бы на судей самое благоприятное впечатление. Если он изъявит такое желание, я могу председателю суда шепнуть. Новообращенного, надеюсь, не казнят, как бы он ни провинился. Нельзя же казнить примеры, когда их можно отправить на каторжные работы…
— Жалко его, — сказал Семен Ефремович.
— Кого жалеть — выбирают судьи. Гирша или Россию?
— Разве судьи — это Россия?
— Нет, — неожиданно повеселев, сказал Ратмир Павлович. — Но твой Гирш к ней имеет еще меньше отношения.
Крюков принес самовар, потом чашки, потом крендели с марципанами.
Дома, на Большой, старик Эфраим мыл окна. Он откуда-то раздобыл тряпку, ведерко, сходил к колодцу во дворе, набрал воды и, взгромоздившись на табурет, принялся драить засиженное мухами стекло.
— Хозяйничаю тут без тебя.
— Хозяйничай, хозяйничай.
— Мой отец… твой дед Иаков, говорил: две вещи на свете надо содержать в чистоте.
— Окна?
— И совесть, — буркнул Эфраим. — Ибо через них человек смотрит на мир.
— А я принес тебе гостинец, — сказал Шахна и протянул отцу завернутый в бумагу крендель с марципанами.
Старик Эфраим слез с табурета, вытер о домотканые штаны руки, потрогал крендель, обнюхал его, но не взял.
— Авнером пахнет.
Помолчал и добавил:
— Да будет ему земля пухом.
Семен Ефремович удивлялся его отчужденности. Поначалу он думал, что отец стесняется, чувствует себя скованно в чужой квартире, среди чужой, непривычной для него мебели, недоступных книг, необжитости, но вскоре поймал себя на мысли, что большей близости между ними не будет, и не знал, кого в этом винить — себя или его.
Наверно, себя.
Старик Эфраим — так, во всяком случае, казалось Шахне — каким-то нестарческим, присущим покинутым родителям чутьем уловил странное, враз опечалившее его несоответствие между внешним дружелюбием сына, даже нежностью и чем-то скрытым, тщательно оберегаемым от него и, стало быть, постыдным. Эфраим ни о чем его не спрашивал, ждал, когда сам Шахна, усадив его за стол, расскажет о том, что делал, чего добился в этой немалой, бог весть чем заполненной поутру разлуке, о Гирше, сбившемся с пути; даже о сестре Церте, живущей в Киеве, — может, Шахна ездил к ней? Что ему, холостому, стоит? Как ни странно, подозрения Эфраима по приезде в Вильно не рассеялись, а еще больше обострились, и теперь он сам не знал, кто же из его детей — Шахна ли, Гирш ли, Эзра ли — более несчастен.
Пожалуй, самым поразительным открытием было то, что они все несчастны и что их несчастье какое-то особое, городское, что ли, в котором ему, приехавшему из жмудской глухомани, до конца не разобраться, в котором кто-кто, а он, Эфраим, бессилен помочь.
— Ты увидишь Гирша, — сказал Семен Ефремович. — Я обо всем договорился.
— Когда?
Отец, казалось, совсем не обрадовался этой вести. Да и чего тут радоваться? Большое счастье — встретиться с сыном-арестантом. Ни одному отцу не пожелаешь! Но ведь он отмахал почти триста верст, чтобы увидеться с ним — счастливым ли, несчастным ли, живым ли, мертвым ли. Хорошо еще — пока жив! Но что за жизнь в тюрьме?
— В день суда, — ответил Шахна.
Старик Эфраим поднял голову, посмотрел на Шахну, опустил глаза. Он как бы торопил его признание, но Семен Ефремович делал вид, будто ему не в чем признаваться, — вся его жизнь с немытыми окнами, холостяцкой кроватью, горками недочитанных книг словно на ладони. Что тут, мол, скроешь?
— Шахна, — выдавил старик. — Когда я в колодце брал воду, ко мне подошла одна женщина… с бородавкой на верхней губе… в плисовом жакете.
— Гита.
— Она спросила, кем я тебе прихожусь.
Эфраим замолчал, снова поднял голову на Шахну.
— Я сказал: отец.
— И что было дальше? — дрогнул Семен Ефремович.
— Дальше эта Гита сказала, что видели, как ты выходишь из жандармского управления… Я только посмеялся над ее словами. Ведь, правда, смешно?
Эфраим тихо захихикал.
— Смешно.
— Мой сын, говорю я ей, может служить где угодно, только не там, где вы думаете… Вот ведьма, — вздохнул старик Эфраим.
— Это правда, — сказал Шахна.
— Что?
— Гита — ведьма, — Семен Ефремович дрогнул второй раз.
Если весь город, все Гиты и все Шмиты будут в один голос твердить, что он, Шахна Дудак, служит в жандармерии, в этом логове погромщиков, злейших врагов Израиля, он все равно никогда с этим не согласится. Ложь! Грязная, поганая, как засиженное мухами окно, ложь! То место, куда он каждое утро приходит на службу, так зовется для других, а не для него! Шахна Дудак — служитель добра. К добру зло не пристает ни в аду, ни в вонючем притоне воров, ни в залитом огнями светильников суде, где от имени добра вершится подлость и несправедливость.
— Стоит ли слушать глупую бабу, — пришел он в себя от неожиданности.
За дверью послышались сперва шаги, а потом поскребывание.
— Шмуле-Сендер, — безошибочно определил Эфраим. — Он никогда не стучится. Всегда скребется, как кошка.
Шмуле-Сендер, бог весть где пропадавший со вчерашнего вечера, был необыкновенно оживлен. Его худое, изможденное лицо было подсвечено каким-то зыбким внутренним светом, как будто он держал в руке керосиновую лампу.
Его глаза, обычно бесцветные, приобрели влажный зеленоватый цвет, каким обычно окрашивается заболоченное озерцо или первая весенняя лужа.
— Где ты столько пропадал? — поинтересовался Эфраим.
Шмуле-Сендер счастливо засопел носом, лицо его расплылось в широкой улыбке; он взял Эфраима за руку, подвел к надраенному окну и голосом счастливца, желающего, чтобы о его счастье знали все вокруг, бросил:
— Смотри!
Эфраим, только что закончивший мыть окно и насмотревшийся вдоволь на Большую улицу, на солдат, вышагивавших вдоль и поперек с нескончаемой, как и их служба, песней, на прытких, словно заведенных, евреев в черных лапсердаках и высоких, не по сезону теплых шапках, на крест церкви святого Николая, сверкавший, как вонзенный в небо божий штык, бросил взгляд через равнодушное стекло и, не заметив ничего особенного, тут же перевел его на Шмуле-Сендера.
— Неужели ты ничего не видишь? — сник водовоз.
От его приподнятого, синагогального настроения не осталось и следа.
— Совсем слепым стал, — обиделся он на Эфраима. — А ну-ка, Шахнеле, ты подойди!
У Семена Ефремовича не было никакого желания глядеть в окно. Он и в лучшие дни не глядел. А теперь? Теперь ему хотелось, чтобы в комнате было темно, чтобы они не видели друг друга; хотелось, чтобы не было ни окоп, ни дверей и не надо было никуда отсюда уходить — ни к 14-му номеру, откуда начнет свой путь жандармская карета, ни в Еврейскую больницу, где харкает кровью младший брат, поскребыш Эзра. Приход Шмуле-Сендера, с одной стороны, был спасением, заставлял заниматься обыденными, не требующими ни правды, ни лжи заботами, но, с другой стороны, еще больше накалял обстановку. Глаза старика Эфраима немо продолжали свой допрос; видно, рассказ ведьмы Гиты глубоко запал ему в сердце. Нет, нет, старость отца не ответ, а вопрос, лохматый, отвергающий ложь, непримиримый.
Семен Ефремович неохотно подошел к окну.
— Ну?
— Что «ну»?
— Видишь? — с надеждой произнес Шмуле-Сендер.
— Вижу вывеску: «Здесь приставляются пиявки и банки».
— Какие пиявки? — возмутился Шмуле-Сендер. — Какие банки?
Он вдруг оттер Семена Ефремовича от окна, приник к стеклу, как к роднику, и, словно напившись, радостно воскликнул:
— Стоит!
Старик Эфраим подошел к окну и посмотрел поверх седой, по-прежнему кучерявой головы друга.
— Ты купил бочку? — удивился Эфраим.
— По дешевке… Еще и на овес хватило… И на хлеб с селедкой…
— Хват! Хват! — похвалил Шмуле-Сендера Эфраим. — Ты что, может, возвращаться не собираешься?
— Собираюсь, — сказал водовоз. — Но пока ты с Гиршем встретишься… пока суд кончится… пока с Шахной нарадуетесь…
— Но в Вильно тысячи водовозов! — напомнил Эфраим.
— Ну и что? Шмуле-Сендер Лазарек и среди тысячи не затеряется! Шмуле-Сендер до сих пор знает секрет! Знает, где брать воду. Иной думает: воду брать просто… Нет, голубчики… Воду надо выбирать, как невесту… А не бросаться на первую попавшуюся.
Шмуле-Сендер входил в раж. Приобретение бочки вытеснило из его памяти даже белого счастливого Берла. Еврейской больнице, по словам Шмуле-Сендера, воды требуется несметное количество: и пищу приготовить, и больных поить, и мертвых обмывать. Вот он с ней и договорился: полдня возит, полдня спит. Тут же, в больнице.
— Хват! Хват! — приговаривал восхищенный Эфраим. — Скоро ты своему Берлу будешь деньги посылать, а не он тебе.
Старик Эфраим сразу понял, почему Шмуле-Сендер подрядился возить воду в Еврейскую больницу — хочет заработать Фейге на подарок; золотых часов со звоном, конечно, ей не видать, а вот какую-нибудь мелочь привезет: платок или теплые рейтузы. Рейтузы не вызванивают колыбельную. А жаль, хотя Фейга и ими будет довольна. Шмуле-Сендер попросит, чтобы их красиво упаковали, всякими ленточками перевязали, как это делают там, в Нью-Йорке, в магазине счастливого Берла. Шмуле-Сендер протянет своей Фейге сверток и скажет:
— Дорогая Фейгеле!.. Он предложил мне на выбор: часы со звоном или рейтузы? Я думал, думал и решил все-таки взять рейтузы. Зачем нам время со звоном?.. Зачем нам вообще время?.. Время, Фейгеле, нужно тем, у кого полный кошелек, тому, кто счастлив. А нам, старым и несчастным, зачем оно? Лучше рейтузы — тепло и ни о чем не напоминают: ни об утре, ни о вечере, ни о ночи.
— Эзру ты там не видел? — вдруг спросил Шахна.
Он подумал, что сейчас самый подходящий момент рассказать отцу о младшеньком, поскребыше. Чем больше он будет знать о других, тем меньше будет спрашивать о нем, Шахне.
— Эзру? — насторожился отец. — Разве он в больнице?
— Да, — ответил Семен Ефремович.
— Что с ним? — Старик Эфраим отошел от окна и сел за стол.






