Козлёнок за два гроша Канович Григорий
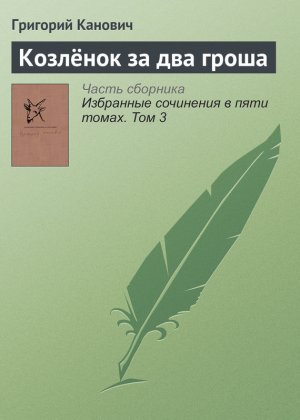
Он стоял под колоннами Кафедрального собора, подтянутый, в немецкой шапке, в начищенных до блеска ботинках, со сбритыми пейсами. Непривычно гладкое лицо обвевал ветер, Шахна нервно оглаживал щеки, озирался, поглядывал на каменного Моисея, подпиравшего свод собора, и завидовал себе — не изваянному, живому, грешному, к которому впервые придет на свидание женщина. И не просто женщина, а писаная красавица.
Пока Шахна ее ждал, он думал над тем, почему Юлиана с такой поспешностью согласилась на дерзкое, пусть и мимолетное, свидание. Наскучила родительская неволя? Любопытство? Или по весне взбунтовалась татаро-польско-еврейская кровь? Весной все — от зеленого листочка до шелудивой дворовой кошки — вдруг немыслимо преображается, наливается хмелем, побуждает к радостному и безотчетному безумству. Этот хмель бродит и в его, Шахны, жилах, это безумство и ему кружит голову.
Юлиана подошла не сразу. Негоже такой даме выказывать свою нетерпеливость. Юлиана — не прачка Магда, млеющая от его близости и уверяющая, что он мужик что надо, но только нестираный…
— Давно ждете? — осведомилась Юлиана и протянула ему руку. Господи! Такая легкая, мелькнуло у него, но она может перевесить тору…
Вокруг шумело, сопело, талдычило, спешило разноязыкое Вильно.
— Вы всегда такой молчун? — Шахне показалось, что и от ее голоса пахнет заморскими духами.
— Всегда.
— А я думала…
Юлиана не договорила. Она испытывала какую-то неловкость, все время оглядывалась, пряталась за колонны, за изваянного Моисея, обнимая каменные ноги пророка и тем самым вызывая ревность Шахны.
Эта недоговоренность, эта отрывистость речи, это разглядывание его выбритых щек и подстриженных висков, его немецкой шапки и начищенных до блеска ботинок смущали Шахну. Надо было чем-то ее занять, что-то говорить, но мысли, как назло, путались, слова отказывались выстраиваться в предложения. О чем рассказывать? О себе, о своей родне, об отце Эфраиме, о своих братьях, о Беньямине Иткесе, получеловеке-полуовне, о жандармском полковнике Князеве?
Шахна рысью, как норовистый жеребчик, промчался по своей жизни, но не выудил из нее ничего достойного, ничего такого, чтобы возвыситься в ее глазах.
Он знает наизусть многие перлы Иегуды Галеви, может продекламировать Пушкина и Лермонтова (спасибо Гавриилу Николаевичу Бросалину — научил!), но что за прок в стихах, если Юлиана не знает ни слова по-древнееврейски, а Пушкиным и Лермонтовым ее не удивишь.
— Когда вы рядом, я умею только дышать, — честно признался он.
Она вскинула брови, из-под них сверкнули две голубые молнии и тут же погасли. Этот книгочей, этот увалень не так-то прост, как кажется. И взгляд у него не простолюдина, и речь, и повадки. И наружность как у горца.
— Что ж… Дышать так дышать!
Но и дышать становилось все трудней. Казалось, Шахну посадили на раскаленную печь, накинули на плечи меховую шубу и вдобавок тряпкой заткнули рот. Шут гороховый! Огородное чучело! Рохля! Рассказывай! Рассказывай, пока не ушла!
— Я знаю одного бродягу… Его зовут Мама-Ротшильд!..
— Боже мой, как интересно! Как интересно, — затараторила Юлиана.
— Он всех уверяет, будто матерью его была сестра барона Ротшильда.
— Боже мой, как смешно! Как безумно интересно! Мама-Ротшильд!
В Ботаническом саду играл духовой оркестр. Капельмейстер взмахивал булавой, на лужайке кружились пары. Шахна пялился на булаву, на кружащиеся пары, и сердце его то взлетало вверх, как эта булава, то падало вниз, через желудок к ногам. Вверх-вниз, вверх-вниз.
— Вы ради меня согрешили, — сказала Юлиана.
— Согрешил?
— Сбрили свои пейсы…
— Что поделаешь. Безгрешных радостей не бывает, — ответил он и улыбнулся.
От волнения у него першило в горле. Он снял немецкую шапку, скомкал ее, запустил руки в космы, взлохматил их и страдальчески глянул на Юлиану.
— Какие клены! — воскликнула она, когда они вошли в кленовую аллею.
— А у нас в Мишкине… у меня на родине… клены совсем другие. На наших и листва покрупней, и резьба, пожалуй, позамысловатей.
И он вдруг принялся расписывать клены своей родины. Он рассказывал о них с таким пылом, с такой страстью, с таким желанием вызвать сочувственный отклик, будто объяснялся в любви не литовскому дереву, а ей, татаро-польско-еврейской женщине, вдове военного доктора, погибшего по пути из мятежного аула в свой полк. Но Юлиана, видно, была равнодушна к его деревьям, ей было все равно, какой они величины и что на них за резьба, замысловатая или незамысловатая.
Юлиана вдруг резко повернулась и, не глядя на Шахну, побежала мимо кружащихся пар, мимо капельмейстера с его неугомонной булавой, мимо каменных апостолов, лениво подпиравших свод собора.
Шахна был в полном замешательстве.
Когда он на другой день пришел в антикварную лавку на Замковой улице, Юлианы там уже не было.
Гавронский был с ним необыкновенно любезен, показывал приобретенные в Варшаве книги, рассказывал о крушении поезда Петербург — Берлин, о жертвах наводнения в Австрии и не сводил с Шахны восторженных глаз.
Шахна не знал, чему приписать такую перемену.
Пользуясь благоволением антиквара, он спросил:
— А ваша дочь… что… больна?
— Юлианочка в деревне. Ей слегка неможется. Мигрень. Это у нее, видно, после пари…
— Пари?
— Мы пошли с ней на пари, — охотно объяснил Гавронский. — Она сказала, что вы своих пейсов никогда не сбреете, а я — что вы, если она согласится прийти к вам на свидание, сбреете… Юлианочка проиграла мне пять бутылок шампанского…
Шахна почувствовал, как сперва поплыл перед его глазами Гавронский, потом книжные полки, потом потолок со старинной люстрой — только он один стоял на полу, как на качающейся палубе, пытаясь за что-нибудь ухватиться.
«Пять бутылок шампанского… пять бутылок шампанского… пять бутылок шампанского», грохотало в мозгу, как колеса поезда Петербург — Берлин, «пять бутылок шампанского… пять бутылок шампанского», наводнение из Австрии перекинулось в Северо-Западный край, достигло Замковой улицы, в шампанском плыли дома, молельни, его, Шахны, надежды.
Гавронский вскоре почил в бозе, Юлиана продала лавку, вышла замуж за железнодорожного инженера и уехала не то в Шанхай, не то в Харбин, а у Шахны в ушах еще долго стоял цокот ее каблучков по кленовой аллее Ботанического сада, и это было барабанной дробью перед казнью (иначе его приход к Магде не назовешь), и сама казнь всплывала в памяти клочковато и неотвратимо.
Так и осталось для него загадкой, как он в тот, после наводнения, вечер из лавки Гавронского отправился не к себе домой на Конскую, а на соседнюю Рудницкую к Магде.
Он лежал в кровати в тесной каморке, среди вороха чужого белья, среди стен, пропитанных паром и синькой, лежал на чисто застеленной постели, на туго набитых подушках в наволочках с вензелем «М».
Рядом, обхватив его своими мощными руками, лежала сама хозяйка — прачка Магда.
Она целовала его и бесстыдно шептала:
— Я приму все грехи на себя. Все… А ты не бойся…
Она сама раздела его, затолкала мускулистыми ногами его исподнее в изножье кровати, а он даже не пошевелился, как будто был мертв. Он и в самом деле был мертв — даже то, что в нем жило, принадлежало не ему, а ей.
— Я тебя научу, дурачок… Столько лет прожил, и не знаешь… куда дудочку вставить.
Иногда ее разбирал смех, и она задушенно, виновато смеялась:
— Господи! Какой же ты неумека!.. Да кто же так дудит?.. Вот так!.. Вот… Ах, дурачок ты мой! Ах ты, мой девственник.
И снова подбадривала его в темноте.
И так длилось до самого утра, до самого, как Шахне казалось, конца его жизни.
Займется рассвет, думал он, испытывая отвращение к собственной наготе, и меня отсюда унесут на двух неотесанных досках на кладбище, потому что жить после этого невозможно, немыслимо, преступно. Он больше никогда… никогда не прикоснется ни к одной женщине, будь она даже непорочна, как ангел… он оскопит себя…
— Ну что ты нос повесил? — Теперь уж Магда не целовала его, а облизывала, как раненую собаку. — Приходи, когда тебе захочется… Приходи… Ты такой ласковый… такой чистый…
Она уснула, уронив голову ему на грудь, счастливая и выпотрошенная, а у него не было сил подняться и уйти. Он не знал, что ему с ней, с этой чужой, уткнувшейся в его грудь головой, делать.
В комнате пахло сохнущим бельем.
И Шахна весь — с головы до ног — пропах им. Он был уверен, что отныне этот запах будет преследовать его всю жизнь.
И пар от чужого белья, от чужого непривередливого тела будет клубиться над ним до самой смерти.
Самое страшное было то, что выбрал он все это добровольно, без всякого принуждения. Зачем? Из мести Юлиане? Из желания стать, как говорил Беньямин Иткес, как все… грязненьким, черненьким, по которому ползут черви и которого лижут бездомные собаки?
«Ах, дурачок ты мой! Ах ты, мой девственник!»
Это был не зов женщины, а зов самой жизни, приглашавшей его на свои запретные, свои притягательные, свои чумные пиры, на которых не думают о похмелье.
Теперь Шахну томила другая мысль — мысль о том, что у Магды родится ребенок.
Его ребенок.
Он торопил время, ждал, когда к нему на Конскую явится беременная Магда, встанет посреди комнаты, и ее огромный, начиненный его грехом живот заслонит от него все, что ему было дорого: и родной дом в Мишкине, и отца, и тень матери, отгородит его, Шахну, от жизни — от восхитительной коварной Юлианы, от зимней головы почтенного рабби Элиагу, от жандармского полковника Ратмира Павловича.
Но дни шли, и Магда даже за бельем не приходила, еще больше подогревая его страхи и нетерпение. Господи, для того ли он приехал из захолустья в Ерушалаим да Лита — Вильно, чтобы прижить с первой попавшейся бабой ребенка? Но при чем тут первая попавшаяся баба? Он сам во всем виноват. Сам. И ему все расхлебывать, за все платить. Конечно, поступи он толмачом к Ратмиру Павловичу, в жандармском управлении всегда найдет защиту. Он-то, может, найдет. А его совесть? Его душа? Хороша совесть, которую защищают жандармы!
И потом — даже если он согласится и примет предложение Князева, то сделает это не из трусости, не из корысти, а с самыми благими намерениями. Рабби Элиагу ошибается: огонь — не помощь. Никто не должен корчиться от боли ни на костре добра, ни на жаровне зла. Что за прок в добре, которое испепеляет? Может, господу угодно, чтобы он стоял возле котлов с кипящей смолой и плескал на огонь из ведерка воду. Пусть только из ведерка. Пусть. Может, всевышний и Магду послал ему, чтобы он, Шахна, прежде чем спуститься в преисподнюю, не умом, а сердцем, кожей, каждой своей порой понял, что не тот праведник, кто не совершает грехов, а тот, кто даже грех обращает на пользу добродетели.
Шахна вошел в просторную гостиную, на столе сверкал самовар, в углу золотился оклад с изображением Спасителя, клавесин был открыт и, похоже, остывал от звуков. (Видно, Петя только что кончил играть.)
— Очень рад, очень рад, — сказал Ратмир Павлович. Он был без мундира, в красивой новой поддевке. Русые мягкие волосы прикрывали желтую отмель лысины. — Если вы позволите, я буду величать вас на русский лад — Семеном Ефремовичем. Вашего батюшку, кажется, зовут Эфраим, по-нашему, значит, Ефрем.
Шахна кивнул.
— Семен Ефремович! Звучит неплохо! Ничем не хуже, чем Ратмир Павлович. Глупое имя — Ратмир. И где только отец его выкопал?
Князев перехватил взгляд Шахны, цеплявшийся то за тлеющую под образами лампаду (Антонина Сергеевна была очень набожна), то за открытый клавесин, то за самовар.
— Скромно живем, тихо, хотя о жандармах люди бог весть что плетут.
Начало обескуражило Шахну. Семен Ефремович! Пусть называет как угодно, как ему заблагорассудится. Разве дело в имени? Реку назови садом, яблок по осени все равно не соберешь.
— Если вы позволите, мы совершим еще одну маленькую операцию, — промолвил Князев.
Неужели придется чокнуться?
— Для удобства мы вам окончаньице добавим.
— Какое окончаньице? — спросил ошарашенный Шахна.
— Ду-да-ков! Было два слова, стало три. Слог, батенька, в России много значит.
Шахна съехал с Конской и снял комнату на Большой. Он купил мебель, повесил новые гардины, приобрел в магазине «Розенблюм и сын» костюм из английской шерсти, пальто на ватине, с бархатным воротником, как у учителя словесности Гавриила Николаевича Бросалина, черную фетровую шляпу с широкими полями, делавшую его похожим не то на испанского алькальда, не то на знатного купца с картины Рембрандта.
Раз в месяц он получал в жандармерии жалованье — два червонца, тратил их на книги, посылал в Мишкине отцу Эфраиму, в Киев сестре Церте, которую бросил муж, дважды в год жертвовал на синагогу ломовых извозчиков, давшую ему приют, на побелку раввинского училища и на сооружение каменного нужника вместо старого, деревянного, возле которого он когда-то подстерегал своего самого лютого недруга, напитавшего вонью его молитвенное покрывало, подаренное ему рабби Элиагу. Купил он и новый талес и заплатил за него большие деньги, поскольку он, по заверениям хозяина лавки ритуальных и погребальных товаров, был привезен чуть ли не с земли обетованной.
Семена Ефремовича Дудакова вдруг обуяла страсть к покровительству, к вспомоществлению бедным и униженным, к тем, с кем он еще совсем недавно делил хлеб и кров.
Он разыскал в синагоге ломовых извозчиков нищеброда Маму-Ротшильда и дал ему на суккот золотой рубль.
— А ты его не того… не слямзил? — пряча рубль в карман, процедил Мама-Ротшильд.
— Нет.
— А откуда ты его взял?
— Заработал. Бог свидетель.
Золотой Шахны вызывал в бродяге какие-то недобрые подозрения, но искушение неожиданным богатством было сильней.
— Если ты принесешь мне еще один золотой, — сказал Мама-Ротшильд, — я положу его в банк и за год нарастут проценты.
— Я буду приходить каждый месяц, — пообещал Шахна.
Первое жалованье совпало и с первым допросом.
Допрашиваемый, чем-то смахивавший на Беньямина Иткеса, был задержан с чемоданом подметной литературы при переходе через русско-германскую границу. Звали его не то Кример, не то Кремер. При задержании этот Кример или Кремер оказал сопротивление, легко ранив жандарма, но был обезоружен и с пограничной станции Вержболово препровожден под конвоем в Вильно.
Не желая, видно, отвечать на вопросы Князева, он заявил, что не понимает по-русски, хотя, судя по книжкам, обнаруженным в его чемодане, владел русским языком не хуже, чем Семен Ефремович. Ложь арестанта нимало не смутила Князева. Он этому Кримеру или Кремеру объяснил, что тот может изъясняться на своем родном языке и что господин Семен Ефремович Дудаков (Ратмир Павлович церемонно поклонился Шахне) все переведет.
Не преминул полковник сообщить подследственному и то, что Семен Ефремович не только переводчик, но и в недалеком прошлом семинарист Виленского раввинского училища.
— Еврей с евреем всегда договорится, — сказал следователь.
Последнее замечание покоробило Шахну. Он совсем не собирался находить с этим Кремером или Кримером общий язык. Его дело — перевод и только перевод. Но вслух перечить Князеву не отважился. Он должен был повиноваться ему во всем, что касается установления истины, хотя и отделял — да что там отделял, — резко разграничивал истину жандармскую от истины божьей.
Тогда, на первом в своей жизни допросе, Шахна до того растерялся, что не мог перевести простейшие предложения, путался, кашлял, испытывал почему-то удушливое чувство стыда.
Этот Кример или Кремер смотрел с высокомерной брезгливостью не столько на Князева, своего следователя, сколько на него, толмача.
— За сколько душу продал? — спросил юнец по-еврейски.
— Что он, Семен Ефремович, сказал?
Шахна мог ответить, что этот Кремер или Кример спорол глупость, выругался по-еврейски, обозвал его свиньей и тому подобное. Но ему не хотелось начинать свою службу с обмана и недомолвок. Хотелось быть честным со злом справа и со злом слева. А вдруг Князев устроил ему ловушку? Вдруг он без всякого толмача понимает по-еврейски?
— Он спрашивает, за сколько я продал душу?
Князев улыбнулся, беззлобно покосился на арестанта.
— И что же вы ему, Семен Ефремович, ответили?
— Ничего.
— Робеете?
— Я не отвечаю на то, что не относится к делу.
— Ответьте ему! Объясните арестанту, что отечеству не продаются, а служат.
Шахна не стал переводить Кримеру или Кремеру слова полковника о служении отечеству — юнца все равно не переубедишь. Он просто посоветовал своему сородичу, этому желторотому цыпленку-революционеру, не ожесточать следователя, не затягивать дознание, отвечать на вопросы без утайки, чтобы не ухудшать своего положения.
Ратмир Павлович кивал головой, с любопытством поглядывал то на одного, то на другого, по-дружески, почти шутливо грозил Дудакову пальцем — мол, смотрите у меня, Семен Ефремович! Казалось, поведение толмача интересовало его больше, чем показания арестованного.
Шахна прилежно, по-ученически переводил. Речь его текла медленно и заунывно.
Ого! Сын купца первой гильдии! Из Паневежа, повторял за толмачом Князев. Единственный наследник! Нет чтобы отцовский капитал умножать и славу торгового дома Кримера или Кремера поддерживать, в смутьяны пошел, в контрабандисты.
— Ты действительно ни слова не знаешь по-русски? — спросил Ратмир Павлович. — Кому ты должен был передать чемодан?
Чемодан, чемодан, чемодан, — стучало в висках Шахны. Господи, да какое значение имеют этот облезлый чемодан, эти напечатанные на гектографе пожелтевшие листки и тонюсенькие брошюрки? Почему Ратмир Павлович ни разу не осведомился о раненом сослуживце?
Будь его, Шахны, воля, он бы этим Кримерам или Кремерам разрешал перевозить все что угодно — пусть читают, пусть заучивают наизусть, пусть передают из рук в руки. Зачем обыскивать мысль, изымать, обуздывать, стращать карами? Она все равно, как мышь, прогрызет кандалы и стены, все равно вырвется из подполья — головы и, даже если эту голову отсечь или умертвить, перекочует в другую, в другое живое подполье. Отпустил бы Ратмир Павлович этого юнца с миром, хорошенько проучив и сообщив в Паневеж родителю. Что с того, что этот Кример или Кремер против существующих порядков. Бог создал не сторонника, не противника, а человека, и, если ему не удалось его переделать, на что может рассчитывать жандармерия?
Мысли путались в голове-подполье у Шахны, наползали друг на дружку, перескакивали с арестанта на Ратмира Павловича, покрывали немыслимые расстояния от земли до неба, от Берлина до пограничной станции Вержболово, от Большой улицы, где он теперь жил, до снегов Сибири.
Он переводил этому Кремеру или Кримеру один и тот же вопрос Князева («Кому ты должен был передать чемодан?»), успевая вставить и свое слово. Он умолял арестованного не обострять своих отношений с его высокоблагородием, раскаяться, предлагал назвать любые, пусть и вымышленные, пусть и несуществующие, адреса и фамилии, но юнец только морщил лоб и поглядывал на носки своих ботинок.
Первый допрос ничего не дал.
На другой день, как только Шахна переступил порог, Ратмир Павлович воскликнул:
— Прочитал! От корки до корки!
И поставил перед ошарашенным толмачом фибровый чемодан с запретными книжками.
— И вы, Семен Ефремович, прочтите! Правду, негодяи, пишут. Чистейшую правду. И про заводчиков, и про царя, и про притеснения и неравенство.
Князев перешел на шепот:
— Ни убавишь, ни прибавишь!
— Да, но, ваше высокоблагородье…
— Что «ваше высокоблагородье»? Правду пишут, говорю. Не врут. Разве вы, Семен Ефремович, думаете не так?
— Как?
— Ведь думаете, что царь — кровопивец, а заводчики — шкуродеры. Что ж вы молчите? Не бойтесь! Честно признаться, и я так думаю.
— Как?
— Так, как в этих книжках написано.
Шахна стоял перед ним бледный, настороженный, не сводил глаз с фибрового чемодана, с книжонок, сложенных как попало, с жилистых, поросших белесым пушком рук Ратмира Павловича и втайне радовался своей стойкости. Он, Шахна, знает, о чем можно и о чем нельзя думать в присутственном месте, да еще в таком, как следственная часть жандармерии.
Нет, Князев ничего не услышит от него. Ничего. Ни про царя, ни про заводчиков, ни про притеснения, ни про равенство. Конечно, царь — кровопивец, конечно, фабриканты — шкуродеры. Но слова — могильщики. Слова хоронят человека задолго до того, как его зарывают родственники. Надо научиться жить без слов. Или только с теми, от которых не веет могилой.
— По-вашему, Семен Ефремович, уж коль скоро ты жандарм, то обязательно дубина… Нет, батенька… Можно молиться богу и не верить. Можно преследовать правду, но в душе с ней соглашаться. Понимаете?
— Если то, что написано в этих книгах, правда, что за надобность ловить этого Кримера или Кремера?
— Чем лучше правду знаешь, тем легче с ней расправляться.
Ратмир Павлович исподлобья глянул на Шахну.
— Может вполне статься, что когда-нибудь… через сто лет… этот Кример или Кремер тоже станет жандармом. Пока будет существовать правда, не переведутся и жандармы. Правда их не отменяет, а, я бы даже сказал, плодит.
Князев подвинул к Семену Ефремовичу фибровый чемодан:
— Берите! На память о первом допросе!..
Шахна зарделся, вежливо отказался, но Ратмир Павлович был непреклонен:
— Книжки — в печь и… еще в одно место. А чемодан? Чемодан, Семен Ефремович, все-таки вещь полезная… заграничная… Не пропадать же добру.
Господи, думал Шахна, вернувшись домой и наглухо зашторив окна, куда я угодил? Я, примерявший в мыслях тогу праведника, готовивший себя с малолетства к самопожертвованию во имя добра и справедливости? Вот она, моя справедливость, — этот пустой фибровый чемодан с двойным дном, торчащий в углу как памятник моим несбывшимся надеждам, моим исковерканным мечтам.
Тайная распря с самим собой терзала его и временами доводила просто до изнеможения. В такие минуты он готов был мчаться на Александровскую площадь к Князеву и коленопреклоненно просить, чтобы тот подыскал себе другого толмача. Не могу, Ратмир Павлович… Вот ваш фибровый чемоданчик… вот ваши два червонца… вот вам ваше окончаньице…
Отчаяние его усугублялось еще и тем, что он не понимал, почему Ратмир Павлович так держится за него, почему среди многих виленских евреев, отменно знающих русский язык, выбор полковника пал именно на него, Шахну, безвестного школяра, богобоязненного провинциала.
Что это?
Расчет, дальновидный расчет жандарма, облагодетельствовавшего из чувства признательности полунищего семинариста, поднявшего его со дна жизни на поверхность? Отсюда один шаг и до следующей ступеньки — крещения (его предшественник Анисим Григорьевич Верткин принял православие), а там — и должность следователя, не того, с кого спрашивают, а того, кто сам спрашивает.
Расчет ли? Случайность ли? Зачем искать причину? Во всем, что происходит, виноваты не Беньямин Иткес, не Юлиана Гавронская, не прачка Магда, а он сам. Он сам расставил силки и сам в них попался. Теперь ему отсюда, из логова зла, живым не уйти. Впрочем, почему, Семен Ефремович, логово зла? Называйте место своей службы логовом добра! Если вещь не названа по имени, ее, батенька, не существует, а вещь несуществующая, но названная по имени, приобретает права гражданства, вид на жительство… ха-ха… Логово добра! Логово любви к престолу и отечеству!.. Впрочем, почему, Семен Ефремович, логово? Твердыня! Цитадель! Обитель!
Все это вдруг вышелушилось из газетной заметки, высветилось из маленького облачка порохового дыма, растаявшего у входа в цирк Мадзини, и бессвязно пронеслось перед Семеном Ефремовичем Дудаковым, который внезапно почувствовал такую щемящую жалость к своему среднему брату Гиршу, государственному преступнику, незадачливому сапожнику, к своему отцу каменотесу Эфраиму, к самому себе, обманутому в своих возвышенных ожиданиях; его захлестнуло такое искреннее, дотоле никогда не тяготившее его сострадание ко всему на свете, что он несколько раз сглотнул комок и на всякий случай прикрыл глаза, чтобы удержать под веками слезы.
Довод Князева о том, что другой возможности увидеться с живым братом, по всей видимости, не будет, привел Семена Ефремовича в состояние, близкое к обмороку. Он понимал, что ничем не сможет помочь Гиршу и — что еще важнее — отцу Эфраиму, но вместе с сознанием собственного бессилия проклевывалось другое чувство, которое Шахна за собой раньше не замечал и в котором было что-то и от горького, необъяснимого злорадства и от неправедной и обременительной гордости за Гирша одновременно.
— Когда его приведут? — после долгого молчания спросил Семен Ефремович.
— Придется нам самим туда поехать, — сказал Ратмир Павлович.
— Куда?
— В 14-й номер. Крюков! — крикнул полковник.
В кабинет влетел писарь, служивший с Князевым еще в Томске и преданный своему начальнику как собака.
— Карету! — приказал полковник.
— Лошадей чистят, ваше высокоблагородье… Раньше чем к вечеру, не успеют…
Семен Ефремович молчал. Ему вдруг захотелось, чтобы лошадей чистили весь день, всю ночь, весь год, всю жизнь, чтобы жандармская карета никогда не приезжала за ним и Ратмиром Павловичем. Приедет, и затрещат его, Семена Ефремовича, косточки, потому что не булыжником, а ими, его костьми, будет выложена вся дорога от жандармского управления до 14-го номера.
Семен Ефремович, нет, не Семен Ефремович, а Шахна вдруг вспомнил, как мать, бывало, колотила его за то, что, поймав муху или божью коровку, он отрывал у нее крылышки, а затем наблюдал, как насекомое беспомощно ползает по столу или оконному стеклу.
— А что, если у тебя, разбойник, оторвут крылья? — совестила его мать.
— А у человека нет крыльев.
— Есть, — сердилась мать.
— Нет! Нет! Ни у тебя, ни у отца, ни у Шмуле-Сендера, ни у меламеда Лейзера, ни у рабби Авиэзера — ни у кого! — ликовал он от своей правоты.
— Дурачок! У каждого человека есть крылья, но он их не чувствует до тех пор, пока у него их не отрывают…
Оторвали у него крылышко, оторвали, и пополз Семен Ефремович Дудаков по дубовому столу жандармского полковника Князева, по ножке стола, по давно не мытому полу кабинета, хотел было уползти за дверь, но Ратмир Павлович захлопнул ее так, что ни щелочки, ни зазубринки не осталось — только рант начищенного до блеска хромового чиновного сапога — единственная дорога всех мух и божьих коровок, которые остались без крыльев.
III
Телега Шмуле-Сендера катит в Мишкине, на почту, где старика Эфраима ждет письмо от дочери Церты. Долго сюда письма идут, ох, как долго — целую вечность. Вышлют летом, а письмо придет осенью, отправят осенью, а получишь его зимой. И радуйся! Воскобойников, прежний почтарь, сколько писем, паршивец, погубил: пойдет, бывало, в нужник и подотрется чьей-нибудь Америкой или Палестиной, и насыпь ему соли на хвост.
Эфраим может со Шмуле-Сендером ехать и ехать — аж до Петербурга, аж до Америки, аж до земли обетованной. Шмуле-Сендер как повязка на рану: только посмотрит на тебя, только потеребит короткими смешными щипками свою бороду, и печали как не бывало, сиди и слушай, как колеса скрипят, как лошадь фыркает, как в придорожных кустах птахи цвенькают.
Господи, какое счастье — дорога! Стоит еврею сделать остановку, и на него сразу же все беды обрушиваются. Но пока еврей едет, нет на свете человека счастливее, чем он. Даже если он едет на похороны.
Эфраим и Шмуле-Сендер знают друг друга шестьдесят, а может, и больше лет. Начнешь считать — со счета собьешься. Вместе в рекруты уходили, вместе на русско-турецкой воевали, вместе в окопах бога молили, чтобы уберег и вернул их живыми-здоровыми на родину, в Литву, в их тихое и мирное местечко.
Еще в детстве оба поклялись не расставаться до самого смертного часа.
— Я умру раньше тебя, — уверял водовоза Эфраим.
— Нет, раньше умру я, — великодушно возражал Шмуле-Сендер. — В роду Дудаков все долгожители. Кто родился на кладбище, тот живет столько, сколько праотец Авраам.
— Я родился в избе.
— Ты — в избе. А твой дед?
— И дед в избе.
— Не в избе, а на кладбище, — втолковывал Эфраиму Шмуле-Сендер.
— На кладбище? — брови Эфраима взмывали вверх, как две ласточки.
— В Мишкине тогда чума свирепствовала. Косила всех без разбору. Всполошились евреи, наняли старовера Кирьянова, поставили у ворот кладбища, положили золотой — целый золотой! — в день и велели: «Как только пронесут покойника, кричи, Иван, благим матом: «Нет тут больше места! Нет тут больше места!»
— Ну и что?
— Первый день еще прошел так-сяк. А второй!.. То ли Кирьянову заплатить забыли, то ли по другой причине — Иван стоит у ворот и во всю глотку кричит: «Всем места хватит! Всем места хватит!» Чума и распоясалась. К вечеру — двенадцать трупов. Прибежали евреи к раввину: «Рабби, что делать?» А рабби им в ответ: «Беременную найдите». Нашли беременную — прабабку твою, Черну, царство ей небесное, привели к раввину. «Впрягите ее в соху и проведите между кладбищем и местечком межу глубиной в пять вершков и шириной в двадцать!» Прадед твой Генех чуть ему глаза не выцарапал: «Сами, рабби, впрягитесь! Черна вам не вол и не лошадь!» Упали люди на колени перед твоим прадедом и давай его умолять. И что ты, Эфраим, думаешь? Как только Черна вспахала межу, дед твой Шимен, да будет благословенно его имя, и запищал. И чума, услышав писк младенца, сдалась и отступила из местечка. С тех пор и чума, и моровая язва, и проказа обходят его стороной.
Старик Эфраим может слушать Шмуле-Сендера целыми часами, хотя и не верит ни в чудотворную межу, ни в старовера Кирьянова, согласившегося за золотой отпугивать чуму, ни в другие байки.
Пусть Шмуле-Сендер привирает. Вранье — вино бедных, медовый напиток горемык.
Но сегодня Шмуле-Сендер молчит. Даже лошадь не понукает. Сидит, нахохлившись, смотрит на большак, на придорожные деревья, и мысли его переплетаются, как ветви, и сквозь гущу ветвей проступает не мишкинская почта, а далекая-предалекая Америка, город Нью-Йорк, где сын Шмуле-Сендера белый Берл торгует белыми часами.
Водовоз завидует Эфраиму. Эфраим за письмом едет. За письмом. А от белого Берла ни слуху ни духу. Ни белых, ни — упаси бог! — черных писем. Письма! Письма! Для того ли Шмуле-Сендер и Эфраим растили детей, чтобы в жару и стужу тащиться на почту за жалкими крохами радости. Хорошо еще, если радости. А вдруг горе? Господь, как известно, радость отвешивает крохами, а горе караваями. И потом, разве из крох радости соберешь живого Берла или Церту?
Шмуле-Сендер, думает старик Эфраим, глядя на взмокшую спину возницы, еще грех жаловаться. Белый Берл ни в кого не стрелял, не наградил господь водовоза и дочерью, не сподобил его чести иметь внука-байстрюка и зятя-фармазона.
Эфраиму страх как хочется, чтобы Шмуле-Сендер заговорил с ним о Гирше, о зерноеде Шмерле-Ицике, о раненом виленском генерал-губернаторе, о своем удачливом белом Берле (три года прожил в Нью-Йорке и каменный дом купил. Каменный!) — пусть говорит о чем угодно, только не студит его душу молчанием.
— Послушай, Шмуле-Сендер, — начинает Эфраим, — ты мог бы быть палачом?
— Лучше быть Ротшильдом.
— Мог бы, скажем, вздернуть человека? — не унимается каменотес.
— Как это вздернуть?
— Намылить веревку, накинуть ее на шею…
— Тебе?
— Мне… Авнеру… или…
Шмуле-Сендер понимает, куда клонит Эфраим. На уме у него не Авнер, а сын Гирш. За покушение на генерал-губернатора его, Гирша, по головке, конечно, не погладят. Если признают виновным — а еврей еще до рождения, до выстрела в губернатора, до суда виноват, — то дела его плохи: в тюрьме сгноят или, как говорит Эфраим, вздернут на виселице.
Лошадь трусит по большаку. Шмуле-Сендер помахивает кнутом скорее для вида, чем для острастки. Старик Эфраим придерживает шапку — не дай бог, ветер сорвет, потом гоняйся за ней, как мальчишка за бумажным змеем.
— По-моему, — говорит Эфраим, — в каждом из нас два человека живут.
— У меня и для одного места мало, — отшучивается Шмуле-Сендер.
Ровный большак навевает неодолимую сладкую дремоту. Кажется, мать качает люльку, и тебя, маленького, беззащитного, кидает, как щепку, из стороны в сторону.
— Два человека в каждом из нас… два… Один намыливает веревку, другой стоит на табурете и молится.
Шмуле-Сендер не перечит Эфраиму. Два так два. Пусть победит не тот, кто намыливает веревку, а тот, кто стоит на табурете. Но разве, стоя на табурете, победишь?






