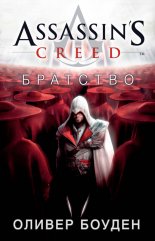Марина Цветаева: беззаконная комета Кудрова Ирма
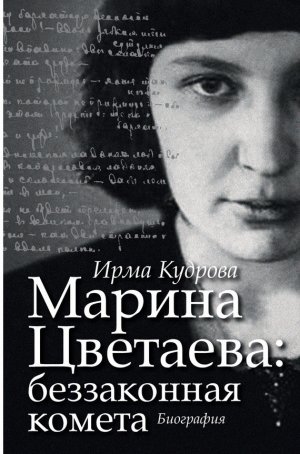
«Можно тени любить, но живут ли тенями / Восемнадцати лет на земле?» – так сказано в ее стихах осени 1910 года.
Тут-то и явился Волошин. Живой, энергичный, восхищенный, не собирающийся ни влюбиться, ни жениться, но предлагающий дружбу и открывающий мир русских литературных собраний, куда Марина уже делала первые робкие шаги. Теперь это происходит на новых началах. Не как знакомую гимназисточку ведет Волошин Марину на Новинский бульвар в дом Алексея Толстого, только что переселившегося из Петербурга в Москву, а как автора талантливой книжки, как поэта! И как своего друга – на началах равноправия.
Литературные знакомства Цветаевой быстро ширятся. Она будет вспоминать потом, уже после смерти Максимилиана Александровича, что он обладал, среди других, еще одним редким качеством: не только сам был «коробейником друзей», но страстно любил сводить, знакомить, «дарить» своих друзей друг другу…
Зимой 1910–1911 годов Москву сотрясают студенческие волнения, связанные с истязаниями политических заключенных. Одновременно открывается выставка художников «Мира искусства» на Большой Дмитровке. А на театральных подмостках с огромным успехом идут пьесы Ибсена, восславляющие сильную личность, готовую бунтовать против всего мира… Но достоверно мы знаем лишь о том, что читает в эту зиму Марина и что она думает о прочитанном, потому что именно этой теме посвящены сохранившиеся ее письма Волошину.
Тема литературных пристрастий не могла не возникнуть между этими двумя книгочеями в первом же разговоре, воспроизведенном позже в очерке «Живое о живом»:
«– А Франси Жамма вы никогда не читали? А Клоделя вы…
В ответ самоутверждаюсь, то есть утверждаю свою любовь к совсем не Франси Жамму и Клоделю, а – к Ростану, к Ростану, к Ростану. ‹…›
– А Анри де Ренье вы не читали – “La double maitresse”?[3] А Стефана Малларме вы не…»
Этот разговор они оживленно продолжают и в переписке, хотя оба пока в Москве. Но – увы! – в марте в квартире Марины ставят телефон. И он отберет у нас множество неповторимых живых подробностей этой зимы.
Гурзуф
В начале апреля 1911 года Марина решает бросить гимназию; восьмой класс считался уже необязательным. И уезжает в Гурзуф.
А Волошин отбывает в свой Коктебель. И вот наше везение: снова возникают письма!
В Гурзуфе она снимает комнату в доме, который стоит над самым морем, на головокружительной высоте. Прямо со скалы можно спуститься к побережью, преодолевая страх: нога скользит, с трудом нащупывая опору; подбадривают только строки переиначенного Бальмонта, и Марина цитирует их Волошину: «Я видела море, сказала она, что дальше – не все ли равно?..»
Но море – чужое, холодное; где та радость, какую она тщетно ждет от него, уже в третий раз оказываясь в Крыму?
Весна в тот год выдалась прохладная. Купаться было еще рано, и все же крымская весна прекрасна. Цветет абрикосовое дерево, светит мягкое солнце, можно загорать, лежа на скале, которую все называют здесь генуэзской крепостью, смотреть вдаль, читать книги – и писать стихи. Настоящих собеседников нет: составляют общество две скучные дамы и не менее скучный господин – соседи по дому, и Марина сбегает от них при каждом удобном случае.
Позже она вспоминала эти гурзуфские дни как «месяц чудесного одиночества». Но послушаем ее тогдашний голос.
В письмах, отправленных из Гурзуфа Волошину, грустных письмах, – весь букет девичьего восемнадцатилетия: весна, море, музыка, книги – и чувство неприкаянности, от которого она не может избавиться. «Мучаюсь и не нахожу себе места…» – признаётся Марина своему старшему другу. Ей кажется, что книги, среди которых она привыкла жить, разрушили в ней способность к живой радости: «…много читавший не может быть счастлив!» – утверждает она решительно. И ждет от Волошина подтверждения. Концовка одного из писем почти жалобная: «Только не будьте мудрецом, отвечая, – если ответите! Мудрость ведь тоже из книг, а мне нужно человеческого, не книжного ответа…»
Это новость. Книжная мудрость у Марины теперь уже под сомнением…
Месяц в Гурзуфе проходит быстро. Утром 5 мая Марина усаживается с вещами на скрипучую арбу. Переезд в Коктебель занял почти целый день.
Глава 7
Коктебель
Она впервые видит Восточный Крым.
Ничего общего с Ялтой, Алупкой, Гурзуфом! Почти нет зелени. Рыжие мощные складки земли будто враз застыли на месте посреди бега к морю. Даже прекрасные полотна Богаевского и акварели Волошина редко передают этот дух захватывающего воздушного простора над величественной сморщенностью земного покрова…
И вот – Коктебель.
Острое двузубье Сюрю-Кая, зеленая округлость Святой горы, маленькая татарская деревушка у их подножья. Полукружье залива замыкают с запада голые громады Карадага, а с востока – мягкие очертания зеленовато-рыжих холмистых складок. В центре полукружия, у самого синего моря – дом. В те годы он стоял одиноко посреди пустынного берега – деревянный, двухэтажный, облепленный террасами. Неузнаваемый Волошин бежит навстречу Марине.
Он в сандалиях на босу ногу, в длинной полотняной рубашке-хитоне, с полынным веночком на курчавой голове. А вот и мать Волошина – Елена Оттобальдовна: отброшенные назад стриженые седые волосы, орлиный профиль, белый длинный кафтан и синие по щиколотку шаровары… Уже через день ощущение странности этих нарядов исчезло, так органичны они были здесь, на древней киммерийской земле, в обрамлении этого неба, этого моря и скал. Чувство было скорее другое – его опишет Цветаева много лет спустя: «Не знаю почему – и знаю почему – сухость земли, стая не то диких, не то домашних собак, лиловое море прямо перед домом, сильный запах жареного барана, – этот Макс, эта мать – чувство, что входишь в Одиссею». То есть в любимый с детства мир мифов и героев.
Этот Коктебель 1911 года – с мая по июль, всего-то два месяца! – станет для Марины Цветаевой праздником, лицом к которому она будет стоять всю свою оставшуюся жизнь, вглядываясь в подробности и так и не наглядевшись вдоволь, сколько бы ни припоминала. Она расскажет об этом в своей прозе; новые детали добавит сестра Анастасия в мемуарах. Но сколько бы их ни было, целого нам не слепить: волшебство счастья не раскладывается на составные.
К началу мая дом Волошина уже был полон дачниками-друзьями. За самую скромную плату мать Волошина сдавала комнатки в доме и пристройках; делом сына было созвать сюда не случайных, а милых сердцу людей. Впервые такая компания собралась здесь за два года перед тем, летом 1909 года: тогда здесь жили Николай Гумилев, Елизавета Дмитриева, молодой Алексей Толстой с художницей Софьей Дымшиц… Нынче гостили художники Кандауров и Богаевский и трое Эфронов – две сестры и брат, дети давней знакомой Волошина Елизаветы Петровны Дурново-Эфрон.
Коктебель. Вид на Карадаг. Фото Г. Астафьевой
Удивительная атмосфера царила в волошинском доме. Кажется, всеобщим чувством здесь была радость, беспричинная радость, от которой блестели глаза, легко вспыхивал смех, а мир и море казались синее и прекраснее. Что было причиной? Само ли крымское лето или ни на кого не похожий хозяин дома, которого здесь все звали просто Макс, – трудно было определить, но Марина увидела себя словно на другой планете. Какой контраст с бытом и укладом их дома в Трехпрудном переулке! С его спартанским аскетизмом, подчиненностью ежедневного ритма суровому, хотя и любимому труженичеству, с одиночеством всех – порознь – в своих комнатах, за письменными столами или роялем. Она ощутила этот контраст уже во второй раз – первый был, когда она ездила к Юркевичам в Орловку.
В Коктебеле тоже много трудились – сидели за столами или мольбертами, писали стихи, прозу и картины, читали, но праздник, радость, дружелюбная совместность были неизменным светильником всякого уединения. Юмор здесь ценился чуть ли не превыше всего; незнакомого человека могли сразу принять в компанию, едва он проявлял талант к сочинению веселых гимнов или иронических элегий.
Внешние события двух месяцев, проведенных Мариной в Коктебеле, состояли из прогулок в горы: в одиночку и вдвоем с Максом, и еще вдвоем с Сережей Эфроном, и вшестером, и вдесятером. А еще были ближние и дальние пешие путешествия вдоль берега – в дальние бухты. И поездки по морю: турки-контрабандисты на веслах и несравненный гид – Макс, завораживающий своими рассказами о Киммерии и Одиссее, об амазонках и таинственном гроте в недалекой бухте. Грот получался уже совсем не грот, а вход в Аид… И были поездки посуху – на можаре в Старый Крым – слушать пение Олимпиады Сербиновой, старой приятельницы Волошина.
Посещали и Феодосию, где у Волошина со времен детства множество друзей. И все участвовали в неистощимых волошинских выдумках и розыгрышах… Разумеется, и купались, и часами лежали на берегу, перебирая восхитительные округлые прибрежные камешки; этой «каменной болезнью» тут заболевали все без исключения…
Дом Волошиных. Коктебель. Начало 1900-х гг.
Каждый год 16 мая весело отмечался день рождения Волошина. Незадолго до торжественного дня к дому прибивали фанерный ящик, и все опускали туда свои стихи и рисунки – в том числе и сам Максимилиан Александрович. А в самый день устраивались театрализованные представления, розыгрыши, игры. Коронным номером Волошина был вдохновенно исполняемый им танец «полет бабочки». Поздним вечером, а то и ночь напролет читали стихи на одной из террас или на крыше волошинского дома. Тогда наступали часы полного счастья. Крупные, низкие, яркие южные звезды висели прямо над их головами…
Но, может быть, не осталось бы в памяти Марины это лето самым светлым пятном в жизни, если бы оно исчерпывалось калейдоскопом внешних впечатлений. Не в том было дело.
Не только в том.
В юной Марине стремительно разрастался процесс благодетельного высвобождения от былой и уже привычной замкнутости. Она распрямлялась от тоски, граничившей с неврастенией, от гнетущих размышлений, доставлявших вполне реальные страдания.
Бабочка выпрастывалась из кокона – к живой жизни.
И когда младшая сестра спустя три недели тоже приехала в Коктебель, она не могла прийти в себя от изумления: «Это – Марина?..» Загорелая, счастливая, легкая, будто вся пронизанная светом, в шароварах, со светлыми, пушистыми, чуть вьющимися волосами, Марина смеялась. Куда подевались ее колючесть, настороженность, отстраненность, постоянная готовность к обороне ото всего мира!
Театрализованные игры в Коктебеле. Слева – Максимилиан Волошин
Еще недавно «я» и «мир» противостояли в ней друг другу – в Коктебеле в какой-то неуследимый момент они слились. Будто кто-то повернул фокусное кольцо бинокля, и только что казавшиеся враждебными очертания мира вдруг прояснились – и оказались прекрасными. Еще в Гурзуфе было то же море перед ее глазами, те же небо и горы, и солнце над головой, но не было места самой себе в мироздании! Теперь она будто ощутила себя камешком, вставшим на свое единственное место в прекрасной мозаике мира. Мир разом обрел цвет, запах, глубину, высоту – воплотился.
Тут не было одного-единственного Пигмалиона. Он был в трех ипостасях: Коктебеля, Волошина – и высокого юноши, прекрасного, как принц, с глазами цвета моря. Его имя было – Сергей Эфрон.
Любовь вспыхнула по классическому канону – с первого взгляда. Это уже потом их встреча плотно обросла мифами – в цветаевских стихах, прозе и письмах.
Вариант из «Истории одного посвящения»:
«1911 г. Я после кори стриженая. Лежу на берегу рою, рядом роет Волошин Макс.
– Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.
– Марина! (вкрадчивый голос Макса) – влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, – глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)… булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!
– Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!
На террасе волошинского дома. Слева – Марина Цветаева, Лиля Эфрон, в центре – Сергей Эфрон, справа – Владимир Соколов, Вера Эфрон, Елена Оттобальдовна Волошина, стоит Владимир Рогозинский. 1913 г.
А с камешком – сбылось, ибо С. Я. Эфрон, за которого я, дождавшись его восемнадцатилетия, через полгода вышла замуж, чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне – величайшая редкость! – генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной».
Еще штрих к началу – в письме Марины Сергею, написанном уже в 1921 году: «Вы сидели рядом с Лилей в белой рубашке. Я, взглянув, обмерла: “Ну можно ли быть таким прекрасным?”» И в том же письме (написанном уже спустя десять лет после встречи!) она добавляла: «Сереженька, умру ли я завтра или до 70 лет проживу – все равно – я знаю, как знала уже тогда в первую минуту: – Навек…»
«Он весь был – навстречу, – пишет о Сергее Эфроне в своих «Воспоминаниях» Анастасия, – раскрытые руки, весь, к каждому благожелательство, дружба, сияющие добротой и вниманием глаза, вхождение в душу…»
На террасе волошинского дома. Слева С. Эфрон и М. Цветаева, в глубине – Волошин
Сережа – сын народоволки, народоволка же происходила из богатой и знатной семьи отставного гвардейца николаевских времен Дурново. И мальчик вырос в старинном барском особняке Москвы, в одном из тихих переулков Арбата. Он еще и теперь помнил залу с колоннами и хорами, стеклянную галерею, зимний сад, диванную, портретную и мезонин, соединенный с низом крутой деревянной лесенкой – такой же, как в гораздо более скромном трехпрудном доме Марины. Пять лет Сергей учился в престижной частной гимназии Поливанова, но потом трагические события, разразившиеся в семье, привели к продаже дома, и Сергей переехал в Петербург к своей старшей замужней сестре Анне. Еще в гимназии он начал страдать от бесконечной череды прилипавших к нему болезней; в 1910-м обнаружился еще туберкулез. И начались его скитания по санаториям.
С. Эфрон (в кресле слева), М. Цветаева, В. Соколов. На втором плане К. Субботина (?), В. Эфрон, Л. Фейнберг
Елена Оттобальдовна Волошина (Пра), Марина и Ася в волошинском доме. 1911 г.
Сергей был ровно на год младше Марины; он даже не закончил гимназию…
В этом году (и еще в 1913-м) в Коктебеле увлекались фотографированием. К счастью, многие фотографии уцелели. Их скверное качество все же не лишает нас возможности взглянуть на тогдашних обитателей волошинского дома. Вот на одном из снимков мы видим как бы сцену из жизни древней Киммерии: некто, похожий чуть ли не на Зевса (это, конечно, Волошин), воздев руку, вещает нечто непререкаемое, и ему благоговейно внимают юные гурии в шароварах и туниках, с венками на головах; а вот вся компания сидит на террасе за длинным деревянным столом вокруг самовара, большой уютной семьей. Волошина здесь нет, – возможно, именно он и фотографирует, – и место хозяйки у самовара занимает мать Максимилиана Александровича Елена Оттобальдовна (Пра, как все зовут ее с этого года, что означает сокращенное «праматерь»), На другой фотографии – сестры Эфрон, Вера и Лиля, Сергей, Пра и Марина. Они сидят в кабинете Волошина, среди его книг. А вот и отдельно Марина – с раскрытой на коленях книгой, в том же кабинете. Округлое девичье лицо, какая-то милая незащищенность взгляда, короткие волосы, которые на снимках постоянно получаются темными, хотя были светло-русыми. Еще один снимок: опять терраса, наполненная постояльцами дома; в центре стоит Марина, а на переднем плане, опершись о притолоку, стоит Сергей Эфрон – похоже, что тут запечатлено чтение стихов Мариной. А вот и снова – Сережа и Марина. Первый выглядит здесь старше своих лет, Марину же сильно уродует пенсне. Других их совместных фотографий того времени нет, но на групповых они всегда рядом. Вот Сережа в шезлонге, под голову подложена подушка, он устало откинулся на нее (нездоров!), а рядом верным стражем в «матросской» блузке – Марина. Тут же сестры Эфрон, Владимир Соколов (в будущем актер Камерного театра).
Максимилиан Волошин. 1911 г.
С Максимилианом Александровичем отношения в Коктебеле утратили остатки «светскости», которая все-таки сковывала Марину в Москве. Макс стал дорогим другом, которому можно было доверить все. Но и доверять было не надо, потому что он все сам угадывал с полуслова – и без слов. От него исходило постоянное тепло не просто сердечного внимания, но восхищения – и как раз тем самым, чем она сама в себе больше всего дорожила.
Марина откровенно нежится в лучах волошинского неистощимого дружелюбия и жизнерадостности – и исподволь наблюдает за старшим другом; именно здесь она открывает его для себя по-настоящему. Его душевную уникальность, бесконечную мягкость, доброту, неисчерпаемость знаний – и потрясающую способность превращать будни в праздники.
В мастерской Волошина. 1911 г.
«Чем я тебе отплачу? – озабоченно писала она Максимилиану Александровичу, едва покинув Коктебель. – Это лето было лучшим из всех моих взрослых лет, и им я обязана тебе».
Кто мог знать, что лучшим это лето оказалось из всех лет, прожитых Цветаевой; она не раз потом говорила об этом. И отплатила щедро – написав через двадцать с лишним лет блестящую литературную эпитафию умершему другу: очерк «Живое о живом».
Сережа с трудом переносил коктебельскую жару. Оттого-то в начале июля они и уехали с Мариной – в уфимские степи, лечить болезнь кумысом и сливками. Едут по рекомендации знающих людей. Приют находят в Усень-Ивановском заводе Белебеевского уезда, в маленькой деревушке; там они снимают то ли домик, то ли комнатки в доме.
Письма, идущие отсюда в Коктебель, наполнены – иначе не скажешь – радостным щебетанием. С трудом Марина останавливает себя, чтобы сообщить хоть какие-то конкретности их быта. Быт упрощен до предела. Известно только, что Марина спит на какой-то раскладушке, угрожающей прорваться и уронить ее на пол при малейшем повороте. И – знаменательно, что о книгах и чтении сообщается в последнюю очередь: не это заполняет сейчас жизнь молодой пары. Хотя именно здесь оба замышляют несколько важных вещей: уход из гимназий – и творческие свершения. Не в этой ли деревушке Сергей начнет писать свою первую книгу «Детство», где даст неповторимый портрет своей избранницы в главе «Волшебница»? А Марина – не тут ли начинает составлять второй поэтический сборник «Волшебный фонарь»?
Марина и Сергей
Может быть, именно в эти дни созревает и решение соединить свои жизни навсегда? И отправиться затем в свадебное путешествие?
- Ждут нас пыльные дороги,
- Шалаши на час…
- Милый, милый, мы – как боги:
- Целый мир для нас!
В уфимской деревне написаны эти строки или уже позднее, не столь важно. Главное другое: резко изменившийся тонус, захлеб счастья, порыв души навстречу жизни, к миру, который чуть не в одночасье утратил свою былую враждебность.
Они пробыли здесь почти весь август.
Глава 8
Сивцев Вражек
В это время Иван Владимирович Цветаев – за границей по делам музея, брат Андрей путешествует, старшая сестра Валерия тоже в отъезде. И, вернувшись в Москву, влюбленные поселяются в трехпрудном доме! Марина уступает Сергею свою комнатку с «наполеоновскими» обоями, а сама переезжает вниз, в бывшую девичью.
Уже вернулась домой и Ася. Вечерами к ней приходит светловолосый красавец Борис Трухачев, с которым она познакомилась еще прошлой зимой на катке.
Две влюбленные парочки образуют веселую компанию. Они устраивают себе волшебный месяц. Марина вспоминала: «Сколько сладких пирожных! – все время сладкие пирожные! – и сколько стихов – все время стихи! – и сколько любви: наша влюбленная дружба с Асей (“неразлучные”) – и наша – навеки – любовь с Сережей, и Асина шутливая нежность с Сережей, и моя – настороже – галантность с Борисом, и увлеченность – несмотря на разительную разницу – друг другом Сережи и Бориса – и каток… – и вечера в темном папином кабинете с бюстом Зевса и страшными рассказами – и папа заграницей! – и мы одни вчетвером… сумасбродство, веселье, магия, молодость – шоколад, стихи…» Неудержимый хохот заполняет вечерами весь дом.
С опаской (а Сергей и с тихим ужасом) ждут они возвращения Ивана Владимировича. Он приезжает из Германии 7 октября. Но накануне молодежь еще успевает устроить последнее вольное празднество. «Мы праздновали зараз четыре рождения, – сообщает Марина в письме Волошину, – наши с Сережей, Асино, бывшее 14-го сентября, и заодно Борино будущее, в феврале… и вспоминали нашего незаменимого медведюшку…»
Но это письмо отправлено уже не в Коктебель, а в Париж. Одна из московских газет предложила Волошину стать ее постоянным корреспондентом во Франции – и Максимилиан Александрович, не колеблясь, принимает предложение. Кроме журналистики, у него нет иных средств к существованию, и Париж он любит с давних пор.
Следом за сыном собиралась ехать во Францию через Москву и Пра. Однако обстоятельства заставили ее изменить намерение.
В ожидании возвращения Ивана Владимировича Марина и Сережа не бездействовали: они подготовили рубежи для совместного существования. Уже снята квартира неподалеку от Трехпрудного переулка, на улице с чисто московским названием: Сивцев Вражек; на шестом этаже только что отстроенного дома – квартира, в которой четыре большие светлые комнаты с итальянскими окнами. Увы! От мечты жить вдвоем им пришлось сразу отказаться: тяжело заболела старшая сестра Сергея Лиля. И вот принято вынужденное решение: в новой квартире будут жить, кроме юной пары, обе сестры Эфрон. «Не знаю, что выйдет из этого совместного житья, ведь Лиля все еще считает Сережу за маленького», – пишет в Париж Максу огорченная Марина. И настаивает: «Я сама очень смотрю за его здоровьем, но когда будут следить еще Лиля с Верой, согласись – дело становится сложнее…»
Неожиданный приезд в Москву матери Волошина смягчает ситуацию. Пра решает остаться в Москве. Сестры Эфрон так нежны к ней, уставшей от одинокой жизни, что их предложение жить всем вместе одной семьей обольщает Елену Оттобальдовну. В квартире на Сивцевом Вражке ей выделяют комнату. Пра покупает кресло, кровать, стол – и оседает в Москве на всю зиму. Благодаря этому замечательному обстоятельству нам известно множество подробностей жизни «обормотника». (Так вскоре прозвал их квартиру № 11 молодой прозаик Алексей Толстой, поселившийся двумя этажами ниже. По другим сведениям, прозвище «обормоты» придумал не Толстой, а Волошин.)
Пра регулярно пишет письма сыну в Париж и красочно описывает в них все, что происходит вокруг нее…
Тут, правда, есть нюанс. Письма Елены Оттобальдовны не совсем объективны, когда речь идет в них о Марине (особенно в первые месяцы!). Долгое время Пра смотрит на молодую пару встревоженными и пристрастными глазами сестер Эфрон. А те, как и положено в таких случаях, не на шутку обеспокоены судьбой младшего брата. Они убеждены, что Марина эгоистична, не способна заботиться о больном юноше так, как надо, ужасаются режиму их жизни. «Я боюсь, что вся жизнь Сергея будет исковеркана», – пишет Лиля Эфрон Волошину. «Мне очень жаль Сережу, – вторит ей Пра, – выбился он из колеи, гимназию бросил, ничем не занимается, Марине, думаю, он скоро прискучит, и бросит она игру с ним в любовь, а ему уж не подняться на ноги свои…» И опять – в конце октября: «Марина бьет баклуши вместе с Сергеем, и оба живут точно посторонние жильцы в доме… Пропадет мальчишка ни за понюх табаку…»
(Не знаем мы, ох не знаем, когда и о чем нам стоит тревожиться! Все вздохи и страхи сестер и Пра так не по адресу… Было в этом браке роковое, – и еще какое! – но совсем не там, где это видят близкие и любящие. Кто и из-за кого пропадет в этом союзе? Кто из двоих оказался страшнее наказан? Кто был виновнее? И была ли вина?.. Нам не видны нити судьбы. Но канул бы ни за понюх табаку в Лету Сережа Эфрон, если бы не встреча на берегу моря со светловолосой девушкой, помешавшей ему в тот год спокойно окончить гимназию…)
Итак, Марина и Сережа бьют баклуши, пропадают целыми днями неизвестно где, ведут себя почти как посторонние жильцы в доме… Бьют баклуши… Но уже 27 октября этого 1911 года Марина отвезла в типографию рукопись второй своей поэтической книги «Волшебный фонарь». И примерно в то же время отдаст в печать первое свое произведение Сергей Эфрон; его «Детство» выйдет одновременно со второй книгой Марины. Конечно, они в упор не видят никого в эти недели, даже когда сталкиваются нос к носу, – что тут странного? И уж совсем невозможно для них увлечься занятиями, которые поглощают теперь все время обитателей «обормотника»: те покупают коврики, картинки, безделушки и всякие красивые тряпочки, любовно обживая новое жилье…
Книга «Детство» обнаружила несомненные литературные данные Сергея Эфрона – вполне профессиональную выстроенность сюжета, легкий, естественный диалог; тут оказались смешаны быль и фантазии, и теперь уже трудно сказать, в каком именно соотношении. Но самое интересное в книге – глава, названная «Волшебница». Это несомненный портрет Марины, сделанный влюбленным в нее женихом. По правде сказать, портрет странный – и, пожалуй, даже не слишком обаятельный. «Волшебница» Мара – странная девушка. Она фантазерка и сказочница, почти не спит ночью; непрерывно курит. Утром она вялая, серая, не любит общаться ни с кем, никогда не завтракает, пьет только черный кофе. Во время обеда обычно стоит – и поясняет, что нет ничего хуже сытого состояния человека. Вечерами же оживляется и способна всех восхитить своими выдумками и рассказами.
Сергей Эфрон и Марина Цветаева. Москва. Ноябрь 1911 г.
Вот в доме, где гостит Мара, семья усаживается за дневной чай.
«– Вам, Мара, какого? Крепкого, среднего или слабого?
– Черного, как кофе.
– Ведь это очень вредно…
– Страшно действует на нервы, отравляет весь организм, лишает сна, – скороговоркой продолжала Мара.
– Зачем же вы его пьете?
– Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая. ‹…›
– Вы, кажется, горячий противник гигиены?
– Люди, слишком занятые своим здоровьем, мне противны. Слишком здоровое тело всегда в ущерб духу. Изречение “в здоровом теле – здоровая душа” вполне верно, – потому я и не хочу здорового тела.
Папа отодвинул чашку.
– Так здоровая душа, по-вашему…
– Груба, глуха и слепа. Возьмите одного и того же человека здоровым и больным. Какие миры открыты ему, больному!..»
И несколькими строками ниже:
«– Я хочу дать вам верное понятие о себе. Если бы я сейчас замолчала, вы бы сочли меня за рисующуюся, самовлюбленную девчонку Я не такова, потому продолжаю. Мы говорили о главном, что я ценю в себе. Это главное, пожалуй, можно назвать воображением. Мне многое не дано: я не умею доказывать, не умею жить, но воображение никогда мне не изменяло и не изменит…»
(Уже в преклонные свои годы Анастасия Цветаева, рассказывая о сестре, утверждала: портрет, созданный юным Сергеем Эфроном в его первом литературном произведении, был на редкость похож на оригинал!)
Сергей и Марина. Ноябрь 1911 г.
Повесть Эфрона, напечатанную в журнале «Аполлон» в 1912 году, самым доброжелательнейшим образом приветствовал сам Михаил Кузмин, назвав ее «свежей и приятной книгой», искренней и правдивой, отмеченной «естественной грацией» и «тонкой наблюдательностью».
Ровно год спустя после выхода в свет «Вечернего альбома» Марина пишет Волошину в Париж: «Дорогой Макс, у меня большое окно с видом на Кремль. Вечером я ложусь на подоконник и смотрю на огни домов и темные силуэты башен. Наша квартира начала жить. Моя комната темная, тяжелая, нелепая и милая. Большой книжный шкаф, большой письменный стол, большой диван – все увесистое и громоздкое. На полу глобус и никогда не покидающие меня сундук и саквояжи. Я не очень верю в свое долгое пребывание здесь – очень хочется путешествовать! Со многим, что мне раньше казалось слишком трудным, невозможным для меня, я справилась и со многим еще буду справляться! Мне надо быть очень сильной и верить в себя, иначе совсем невозможно жить! Странно, Макс, почувствовать себя внезапно совсем самостоятельной. Для меня это сюрприз – мне всегда казалось, что кто-то другой будет устраивать мою жизнь.
Теперь же я во всем буду поступать, как в печатании сборника. Пойду и сделаю. Ты меня одобряешь? Потом я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично! Глупо и неприлично так думать – вот мое сегодня…»
А 3 ноября «дорогому медведюшке» уже послано приглашение на свадьбу и предложение быть шафером. «Слушай мою историю, – пишет Марина в том же письме, – если бы Дракконочка (Л. А. Тамбурер. – И. К.) не сделалась зубным врачом… я бы не познакомилась с ней, не узнала бы Эллиса, через него не узнала бы Н‹иленде›ра, не напечатала бы из-за него сборника, не познакомилась бы… с тобой, не приехала бы в Коктебель, не встретилась бы с Сережей, – следовательно, не венчалась бы в январе 1912 г.» И далее: «Разговор с папой кончился мирно, несмотря на очень бурное начало, – пишет Марина. – Бурное – с его стороны, я вела себя очень хорошо и спокойно.
– Я знаю, что в наше время принято никого не слушаться… (В наше время! Бедный папа!)… Ты даже со мной не посоветовалась. Пришла и – “выхожу замуж!”
– Но, папа, как же я могла с тобой советоваться? Ты бы непременно стал мне отсоветовать.
Он, сначала:
– На свадьбе твоей я, конечно, не буду. Нет, нет, нет.
А после:
– Ну, а когда же вы думаете венчаться?
Разговор в духе всех веков!»
Пра сообщила о помолвке сыну с не слишком доброжелательной обмолвкой: «Марина женится на Сереже». И в следующем письме тональность та же: «Марина, по объявлении себя невестой, стала милее, разговорчивее, дружелюбнее…»
Жених и невеста обдумывают маршрут своего свадебного путешествия, когда от Макса приходит странное письмо. «Только что, – сообщает Пра сыну, – вошла в мою комнату Марина и прочла нам (мне, Лиле, Вере) часть твоего письма к ней. Чтение аккомпанировалось нашим дружным хохотом». Но Марина чувствовала себя оскорбленной.
Позже она рассказала об этом единственном своем разминовении с Волошиным: «В ответ на мое извещение о свадьбе с Сережей Эфроном Макс прислал мне из Парижа вместо одобрения или, по крайней мере, ободрения – самые настоящие соболезнования, полагая нас обоих слишком настоящими для такой лживой формы общей жизни, как брак. Я, новообращенная жена, вскипела: либо признавай меня всю, со всем, что я делаю и сделаю (и не то еще сделаю!), – либо…»
Ближайшей почтой в Париж ушло разгневанное письмо невесты: «Есть области, где шутка неуместна, и вещи, о которых нужно говорить с уважением или совсем молчать за отсутствием этого чувства вообще. Спасибо за урок!»
Но с Максом нелегко было поссориться – он просто не давал своего согласия на ссору. Вскоре пришел его ответ, «любящий, бесконечно отрешенный, непоколебимо-уверенный, кончавшийся словами: “Итак, до свидания! – до следующего перекрестка!..”». Примиренные, растроганные, на вершине своего счастья легко забывающие обиды, Марина и Сергей шлют своему медведюшке фотографию, отпечатанную в форме открытки, с надписью: «Вот Сережа и Марина, люби их вместе или по отдельности, только непременно люби, и непременно обоих…»
Тем временем 3 ноября в «Обществе свободной эстетики», которым руководил Валерий Брюсов, состоялось первое публичное выступление поэтессы Марины Цветаевой с чтением своих стихов.
На вечере, собравшем почти двести слушателей, выступало восемнадцать поэтов. Среди них были сам Брюсов, Владислав Ходасевич, Борис Садовской, Надежда Львова. Марина читала стихи вместе с сестрой, в унисон, «дуэтом», голоса у них были удивительно схожими (эта странная форма чтения удержится в их практике надолго). Успех был безусловный. В открыточке, написанной Максуна следующий день, Сергей откровенно хвастался: «Их вызывали на бис. Из всех восемнадцати поэтов, читавших свои стихотворения, они пользовались наибольшим успехом…»
На этом же вечере читал свои переводы из современной русской поэзии молодой француз Жан Шюзвиль. Он тогда жил в России и вел обзоры русской поэзии для журнала «Мерюор де Франс». С Мариной они встречались и у преподавательницы гимназии Брюхоненко, где училась Цветаева, – там тоже читали стихи. Много лет спустя они встретятся в Париже, и Жан страшно огорчит Марину. Вспоминая давние годы, он признался ей: «Я так Вас боялся: Вы были так умны, так умны, что я испугался. Вы так мало были похожи на тот идеальный образ девушки, который есть у каждого молодого человека…» Слышать это было больно.
Вскоре Марина и Сережа провожали на Брестском вокзале Асю Цветаеву и Лилю Эфрон. Они уезжали за границу.
Отъезд увенчал успехом обдуманную дипломатию хитроумных сестричек. Младшей отъезд был необходим, дабы не обнаружилось раньше времени ее интересное положение, – притом что брак с Борисом Трухачевым оставался весьма проблематичным: решительно возражала мать Бориса. А для старшей сестры облегчением стал отъезд Лили: напряженная атмосфера в Сивцевом Вражке немного разряжалась.
Ивану Владимировичу сказано было, что у Аси не в порядке легкие, требуется срочное лечение за границей. А Лиля вроде бы Асю сопровождала. На самом деле пути обеих почти сразу разошлись, ибо часом позже с того же вокзала следом за Асей ехал Борис Трухачев! Вскоре молодая пара воссоединилась и путешествовала далее вместе. А Лиля укатила в Германию – слушать лекции Рудольфа Штейнера.
Прощание с домом в Трехпрудном переулке. Ася, Сергей, Марина. Ноябрь 1911 г.
Так кончался 1911 год, наступал 1912-й. Встретили его в «обормотнике» весело. «Пили шампанское, – отчитывается Пра перед сыном, – и вино у нас не по усам текло, айв рот попадало. А рождественская елка наша при зажигании ее в первый же вечер сразу вспыхнула вся, пришлось ее заливать, а она стала чадить, заволокло дымом все обормотское гнездо, но не помешало веселью обормотов и их гостей…»
Минуло меньше года с тех пор, как Марина вышла из своего девичьего терема. Хлебнула всей грудью воздуха живой жизни, узнала радость преданной дружбы и взаимной любви. Увидела себя вполне пригодной к ощущению счастья, а так уж в том сомневалась! Теперь она пишет Волошину: «Наслаждаться – университетом, когда есть Италия, Испания, море, весна, золотые поля…» Она знает, кому жалуется! Не Волошин ли, сам неутомимый путешественник, и заразил ее этим неодолимым желанием – ехать, смотреть, вбирать в себя новые впечатления?..
Свадьба состоялась 27 января. К церемонии Волошин приехать не успел (а может быть, и не захотел); он появился в Москве только в середине февраля. Но молодые дождались его, подарили свои вышедшие из печати книги – и только тогда уехали в свадебное путешествие. Оно продолжалось почти два месяца, по сказочному маршруту: Париж, Вена, Милан, Генуя, Неаполь, Палермо, Сиракузы, Рим, а на обратном пути – Шварцвальд…
Анастасия в Коктебеле
В Париже они встретили Асю – уже одну! Она успела поссориться с Борисом, и тот уехал обратно в Россию.
Теперь втроем они бродят по городу, посещая святые для них места. Приходят на могилу родителей Сережи и его младшего брата и убирают ее цветами; навещают могилу художницы Марии Башкирцевой: ее знаменитый дневник оставил в сердцах обеих сестер неизгладимый след. Взбираются, конечно, на Эйфелеву башню; посещают улочку Бонапарта, на которой жила в 1909 году Марина.
Им весело.
Сережа шутит без умолку, и, как ни пытается Ася помнить о своей «разбитой судьбе» и сохранять вид элегантной печальной дамы, ей это плохо удается. И, разумеется, все вместе идут в театр – смотреть Сару Бернар в «Орленке». «Сара с трудом ходит по сцене (с костылем). Голос старческий, походка дряблая – и все-таки прекрасно!» – сообщает Сергей сестре Вере в Москву.
Затем молодые едут в Италию, а Ася возвращается в Россию.
Генуя, Милан, Неаполь – и, наконец, Палермо! Здесь они живут в отеле на четвертом этаже – «у самого неба!» – пишет Марина Волошину. Максу они пишут оба, потому что Сицилия сразу воскрешает в их памяти Коктебель – те же горы, та же полынь с ее горьким запахом. Но рокочущая Этна их пугает, тем более что они посетили разрушенную не так уж давно Мессину…
Глава 9
Открытие музея. Семейное
Молодые вернулись в Москву к Троице, незадолго до самого праздничного дня жизни Ивана Владимировича Цветаева.
Музыка и музей – это было то, что безраздельно царило в трехпрудном доме с тех пор, как дочери Марии Александровны стали осознавать себя. «Музей был наш младший брат, – шутила потом Марина, – он рос вместе с нами…» Пытаясь проследить, когда именно родилась у отца мечта о русском музее античной скульптуры – тогда ли, когда в глухих Талицах Шуйского уезда за лучиной сын сельского священника изучал латынь и греческий, или тогда, когда, откомандированный Киевским университетом, он впервые вступил ногой на римский камень («Вот бы другие – такие же, как он (босоногие и лучинные), могли глазами взглянуть!»), – Цветаева утверждала: то была мечта, «с отцом сорожденная».
Музей изящных искусств имени Александра III
Подруга юности Андрея Цветаева А. Н. Жернакова-Николаева вспоминала: «Иван Владимирович был человеком, всецело преданным своему делу. Человек он был мягкой, нежной души, иногда совершенно наивный. Я помню, как однажды он рассказывал о совете, который он дал императору Николаю II. Было это на одной из аудиенций, которые охотно давал ему государь, прекрасно относившийся к профессору Цветаеву. Иван Владимирович поведал государю, какие милые и приветливые бывают студенты, когда осматривают музеи и картинные галереи. Иван Владимирович кончил свою речь словами: “Ваше Величество! Надо основывать больше музеев и галерей, тогда не будет студенческих беспорядков…”»
Ближайшим помощником Цветаева в осуществлении грандиозного замысла была его жена Мария Александровна. Она вела всю его иностранную переписку, а потом, в бытность за границей, едва ей становилось лучше со здоровьем, ездила по поручению мужа по старым городкам Германии, «выбирая и направляя, торопя и горяча, добиваясь и сбавок и улыбок». После смерти матери всю немецкую переписку отца взяла на себя Марина. А дед ее со стороны матери, умирая, оставил на музей часть своего состояния…
Иван Владимирович Цветаев в парадном мундире. 1912 г.
Детское воспоминание Марины: «Папа и мама уехали на Урал за мрамором для музея. Малолетняя Ася – бонне: “Августа Ивановна, а что такое музей?” – “Это такой дом, где будут разный рыб и змей, засушенный”. – “Зачем?” – “Чтоб студент мог учить”. ‹…› Пишем папе и маме письма, пишу – я, неграмотная Ася рисует музеи и Уралы, на каждом Урале – по музею. “А вот еще Урал, а вот еще Урал, а вот еще Урал”, – и, заведя от рвения язык почти за край щеки: “А вот еще музей, а вот еще музей, а вот еще музей…”»
Наконец любимое детище Ивана Владимировича, великий человеческий подвиг ученого и, словами дочери, «четырнадцатилетний бессеребряный труд» – Музей изящных искусств имени императора Александра III, – был торжественно открыт. Это произошло 31 мая 1912 года.
В те дни Москва была украшена флагами и щедро иллюминирована: праздновали столетие победы над Наполеоном в войне 1812 года. К этому присоединились и торжества, посвященные памяти Александра III. Музей еще в колыбели получил имя только что умершего тогда царя – так завещала первая жертвовательница на музей, сама умиравшая в те дни.
Открытие Музея изящных искусств 31 мая 1912 г. На переднем плане – Ю. С. Нечаев-Мальцев, И. В. Цветаев, за ним Р. И. Клейн
27 мая, в два часа дня, звон всех московских колоколов оповестил жителей города о вступлении царского поезда на территорию Москвы: из Петербурга прибыла царская семья.
30 мая был торжественно открыт памятник Александру III работы Опекушина. И на следующий день состоялось открытие музея.
Стояла теплая прекрасная погода; жара умерялась легким ветром с Москвы-реки. Утром этого дня газеты объявили о высочайших наградах, пожалованных архитектору Клейну, главному строителю Рербергу и обер-гофмейстеру Нечаеву-Мальцеву– «за ведение работ и сбор пожертвований на музей». Отдельно сообщалось о назначении заслуженного профессора Московского университета Цветаева почетным опекуном музея.
Ивану Владимировичу уже шестьдесят шесть лет, он ссутулился, здоровье его ослабло. Скромный, привыкший к естественному для него самоограничению во всех личных потребностях, он принужден был теперь сшить себе к торжественному дню парадный мундир, сверкавший золотым шитьем.
И. В. Цветаев с дочерью Анастасией
– Ну зачем мне, старому человеку, золото? – сокрушался Цветаев, с ужасом прикидывая, во что это шитье обойдется. – Семьсот рублей потратить на себя! Стыд и позор!
– Так это же не на себя, а для музея, папа! – уговаривает отца Марина. – Чтобы почтить твой музей. Твой новый музей – твоим новым мундиром. Мраморный музей – золотым мундиром.
И Иван Владимирович – со вздохом:
– Разве что для музея…
То был для него великий день.
Торжественный хор воспитанников и воспитанниц средних учебных заведений Москвы исполнил кантату и гимн. Дирижировал хором сам Ипполитов-Иванов, директор Московской консерватории. В три часа дня прибыл кортеж с высочайшими гостями.
Марина и Ася наблюдали за церемонией с гордостью и любопытством. Между тем им было совсем нелегко отстоять долгий молебен: до родов Аси оставалось всего два с половиной месяца, до родов Марины – немногим больше.
И. В. Цветаев с сыном Андреем
«Старики, старики, старики. Ордена, ордена, ордена. Ни лба без рытвин, ни груди без звезды. ‹…› Мнится, что сегодня вся старость России притекла сюда на поклон вечной юности Греции. Живой урок истории и философии: вот что время делает с людьми, вот что – с богами И еще одно разительное противоречие: между новизной здания – и бесконечной ветхостью зрителя, между нетронутостью полов и бесконечной изношенностью идущих по ним ног…» Это уже взрослая Цветаева описывает тот памятный торжественный день.
Дед Марины и Аси Цветаевых А. Д. Мейн с женой С. Д. Мейн (Тьо)
А смешливый Сережа Эфрон, спустя всего неделю, гордо и весело писал о церемонии в письме к сестре Вере. О том, как важно он сам выглядел, облаченный во фрак (взятый напрокат) и цилиндр (позаимствованный у самого Ивана Владимировича). Он держался так непринужденно, что его поместили между графом Витте и обер-прокурором и обращались к нему не иначе как «Ваше превосходительство». Чуть не час он простоял во время молебна в двух шагах от государя. Удивился его неимператорской внешности – малому росту, моложавости, добрым светлым глазам. Но большинство приглашенных составляли разваливающиеся сановные старики. Когда, во время пения «Вечной памяти» Александру III, они опустились на колени, «половина после этого не могла встать, – пишет Сергей сестре. – Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал всю залу своими стонами».
Уже через год Ивана Владимировича Цветаева не станет. В некрологе, написанном его учеником В. В. Розановым, сказано было о «малоречистом, с тягучим медленным словом, к тому же не всегда внятным, сильно сутуловатом, неповоротливом профессоре, который, казалось, олицетворял собою русскую пассивность, русскую медленность, русскую неподвижность. Он вечно “тащился” и никогда не шел…» Но «совершенно обратно своей наружности, – продолжал Розанов, – он являл внутри себя неутомимую деятельность, несокрушимую энергию и настойчивость, необозримые знания самого трудного и утонченного характера. Он был великим украшением университета и города…»
Вскоре после торжеств Марина повезла мужа в Тарусу – хотела, чтобы Сережа увидел любимейшие места ее детства и юности. Увы, Песочная уже была продана, брат Андрей прозевал торги!
Они остановились у Тьо – так привыкли дети Цветаевы звать бывшую экономку умершего уже деда Марины по матери; Александр Данилович Мейн выписал ее в свое время из Швейцарии как бонну для дочери и обвенчался с ней незадолго до своей кончины.
В деревянном одноэтажном, но просторном домике, окруженном старым липовым садом, старая сухонькая Тьо приняла молодых с нежностью и даже восторгом, а Сережу и с невиданным почтением. Он шутил, что она его принимает за английского лорда, скрывающего свое происхождение, и, чтобы сделать ему приятное, все время усердно хвалит Англию.
Дом сверкает чистотой, ковры, дорогие сервизы, вся мебель – в чистейших полотняных чехлах с оборками, с оборками же и платье Тьо. Часы в деревянном футляре занимали весь угол комнаты чуть не до потолка и играли каждые четверть часа как оркестр…
Ритм ежедневной жизни здесь сохранил прочную умиротворенность, какой давно уже не было в городе. По утрам тетушка выходила на террасу – в белом чепчике с лентами и в длинном белом капоте с вышивками и оборками. Сыпала в кормушку крупу, и белые голуби тут же слетались к ней, садились на плечи и на руки.
Молодые сидят за завтраком и обедом часа по два, выслушивая обстоятельно-неторопливые воспоминания Тьо. Прислуга в белой наколке подает к столу подогретые тарелки, после обеда полагается шампанское, после каждого приема пищи нужно непременно полоскать рот. Аккуратность – девиз дома; недаром старшая сестра Марины Лёра вспоминала повторявшуюся воркотню добрейшей тетушки: «Ох эти русские коекакишны!»
Но вечерами, дождавшись момента, когда Тьо и прислуга отойдут ко сну, молодые вылезают через окно в сад и бегут на реку, к лодкам. В светлые ночи они гребут по лунной дорожке, всматриваясь в темные берега; иногда проводят ночь, зарываясь в копну сена, и уже под утро росистыми лугами возвращаются домой…
В сентябре 1912 года у молодой четы родилась дочь, названная по настоянию матери Ариадной. Сергей очень хотел назвать девочку именем попроще, но Марина решительно воспротивилась и не слушала никаких возражений.
Крестины дочери отложили до возвращения из Коктебеля Елены Оттобальдовны – родители только ее желали видеть крестной матерью. Но Пра приехала в Москву лишь в декабре. По случаю крестин она заменила шаровары юбкой. «Но шитый золотом белый кафтан остался, осталась и великолепная, напоминающая Гёте, орлиная голова. Мой отец был явно смущен, – вспоминала Цветаева. – Пра – как всегда – сияла решимостью, я – как всегда – безумно боялась предстоящего торжества и благословляла небо за то, что матери на крестинах не присутствуют. Священник говорил потом Вере:
– Мать по лестницам бегает, волоса короткие, – как мальчик, а крестная мать и вовсе мужчина…»
После крестин Алю уложили в розовый атласный конверт – тот самый, в каком в свое время носили и Марину.
Через несколько дней Эфроны устраивали первую в своей совместной жизни елку. На празднике были Иван Владимирович – то было его последнее Рождество…
Стихи пишутся, но как-то не слишком интенсивно. Поэтический дар Цветаевой обычно пробуждается от тоски и боли, а не от радости и благополучия, – такова уж его природа.
Между тем в художественном климате предвоенной России «расцветают все цветы». В Петербурге рождается новый журнал «Гиперборей», в котором напечатаны стихи Гумилева, Ахматовой, Мандельштама, Городецкого. Вскоре выйдет первая книга Анны Ахматовой «Вечер»; стихи здесь будут предварены предисловием петербургского мэтра Михаила Кузмина. В самом начале 1913 года появится номер недавно возникшего петербургского журнала «Аполлон» со статьями Гумилева и Городецкого. Провозглашено новое направление в искусстве – акмеизм; в число его приверженцев запишут имена Ахматовой, Мандельштама, Гумилева и других; молодой петербургский ученый Виктор Жирмунский назовет их позже «преодолевшими символизм».
В Москве же появляются сборники «Пощечина общественному вкусу» и «Садок судей» со стихами Маяковского, Хлебникова, Бурлюка, Крученых – это заявляют о себе футуристы. Они публично появляются с позолоченными носами или с разрисованными щеками в пиджаках малинового цвета, в черных котелках, а то и в бархатном плаще с серебряными позументами. Высокий, худой, красивый Маяковский всюду появляется в своей лимонно-желтой кофте и красной феске. На поэтических вечерах футуристы ругают Пушкина и публику и способны выплеснуть чай из своих стаканов в первые ряды зала.
Марина Цветаева. 1912 г.
Стихи Крученых и Хлебникова в отдельном издании иллюстрируют Ларионов и Гончарова; футуристы в поэзии смыкаются с художниками «Бубнового валета» и «Ослиного хвоста».
Игорь Северянин собирает огромную аудиторию в «Обществе свободной эстетики»; завывающим баритоном он читает стихи, особенно выделяя почему-то носовые звуки, и держит в руках лилию на длинном стебле. Сначала его встречает оглушительный смех, но уже через час его слушают в безмолвном восторге.
Шумные дискуссии возникают вокруг нового явления в сфере живописи – кубизма, и все чаще такие дискуссии перерастают во взаимные обличения представителей старого и нового искусства. Еще один шумный сюжет возникает вокруг репинской картины «Иван Грозный и сын его Иван»: полубезумный художник Балашов в Третьяковской галерее набросился на картину с воплем: «Довольно крови!» – и изрезал ее ножом. В противовес дружному хору негодующих в защиту Балашова неожиданно выступил Волошин. Сначала в газетной статье в «Утре России», а затем в большой аудитории Политехнического музея он пытался обратить внимание возмущенной публики на то, что в самой репинской картине присутствовали «саморазрушительные силы», спровоцировавшие припадок Балашова. Волошин говорил о проблеме ужасного в искусстве, о разнице между реализмом и натурализмом. Как и следовало ожидать, никто не услышал аргументации – и теперь уже вокруг самого Максимилиана Александровича вспыхивает скандал. Безбожно перевирая сказанное Волошиным, пресса поливает его грязью, и ни одна газета не принимает собственных его пояснений…
В эти тяжелые дни Марина и Сергей протягивают своему «медведюшке» руку помощи. Они предлагают ему собрать воедино все, что относится к столь бурно обсуждающейся теме, и издают это отдельной брошюрой в своем домашнем «издательстве» «Оле-Лукойе»! Издательства как такового, вообще говоря, не существовало; год назад молодожены придумали его, чтобы самим издать Маринин «Волшебный фонарь» и Сережину книгу «Детство». Брошюру Волошина назвали спокойно – «О Репине».
Коктебель. Е. О. Волошина, М. А. Волошин, Сергей, Аля, Марина
Еще один живой эпизод этой зимы – выступление Цветаевой на «Курсах драмы» Софьи Халютиной. Марина приходит туда в сопровождении мужа, одетая в необыкновенное платье коричнево-золотистого старинного шелка с широкой пышной юбкой до полу и старинным корсажем. Это, видимо, то самое платье, в котором мы видим Марину на фотоснимках 1911 года рядом с Сергеем – из материнских сундуков. Выглядит она в этом наряде как настоящая принцесса – так, по крайней мере, воспринимают ее восхищенные курсистки Халютиной. Золотистое платье, золотая шапка тонких волос, легкий застенчивый румянец…
– Какая очаровательная смелость – прийти в таком платье в общество! – перешептываются курсистки меж собой. – Это явное презрение к моде, это отвращение к нашему обезьянству. Мы все как одна в узких юбках с разрезом – потому что вся Москва в таких ходит! Разве мы осмелимся надеть то, что носили двести лет назад? А она вот – наперекор всем! – взяла и надела.
Легко, как горная козочка (так вспоминала Мария Гринева), Цветаева поднялась на сцену. «Нас сразу поразила ее манера читать стихи, совсем незнакомая, непохожая на то, как нас учили. Обаятельная, интимная, музыкальная, ритмическая ее манера читать пленила нас. В перерыве начались горячие споры, одни были в восторге, другие доказывали, что так читать можно только дома, наедине…»
Прошла зима, и весной 1913 года семья Эфрон укатила в Крым. Лето в Коктебеле снова оказалось для них божественно счастливым. Долгие походы в горы, ночные костры, восходы солнца… «Ах, вчера было чудно! – пишет Марина в начале июня в одном из писем. – Огромная желтая луна над морем, прямо посреди залива, и под ней длинная полоса грозно-летящих облаков.
Луна то исчезала, то вспыхивала в отверстии облака, то сквозила слегка, то сразу поднималась.
Казалось, все летит: и луна, и облака, и Юпитер.
– Все небо летело… Сегодня… мы взобрались на острую, колючую скалу и сидели, свесив ноги. Были огромные, бешеные волны…»
Старый Крым. На переднем плане Цветаева и Волошин
В это лето, среди других стихотворений, она написала блистательное, ставшее теперь хрестоматийным:
- Моим стихам, написанным так рано,
- Что и не знала я, что я – поэт,
- Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
- Как искры из ракет,
- Ворвавшимся, как маленькие черти,
- В святилище, где сон и фимиам,
- Моим стихам о юности и смерти –
- Нечитанным стихам!
- Разбросанным в пыли по магазинам,
- Где их никто не брал и не берет,
- Моим стихам, как драгоценным винам,
- Настанет свой черед.
Марине еще нет и двадцати одного года. Какая, однако, спокойная, ясная уверенность в своем даре, в будущем признании! Это ее своего рода классический «Памятник»: я сделал, что мог, и это пребудет…
Под стихотворением точная дата: 13 мая 1913 года.
Точная датировка стихотворений – годом, месяцем и числом – станет теперь характерной особенностью цветаевской лирики. Эта особенность, как и хронологическое расположение стихов в сборниках, которые она будет составлять, говорит об осознанной установке на ту самую «дневниковость» ее поэзии, какую отметил еще Волошин в рецензии на «Вечерний альбом».
Владимир Соколов, Вера, Лиля, Сергей Эфроны, Марина Цветаева, Майя Кювилье
Рукопись сборника, объединившего стихотворения 1913–1915 годов, Цветаева назовет позже «Юношескими стихами» – хотя ей уже более двадцати. Но что верно, то верно: здесь скорее слышен голос юности, едва вступающей во «взрослую» жизнь, только еще осваивающейся в этой нелегкой для нее ситуации. Каждый шаг юного человека дается ему непросто – слишком резок контраст между реальностью и привычными фантазиями! Одно стихотворение за другим воплощает конфликты адаптации: неуютная жизнь полна обид и непредсказуемо острых углов.