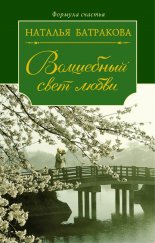Роман с Постскриптумом Пушкова Нина

Мы вернулись домой. К утру недомогание как рукой сняло. Все стало как прежде. Голос вернулся, и я должна была вернуть зрителям оперный спектакль — «Аиду». Я обожала Верди. А Аида была моей любимейшей из ролей. В день следующего концерта, когда муж уехал на работу, раздался звонок, и измененный женский голос произнес: «Ты еще здесь, русская б…? Смерти не боишься? Тебе было мало? Оставь моего Слободана! Убирайся из Белграда!» Я поняла, что эта женщина говорит в банку, чтобы голос был неузнанным, но для меня он звучал как голос из преисподней. У меня опять за считаные минуты поднялась температура. Я вызвала Слободана, с ним примчалась моя сербская подруга Зорька. Концерт опять был отменен, я тряслась в истерике, Слободан звонил в какие-то службы, чтобы выяснили, откуда был звонок, а Зорька спросила только одно: «Ты можешь срочно со мной уехать? Мы спасем тебя!»
Я не могла оставаться в квартире, не могла видеть Слободана, из-за которого мне была обещана смерть. Я села в машину Зорьки, и мы поехали в город Нови-Сад.
По дороге меня всю растрясло, и мне казалось, что именно там я и встречу смерть. На подъезде к Нови-Саду мы стали петлять среди маленьких частных домов и остановились у покосившегося забора. На скрип калитки в дверях показалась немолодая черноволосая сербка. Она пригласила нас войти. В темной комнате она проводила надо мной какие-то манипуляции, что-то шептала. Горел огонь, на голову мне была поставлена миска с холодной водой, в которую лили горячий воск. В воде возникали причудливые фигурки, потом она долго рассматривала их и наконец сказала, обращаясь к Зорьке: «Я здесь не смогу помочь. Твою русскую подругу заговорили на смерть. И снять это проклятие сможет только та, которая это сделала».
Поздно ночью мы вернулись в прежде столь любимый мною Белый город. Я чувствовала, как эта любовь поминутно вытесняется ненавистью. Я не знала, как посмотрю в глаза своему мужу. Зорька все ему рассказала.
«Я ее найду. Я всех найду. Ты будешь петь. С тобой ничего не случится. Я все сделаю», — клялся в темноте мой муж. Мой бывший муж, как я уже решила для себя.
Вскоре Наталья вернулась в Россию. У нее было несколько концертов, в том числе и на сцене Большого театра. Открывая сезон 1990 года, она совместно с Дмитрием Хворостовским и Евгением Колобовым начала концерт с арии Аиды «С победой возвратись». Московская публика восторженно приветствовала возвращение талантливой певицы.
Спустя несколько лет в Москве она вышла замуж за банкира. Со сцены почти ушла — все больше и больше стала заниматься преподаванием. Но мистическое потрясение, перенесенное на сербской земле, не уходило из памяти.
Когда она рассказывала мне эту историю, у меня по спине ползли мурашки, как будто я сама ездила с ней в Нови-Сад и сама выслушивала страшный приговор немолодой женщины без единого седого волоска, с черной, как воронье крыло, головой.
Мы нечасто встречались, но всякий раз, когда я ее видела, смеющуюся, полную жизни, я думала, что зря она поверила этим ворожеям. Не надо пускать в себя подобные страхи, надо держать свой мир закрытым от такого вторжения — и ничего не случится, думала я.
И вот спустя два года, когда я как-то зашла в Академию художеств к Зурабу Константиновичу Церетели, мне навстречу поднялся седой, убитый горем человек. Я сперва даже не узнала в нем мужа Натальи.
— Вот. Пришел попросить Зураба Константиновича памятник для Наташи сделать.
— Она что, умерла? — прошептала я.
— Да. А ты не знала? И в газетах писали, и по телевидению говорили, некрологов было много, цветов… — продолжал он уже со слезами.
«Боже мой, — подумала я. — Боже мой… Неужели то сербское проклятие настигло ее спустя столько лет, даже в Москве?» Тогда ее бывший муж сказал ей, что так и не нашел ту, что звонила с угрозами. Но у Натальи были свои догадки. Слободан был мужчина видный, богатый. Недостатка в женщинах у него не было. И одна из них, по-видимому, посчитала, что он должен принадлежать ей, а не заезжей русской певице. Все остальное, как говорится, было делом техники: полнолуние, ночь, несколько горящих свечей, трясущиеся черные волосы, невнятные заклинания и горячие иглы, воткнутые в фотографию на театральной афише. И все это происходило, скорее всего, на все той же кухне, рядом с поваренными книгами, где подробно описано, как готовить любимую чорбу Слободана…
Но задолго до этого в Белграде от меня эта история была столь же далека, как от сербов будущие бомбежки их любимого города.
Тогда, в 1993-м, сербы побеждали, и тосты за «Великую Сербию» звучали в каждом ресторане. Мосты через Дунай еще не были разбомблены авиацией НАТО. Милошевич уверенно правил страной. Никто и предположить не мог, что через тринадцать лет их президент умрет в тюрьме на чужбине, а герой Караджич предстанет перед так называемым Гаагским трибуналом.
Каддафи в Триполи. За год до мученической смерти. Его рука была холодна, как лед, а лицо напоминало посмертную маску. Предчувствовал ли Каддафи свою кончину?
Ресторанная жизнь, несмотря на эмбарго, не замирала. Она продолжалась не только в городе, но и на реке, на многочисленных пришвартованных корабликах. Все эти плавающие рестораны отделаны в типично балканском духе. Неясно, чего в нем больше — европейского стиля или восточного колорита. И в каждом из них — непременный оркестрик из четырех-пяти музыкантов, исполняющих сербские народные песни. В сербских мелодиях, как правило, сильные турецкие мотивы. Сюжет песен незамысловат: проводы на войну, смерть, верность жены, геройство на полях сражений.
Скажем, в Черногории смерть мужчины в доме, в собственной постели от старости считалась постыдной. Черногорец непременно должен был умереть смертью воина.
«Хорошо, когда это присутствует только в песнях, — думала я, — в легендах, мифах… Но как же страшно, когда это становится твоей повседневностью!»
Я вспоминала нашу поездку к линии фронта и разговор с одним из членов нашей делегации, который, сидя на террасе, обвел рукой скрытое за холмами место боев.
— Посмотри, вот два кладбища, — сказал он. — Одно — наверху горы, заброшенное, боснийское. А другое — у подножия, свежее, сербское. Смотри: у нас городок как на ладони, в одной части — все сгорело от прямого попадания бомбы, а в другой — малыши на велосипедах катаются, веревочные качели закрепляют…
***
P. S. Уже много лет Сербия и сербы не воюют. Казалось бы — хорошо! Но за эти годы их заставили выдать на зарубежное судилище их президента, где он и умер. Вынудили смириться с потерей Косова — святой для сербов земли. Навязали им кока-колу и гамбургеры, как замену древней культуре, и ограничили горизонт мечты навязчивой идеей вступления в Евросоюз, рассыпающийся на глазах… Гордость за своих воинов и свою историю всегда отличала сербов. Но чем им гордиться сегодня, в поверженной и изнасилованной стране?
А сколько стоит гейша? А сколько кимоно?
Было 4:30 утра. Я проснулась от того, что по моей постели в номере на одиннадцатом этаже гостиницы «Нью-Отани» кто-то сильно прыгал. Открыв глаза, я обнаружила, что рядом никого нет, а трясется сама постель и все вокруг.
— Алеша! — громко позвала я мужа.
— Нина! — крикнул он из ванной. — Это оно! Скорей!!!
Не понимая, что «скорей», но быстро сообразив, что «оно» — это землетрясение, я, перепуганная, обмотавшись простыней, выскочила за Алексеем в коридор гостиницы. Покачивался пол, тряслись стены. А из соседнего номера в пижамных трусах и майке с Микки-Маусом с диким воплем «What’s the hell?! What’s the fuck[8] бежал нам навстречу огромный, красный то ли от волнения, то ли от давления американец, с которым мы познакомились накануне в баре.
Бежать, впрочем, было некуда: при землетрясении в лифт категорически нельзя, да и по лестнице не убежишь.
В этот момент от стены коридора отделилась тоненькая фигурка японки, одетой в гостиничную шапочку и униформу цвета хризантемы:
— Everything’s all right, everything’s all right[9], — мелодично пропела она, направляясь к нам навстречу.
— Куда бежать? Какой, на фиг, ол райт? Это же землетрясение!!! — В недоумении и ужасе мы глядели на нее.
Сердце отчаянно колотилось, хлопали двери, в коридор выскакивали заспанные перепуганные люди. И вот уже две молодые японки — служащие гостиницы — пытаются успокоить всех нас, повторяя без устали: «Все в порядке. Это нормально. Это не сильно. Ничего не случится. Не бойтесь. Сейчас все успокоится». И говорили они это такими спокойными голосами, как психотерапевты во время сеансов. Улыбались своими неизменно любезными улыбками и, возможно, вызвали бы ненависть к себе, если бы вдруг внезапно все действительно не закончилось.
В успокоенной, неподвижной тишине, люди замедляли свое бессмысленное, дерганое движение, прислушивались к тому, что происходит вокруг, переглядывались. И еще несколько секунд слышалось тихое японо-английское: «Все в порядке. Все позади. Все в порядке…»
А еще спустя какое-то мгновение заговорили все вокруг. Люди обменивались впечатлениями, переживаниями, временами раздавался всеобщий хохот от вида друг друга. Чувствовался хеппи-энд. И еще не до конца веря, что все закончилось и не повторится, народ разошелся по комнатам привести себя в порядок.
Алексей, обмотанный полотенцем, с мокрыми волосами, возбужденно рассказывал мне, как из-за разницы во времени ему не спалось. Было жарко и уже начинало светать. Он решил принять душ.
— И ты представляешь, я стою прямо, а из закрепленной лейки душа вода вдруг пошла косо — мимо меня! Я только сообразил, что к чему, как тут ты кричишь. Теперь понятно, почему у них лампы на тумбочках привинчены. Я хотел подвинуть лампу к себе поближе, чтобы почитать ночью, — пояснил он, — смотрю, а она закреплена. Ни туда и ни сюда. Это чтобы во время землетрясения на голову не свалилась.
— Боже мой, сколько страху! Неужели это и вправду длилось меньше минуты? — поразилась я.
— Да, они сказали, что это был короткий толчок, пятьдесят пять секунд, — ответил мне муж.
— Пойдем вниз — узнаем.
Мы оделись и спустились в холл. Несмотря на ранний час, там было достаточно народу. Пахло чаем, цветами и еще чем-то очень нежным и чистым. Официанты проворно накрывали столы к завтраку. И откуда они только взялись в такое время и в таком количестве? Нам есть не хотелось, и мы вышли в сад при гостинице.
В предрассветном солнце все казалось волшебным. Пруд с красным мостиком посередине. Кувшинки — уже раскрывшиеся. Лотосы. Цветы. Журчание ручьев, стекающих в пруд. И мерное постукивание деревянного ковша: когда вода до краев его заполняла, он переворачивался, вся вода выливалась, и опять, как метроном, — кап-кап-бум.
Среди этой терапевтической красоты было трудно поверить, что еще меньше часа назад все это могло бы исчезнуть навсегда, навеки. Землетрясение, которое мы пережили впервые, было темой всего дня. И поэтому когда после завтрака за нами приехала Ерико-сан, наша сопровождающая, говорящая по-русски с трогательным японским акцентом, то первым вопросом, конечно же, было: «Куда бежать, если ОНО еще раз повторится?»
— Японцы, — ответила Ерико-сан, мягко улыбаясь, — никогда не бегут во время землетрясения. Они приседают там, где находятся, и ждут своей судьбы. Лучше всего спрятаться под стол, — усмотрев в моих глазах сомнение, добавила Ерико. — Это чтобы падающие предметы не придавили.
— И часто у вас так бывает? — спросил Алеша.
В Киото меня, как студентку Института Икэнобо, встречали с церемониями. Курс обучения там 10 лет
Мой экзаменатор в институте (сенсей) приняла у меня цветочную композицию
— О да, часто. Может, сегодня опять будет. Но не сильно. Как утром. Самое сильное землетрясение, то, которое почти все Токио разрушило, было в 1923 году. Следующее такое же сильное должно быть через сто лет. Но его еще не было. Мы ждем.
— И что, у вас при всем при этом не предупреждают, когда будет очередное землетрясение?! — не унимались мы.
— Ну как же, предупредили. Через сто лет будет новое, с цунами.
— Но его же не было еще? Так?
— Так, так, — спокойно отвечала Ерико. — Будет. — В ее голосе звучала пугающая меня уверенность.
— А когда будет? Может быть, сегодня или завтра? Может быть, и когда мы еще здесь будем?
— Да, может быть.
— Ну они хоть предупредят людей? Цунами там, и все такое…
— Они уже предупредили — раз в сто лет… — опять объяснила мне Ерико.
— И что надо делать, Ерико-сан? — глядя ей прямо в глаза, пыталась я получить хоть какие-то советы или вообще — услышать хоть что-либо успокаивающее.
— Нина-сан, — пропела мне в ответ Ерико. — Ничего не надо делать. Это все быстро… Никуда не надо бежать. Может быть хуже. Японец сидит, и ждет судьбу, и молится.
Я почувствовала себя обманутой. Как же так? Ведь все так прекрасно начиналось…
Мы прилетели в Токио в июле по приглашению правительства Японии. В аэропорту нас ждала черная, удлиненная «Тойота-Сенчури». На ее сверкающей, как зеркало, черной лакированной поверхности отражались мы, наш багаж, шофер в строгом черном галстуке, помогающий загрузить наши вещи, изящная Ерико в черной шапочке.
— Что это за машина? — Мне нравилось все!
— Это правительственная «Тойота». Точно такая же у премьера Коидзуми. Это японская машина — «Ченчури», — забавно произнесла встречавшая нас сопровождающая. И мы нырнули в автомобильную прохладу японской национальной гордости.
В салоне нас ждали прохладительные напитки, изящный чайничек с такими же, похожими на наперстки, чашечками и термос с горячей водой. Звучала тихая расслабляющая музыка, которая сразу же погружала в другой мир.
Ерико-сан с переднего сиденья со словами «Пожалуйста» протянула нам корзиночку, из-под крышки которой шел пар. Я подумала, что там какая-то еда, которую по законам гостеприимства надо съедать сразу же.
Но когда Алеша поднял плетеную крышку, то по легкому парфюмированному запаху стало ясно, что это белоснежные влажные салфетки для умывания. Лежали они как белые калачики, очень вкусно расположившись вокруг бело-розового бутона лотоса. Мы тут же положили все это теплое благоухание себе на лица и, откинувшись на сиденьях, с закрытыми глазами отыскав руки друг друга, крепко сцепили на секунду ладони. «Ты понимаешь, это рай!» — единственное, что означало это рукопожатие.
Выдержав вежливую паузу, Ерико-сан предложила заварить чай. «Как же мы будем пить горячее из этих наперстков — ведь все расплещется?» — подумалось мне. И в этот миг наше транспортное чудо тронулось с места.
— Она плывет, как корабль, только без качки. Я хочу здесь жить, — вырвалось у меня.
Алеша и Ерико рассмеялись. Она перевела мои слова водителю, и тот не без гордости ответил:
— Таких машин одна тысяча. И Япония их никому не продает.
Чай, похожий на разведенную в воде травянистую кашку, мармелад — не сладкий, а тоже какой-то растительный, машина, идущая так, что ничего не расплескивалось, — все обещало праздник и невиданное чудо.
— Алексей-сан, — вновь окликнула Ерико, — возьмите, пожалуйста, программу. Сначала у вас выступление. Оно будет длиться час. Еще полчаса будут вопросы и ответы. Потом у вас будет встреча в МИДе, после встречи у вас возьмет интервью японское телевидение. А в 20:15 у вас будет ужин с руководством Русского отдела МИДа Японии. Нину-сан я привезу к ужину. А у вас сейчас есть двадцать пять минут для отдыха. Я вас буду ждать внизу в холле.
Мы подъезжали к гостинице «Нью-Отани». Когда-то, лет пятнадцать назад, здесь останавливался Ельцин, в ходе своего первого визита в Японию.
— Она очень хорошая, рядом — старый Токио, район Акасака, — пояснила Ерико-сан. — И очень сейсмоустойчивая.
За окном пейзажи стремительно менялись: скоростную трассу сменили зеленые холмы и холмики, раскидистые крючковатые, корявые сосны, красно-желто-зеленые, как будто нарочно изрезанные клены и кленики, лужайки с цветами, а за ними — небоскребы, сверкающие, как сосульки. Все это поражало взор и не давало оторваться от окна. Кино. Япония. Токио. Но релакс среди этой красоты, похоже, будет только у меня. А у моего бедного мужа, как всегда, работа, работа и только в перерывах — чайные церемонии (урасанке), театр кабуки и японская кухня, которую, впрочем, он очень любит.
Самое большое сашими в моей жизни: в гостях у профессора Шигеки Хакамады, родного брата Ирины Хакамады. Йокогама
Что касается японской кухни, то сейчас ее не пробовал разве что только аллергик. Сегодня уже многие разбираются, чем отличается сябу-сябу от сашими, а роллы от суши. На самом деле человек, который хоть раз побывал в Японии и зашел даже не в ресторан, а в обычный суши-бар, которые там на каждом углу, сразу поймет, что московская «японская кухня» — это всего лишь «осетрина второй свежести».
У русского человека, сидящего рядом с крутящейся конвейерной лентой, на которой перед ним проплывает японская рыбная фантазия, голова идет кругом с той же скоростью, что и конвейер. Какие-то конвертики с чем-то зеленым, лосось, совсем другого цвета, чем у нас в России, другой тунец, другой рис…
В Токио или Киото очень быстро становишься гурманом. И как настоящие ценители музыки, которые иногда приходят в консерваторию послушать знакомое произведение в исполнении другого оркестра (потому что, видите ли, в этом оркестре «валторны полнее»), точно так же в Токио настоящие знатоки японской кухни идут не в те рестораны, которые на виду, а в какие-то подворотни, под лестницы, потом через садик и мимо цветущей хризантемы — тайной тропкой налево… вот именно там и можно отведать настоящее сябу-сябу.
Наш тогдашний посол в Японии, уезжая по служебным делам на остров Кюсю, оставил нам адрес именно такого тайного места. Мы исходили вдоль и поперек пол-Акасаки, но найти его не могли. Мы видели дом номер девять, который был нам нужен, поднимались на второй этаж и, не найдя там нужного нам ресторана, который был указан в путеводной записке, вновь спускались вниз.
Совершенно обескураженный этим обстоятельством, мой муж обратился по-английски к высокому чернокожему парню в темном пиджаке, надетом на майку.
Я в этот момент остановилась, чтобы посмотреть карту района, и услышала, как собеседник Алексея, мучительно глядя на название ресторана, пытался что-то сказать по-английски. И тут моего мужа осенило:
— Может, ты по-французски говоришь? — спросил он.
Чернокожий обрадованно затараторил:
— Конечно, я говорю по-французски, если я из Сенегала. А ты откуда?
— Я из России.
— Слушай, — сразу, забыв о ресторане, перешел к делу сенегалец, оказавшийся сутенером. — Я тебя сейчас с такими девочками познакомлю, глаз не оторвешь, всю жизнь вспоминать будешь. Пойдем, здесь рядом.
И он, весь как на шарнирах, развернулся, чтобы уже пойти туда.
— Гейши? — улыбаясь, спросил мой муж.
— Нет, не гейши. Лучше и дешевле. Гейша, знаешь, сколько заломит? Она же все посчитает: и сколько за кимоно заплатила, и сколько за кремы и прическу, посчитает электричество и накладные расходы. А стоимость некоторых кимоно, между прочим, до десяти тысяч долларов доходит. Короче, гейши — это дорого! А у меня — нормальные девочки, по нормальной цене. Пойдем быстрей!
— Спасибо, друг, но я ресторан ищу. И жена моя идет. Где ресторан, знаешь?
Сенегалец вызвался нас проводить, и, подходя к ним, я застала конец их разговора.
— Зря ты, конечно, с женой сюда приехал. Здесь круто. А ресторан — вот. Вы рядом стоите. Только вам не на этаж вверх, а на этаж вниз. Но ты обещаешь, что в следующий раз приедешь сюда один? — заговорщически кивал он.
Смеясь, они простились. И мы спустились вниз в святилище японской кухни. Сябу-сябу, которое мы там отведали, уступало только одному сябу-сябу, которым нас угостили в крошечном ресторанчике в древней столице Японии — Киото.
А землетрясение, которое мы пережили в Токио, было действительно небольшой мощности. Каких-то четыре с половиной балла. Конечно, попадали на улицах рекламные щиты, человек тридцать были ранены. Машины, припаркованные на улицах, слегка примялись, поскольку съезжали с мест, и потом долго гудели сигнализации. Где-то были разбиты витрины, на кого-то упали полки в универсаме. И наш посол, Александр Лосюков, с которым мы ужинали на следующий вечер, рассказал, что на его вилле, когда он вернулся из поездки, после землетрясения все картины висели боком, а все двери были распахнуты. Несколько раз за десять дней нашего там пребывания мы с мужем видели один и тот же сон: как мы бежим, спасаясь от камней, падающих сверху, как разрушаются здания, а снизу земля дрожит и трескается… Но для нас это был только сон, кошмарный сон.
Настоящий же кошмар — тот, о котором говорила Ерико-сан — с цунами и землетрясением в девять баллов — тем самым, которое бывает раз в сто лет, — пришел в Японию пять лет спустя — 11 марта 2011 года от Рождества Христова.
Гигантские волны смывали на своем пути дома и машины, пруды с красными мостиками и заводы, места, где молятся и медитируют, школы с больницами. Тогда и взорвалась «Фукусима».
А счастливая часть человечества, до которой не докатилось это горе, с ужасом наблюдала по ТВ за той частью планеты, где стихия и радиация собирали свои жертвы.
О дивный новый мир!
— Как вы можете слушать эту группу? Она ужасно устарела. Я ее слушал, когда мне было три года.
— А сейчас тебе сколько?
— Мне уже шесть.
— И что ты слушаешь сейчас?
— Ну, самое модное — …
Из разговора в парикмахерской с шестилетним клиентом
У каждого поколения своя музыка, свои книги, свои кумиры, свои герои и антигерои. Почти сто лет назад, в 1932 году, англичанин Олдос Хаксли написал роман под названием «Прекрасный новый мир» («Brave New World»). Другой вариант перевода — «О дивный новый мир». Автор разместил своих героев в вымышленном мире, где семья, родительский очаг, человеческие переживания, личная жизнь, история страны — все это объявлялось обузой и обременением, от которого следовало отказаться. Этот роман назвали антиутопией.
И вот он наступил — о дивный новый мир! В России в 1991-м он был обещан Ельциным и реформаторами, которые отменили прежнее государство и посулами о прекрасной свободной жизни в новом мире увлекли людей в двух городах: Москве и Ленинграде. И вышедшие за ними на площади люди, жаждущие свободы и демократии, решили судьбу огромной страны.
Вот уже три десятилетия мы живем в прекрасном новом мире. Какой же он?
Любой человек на этот вопрос даст свой ответ. Для кого-то этот мир стал свершившейся мечтой, для кого-то — крахом надежд, а для кого-то — по большому счету ничего не изменилось.
Я могу говорить только о себе. Для меня, моих друзей и знакомых в нынешней жизни очень заметен ценностный подлог. Это явление проникло повсюду. Не хочется уподобляться людям, которым кажется, что жизнь раньше была лучше, а сахар был слаще. Но отсутствие идеалов влечет за собой подмену. Англичане это явление называют словом substitute. Вместо любви тебе предлагают substitute for love (название знаменитой песни Мадонны), вместо семьи — партнерство, вместо любимого дела — заколачивание денег.
Ведь в современном русском языке не случайно возникло слово-паразит «как бы»: как бы любовь, как бы семья, как бы работа, как бы женат, как бы замужем. И всем понятно, о чем идет речь.
Сказать, что сейчас у людей совсем нет идеалов, тоже будет неправильно. Но у подавляющего большинства они ограничены потреблением. И получается, что утрата одной системы идеалов и ценностных критериев не привела к обретению другой.
Мир вокруг нас действительно изменился. Сейчас, если на тротуаре будет лежать человек, помощь ему скорее предложит немощная старушка, чем спешащие мимо люди. Всем легче предположить, что лежащий пьян, нежели что он болен или ему плохо. Если же человек будет лежать на трассе, то можно тоже со стопроцентной уверенностью утверждать, что из ста машин проедут мимо девяносто девять! И на трассе опасно останавливаться, и сиденья пачкать не захочется, да и места в машине может не оказаться. «Железный занавес» рухнул на выезд за рубеж, но он выстроился внутри страны, между людьми, выстроился в их душах.
Недаром возникло и другое понятие — «тусовка» с очень емким глаголом — «тусить». Оглядывая людей на тусовке, трудно представить, что их что-то может грызть или мучить, за исключением, может быть, отсутствия денег или страха выбыть из тусовки. Труднее всего предположить, что их может мучить совесть (хочу надеяться, что я не вполне справедлива).
Виктор Сухоруков, известный всем как «брат», в Театре им. Моссовета очень тонко играет сложнейшие роли: и царя Федора Иоанновича, и Порфирия Петровича
Тусовка — не то место, где спорят о прочитанном или увиденном, где спорят о волнующем или наболевшем. Там можно найти спонсора, но не друга, который, посочувствовав тебе, даст деньги без процентов и без срока возврата. Деньги теперь у всех, у кого они есть, должны работать. Время такое.
Но у меня нет стремления произнести приговор миру и времени. Я просто его, как патологоанатом, вскрываю. И не без интереса наблюдаю новые человеческие проявления. Вот, скажем, появились в нашей жизни светские, а точнее сказать, публичные львицы. Они претендуют на то, что формируют новый «высший свет», не имея к подлинному высшему свету никакого отношения.
Впрочем, наши «львицы» лишь копируют «звезд» западного полусвета и глянцевых журналов, типа Пэрис Хилтон. Подлинный высший свет тоже существует, но состоит прежде всего из людей, много достигших — в мире науки, культуры, политики, кинематографа, бизнеса. В некоторых странах, где сохранилась родовая аристократия, высший свет формируется и по принципу крови. Не то чтобы это были какие-то «специальные люди». Большинству из них совершенно не свойственно высокомерие и чванство, хотя «голубая кровь» течет в их венах из века в век. Потомки Габсбургов и Гогенцоллернов ведут себя в повседневной жизни очень и очень просто. Расскажу об одной встрече в доме одной из древнейших семей Мальты. Это было в замке в Мдине. Прием был частный. На нем присутствовали потомки двадцати девяти древнейших аристократических мальтийских семей, ведущих свою историю еще от иоаннитов, когда их рыцарский орден получил в XVI веке от испанского короля Карла V в дар весь Мальтийский архипелаг. Был там и президент страны Гвидо де Марко.
Мальтийская аристократия — одна из наиболее закрытых в Европе. И если, скажем, титул барона во многих европейских странах можно купить, то на Мальте — никогда! Поэтому мальтийский барон в иерархии аристократических титулов всегда будет стоять выше других европейских баронов.
Во время фуршета ко мне подошла оживленная женщина с правильными чертами лица и изысканным английским. Она предложила мне отложить тяжелые серебряные, с вензелями и широкими основами, нож и вилку и взять мясо с блюда руками. Изящно сложив тканую салфетку уголком, она ловко подхватила за кость кусок мяса, надкусила и пропела:
— Здесь нож не понадобится — мясо просто тает во рту!
И точно — мясо было сказочное.
— Впрочем, эту форму ножа, с закругленными концами, именно мои предки первыми изготовили и преподнесли Людовику XIV — правда, в золотом исполнении, — указывая на отложенный нож, добавила Изабель.
— А до этого чем мясо резали?
— Ножами с заостренными концами. На кинжалы похожими. И кусок всегда защитить можешь, и в зубах поковыряться. Король именно этого терпеть не мог, — рассказывала моя собеседница, и у меня не возникало ощущения, что и Людовик XIV, и кинжалы, с которых дворянство поедало на пирах куски мяса, — далекая история.
— Кстати, салфетки — тоже наш семейный вклад в «мировую сокровищницу», — улыбаясь, Изабель нарисовала в воздухе кавычки. — В Реймсе на наших ткацких фабриках они впервые были сотканы из полотна. И тут же, во время коронации Карла VII, были ему подарены и разложены в тронном зале на торжественном обеде.
— Какому Карлу? — не успевая ориентироваться во временах, поинтересовалась я.
— Седьмому. Тому, которого так беззаветно любила Жанна д’Арк.
Впрочем, не буду углубляться в подробные воспоминания о том вечере. Но основная черта наших публичных «светских львиц» состоит в том, что они более публичные, чем львицы, а все их представления о благородных проявлениях почерпнуты в основном из журнала «Космополитен».
Справедливости ради надо сказать, что на тусовке также можно встретить людей цельных и ценностных. Она вобрала в себя всех, как черная дыра.
На тусовках можно встретить Зураба Константиновича Церетели. Его скульптуры стоят везде — от Марбельи и Гагр до Америки. И там никого не смущает гигантский размер его творений.
Мы познакомились с Зурабом Константиновичем, когда я снимала в Италии свой фильм о скрипках. Я только что завершила съемки «Вечной загадки Страдивари», и рассказы о великом итальянце были для меня очень живыми, современными. Трудно представить, что даже сейчас, спустя двести лет после смерти знаменитого мастера, находятся завистники и ревнивцы, утверждающие, что тысячу сто инструментов, которые Страдивари произвел за свою жизнь (а прожил он девяносто три года), невозможно создать одному человеку.
Человеку невозможно, а гению — вполне под силу!
У Церетели тоже огромное число пейзажей, портретов, скульптур, много майолики, мозаики. Его плодовитость невероятна, но обывателю очень заманчиво посплетничать: «Да не делал это все ваш Церетели! На него работают целые артели — и здесь, и в Грузии. Не может один человек это сделать».
С Николаем Цискаридзе. Несломленный. В тот вечер я уже знала, что его гонителей в Большом театре скоро не будет
«Эй, небо, сними шляпу!» — воскликнула Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт
Но я лично была свидетельницей, когда мы находились вместе в Австрии, что только за один ужин Зураб Константинович положил к спинке своего стула целую папку с набросками. Мы разговаривали, а Церетели делал наброски…
С ранних лет он вел трудовую жизнь и освоил много профессий еще тогда, в свою бытность в Грузии. Мальчишеское любопытство приводило его к разным мастерам, в разные артели. А Грузия даровита и на металлическую чеканку, и на мозаику, и на глину, и на смальту. И когда в нем все это накопилось, то потребовало своего выхода — его талант столь же щедр, как и грузинская природа.
Он свято верит, что талант можно взрастить. И у него даже есть школа детского рисунка. В академии художеств он дает мастер-классы для детишек. Причем делает это, в отличие от большинства молодых своих коллег, бесплатно. Он верит, что в детях можно взрастить талант даже через простое наблюдение. Он считает, что если дети наблюдают работу художника и берут мольберт и кисти, то это может помочь раскрыть в ребенке талант. Единственный вопрос, который он задает детям: «Ну, что мы сегодня будем рисовать?»
Его палитра — это всегда несвойственное для русского пейзажа сочетание красок. Он взаимодействует с ними на интимном уровне. Искусство для него — чувственная стихия, и любые сомнения рассеиваются, когда ты лично являешься соучастником того, как он творит. Его рука все время что-то рисует. Постоянно.
Говорят, что так поступают многие художники. Рассказывают, что Сальвадор Дали рисовал даже на салфетках в кафе и расплачивался ими, так как его русская жена Елена Дмитриевна Дьяконова — Гала — не всегда давала ему деньги, полагая, что он с ними не умеет обращаться.
Церетели щедро впитал культуру и краски земли, на которой он вырос. Видимо, в маленькой Грузии не хватало масштаба для его дарования. А Россия — широкая, и сюда Церетели несет и цвет, и масштабность, и яркость, и фантазию. Сюда, в Россию, в Москву, которую он воспринимает тоже как свою землю, в которую он врос.
Я люблю его полотна с огромными букетами цветов. Они висят у нас в доме, и даже когда на улице слякоть и обезжизненный предзимний пейзаж, у меня, благодаря его цветам, всегда середина лета.
У Зураба Константиновича — настоящая память художника. Он держит в своей голове всякий пустяк, всякую мелочь. Однажды во время какого-то разговора я сказала, что строю дом и за время строительства успела возненавидеть бездарных строителей, что не пускаю в дом дизайнеров и архитекторов, потому что весь их талант заключен только в одной вещи: провести тебя по всем магазинам и слупить на тебе свой процент.
Я уже и забыла об этом разговоре, но как-то Зураб Константинович мне сказал:
— У тебя скоро день рождения — в цветах купаться будешь.
Я подумала, что он говорит о букетах, которые будут нести гости. И каково же было мое удивление, когда помощник Зураба Константиновича, позвонив на следующий день, задал мне, как мне тогда показалось, нелепый вопрос:
— Нина, а у вас ванна в доме будет стандартного размера?
— Сандро, почему вы спрашиваете?
Не помню, как он увильнул от ответа, но я действительно получила в подарок огромный букет цветов — панно, выложенное в моей ванной. Зураб Константинович сам нарисовал его и перевел на кафельную плитку. Получается, что сколько будет стоять дом, столько я действительно буду купаться в церетелиевских цветах, как и было обещано. «Нигде в мире больше такого панно нет, — шутил он потом. — Я никому ванные не оформлял!»
Но не только грузинская земля родит такие щедрые таланты. Еще в социалистическое время с родины Ульянова-Ленина — из бывшего Симбирска — в столицу приехал молодой Никас Сафронов.
Тридцать лет назад ко мне, только что вернувшейся из Праги, он подошел прямо на улице. Мы тогда на улицах не знакомились — это считалось дурным тоном. Кажется, он спросил, знаю ли я какой-то из арбатских переулков. Конечно, я их все знала наперечет. Это была моя земля, хоженая-перехоженая со времен студенчества. Я показала ему самый короткий путь, но он не уходил. Он сказал, что он художник и что у него в квартире скоро соберутся очень известные люди на его день рождения.
День его рождения оказался совсем рядом с моим днем рождения, но тогда я не верила ни одному его слову. Мне казалось, что всех художников того времени я знаю в лицо. На улице Трифоновской, 45б, находилось общежитие, где размещали студентов ГИТИСа, Щукинского, Щепкинского и Суриковского училищ. А потому там буйными компаниями постоянно собирались художники. Они нередко просили нас, студенток театрального, позировать им. Были они немытые, нечесаные, часто с длинными волосами, в грубых свитерах или ковбойках, о которые можно было вытереть и руки, и кисти. Красавцев среди них не было. Все красавцы направлялись по другим адресам — в театральные училища и во ВГИК.
Принц Монако Альбер. Главный плейбой Европы женился только в 53 года
Я никогда особо не ценила мужскую красоту. Для меня в красивом мужском лице всегда была какая-то скрытая ущербность. И зачастую она часто обнаруживалась наяву. Осознание мужчиной своей красоты, как правило, вытесняло другие по-настоящему мужские качества: мужественность, самоотверженность, верность. А как быть верным со смазливой мордашкой?
Поэтому утонченная красота Никаса для меня сразу же вошла в противоречие с профессией, которую он назвал. «Ну какой он художник? — подумалось мне. — Я же их всех знаю. Они другие. А этот, наверное, просто решил познакомиться и придумал себе, как ему кажется, «красивую» профессию».
Но Никас уже протягивал мне листочек с написанным телефоном и именем — Никас.
— Вы что, из Прибалтики?
Но он не мог быть из Прибалтики: прибалтийский акцент, равно как грузинский, армянский, еврейский, украинский, мы сдавали зачетом по сценречи. Если бы он мне ответил, что он литовец, то это укрепило бы мои подозрения, что передо мной стоит враль. Но он сказал, что его мать родом из Литвы и назвала его редким для русского уха именем.
— Я приду с мужем, — ответила я, глядя в его правильные и просто-таки кинематографические черты лица. Но его это не смутило.
— Приходите вдвоем, я буду рад, — просто ответил Никас. — У меня уже очень много картин, и, может быть, вы мне когда-нибудь попозируете.
Тогда мы не сумели прийти. Но спустя короткое время мы столкнулись в Манеже, куда я пришла с Алексеем. И когда ко мне направился улыбающийся Никас, то я, честно глядя в глаза Алексею, сказала:
— Познакомьтесь: это художник Никас, а это мой муж.
В тот же вечер мы оказались у Никаса в его маленькой тесной квартирке на Малой Грузинской. Он действительно оказался художником. Картины там были повсюду: на постели, вдоль стен, на стенах, над дверью. Но самое поразительное, что на двери в этот художественный мир висели маленькие любительские снимки Никаса со многими знаменитостями — и советскими, и европейскими, — от Олега Янковского до Софи Лорен.
Тогда это показалось нам странным. В том мире, в котором мы жили, не было принято так фотографироваться. Кстати, до сих пор жалею, что у меня нет фотографии гениального Святослава Рихтера, который часто приходил к нам в училище и играл концерты «для своих». Никому из нас не приходило в голову фотографировать звезд первейшей величины, с которыми мы иногда встречались.
Никас, пожалуй, был первым, кто предвидел время торжества тусовки, когда фотографические, так сказать, документальные свидетельства успешности станут самостоятельной ценностью. Он предвидел и приход журналов типа «ОК», «Hello» и им подобных, заполненных такими же фотографиями, которыми была увешана дверь в его крошечной квартире тридцать лет назад. Он предвосхитил приход в страну его величества «пиара».
Никас-художник оказался талантлив и в реализации своей мечты. В историческом центре Москвы, около Тверской, он выстроил потрясающую квартиру-музей в европейском замковом стиле, и в ней реализовал свои представления о богатстве, славе и успехе.
Но деньги и слава не испортили его. Он очень много помогает тем, в ком чувствует талант. А его доброе сердце быстро отзывается на обездоленность.
Есть еще и «идеологическая тусовка». В нее входят люди, претендующие на то, чтобы быть общественными авторитетами, люди, присвоившие себе право всем и вся выставлять нравственные оценки.
Приведу простой пример. На «Эхе Москвы» была программа «Полный Альбац». Женщина с этой фамилией много лет назад работала начинающей журналисткой в редакции «Московских новостей». Тогда она называла моего мужа «единственным приличным человеком во всей редакции».
А поскольку Алексей, как самая компромиссная фигура на тот момент, был избран председателем совета директоров ЗАО «Московские новости», то Альбац частенько бегала к нему и пыталась доказать, что у него за спиной и прямо из-под носа коллектива уводят собственность и деньги. Тогда она вела священную войну с руководством газеты, а основным злодеем считала первого зама главного редактора «Московских новостей» Виктора Лошака.
Но когда мой муж покинул «Московские новости» и стал автором собственной программы на ТВ, в которой начал заслуженно критиковать так называемых демократов и либералов, то он сразу же превратился в ее злейшего врага. И хотя лично он никогда не упоминал и не трогал эту бедную женщину, зацикленную на политической борьбе, она объявила ему личную вендетту и изобрела целую теорию о моем муже.
Непосредственным толчком стал комментарий Алексея в «Постскриптуме» на смерть А.Н. Яковлева. Мой муж, который его хорошо знал, сказал одно — что для Яковлева идея демократии заслонила саму Россию. И ради этой во многом призрачной демократии он закрыл глаза на то, что Ельцин и реформаторы сделали со страной.
Несостоявшийся крестный отец: Никас Сафронов опоздал на крещение Алексея в храме напротив Кремля и искренне раскаивался
Это привело Альбац в неописуемую ярость, и она начала атаку на моего мужа. Для этого она придумала целую теорию. В ее центре оказалось удивительное утверждение, что Алексей, оказывается, во время своей работы в ЦК находился «в секторе Непала» и занимался контактами с компартией этой страны.
Отсюда следовало два непреложных вывода: первый — что Пушков хорошо устроился, и второй — «что можно ждать от человека, который работал в секторе Непала?!».
Мы с подругой в тот момент ехали в машине, и обе услышали фамилию Пушков на «Эхе Москвы». А дальше пошла вся эта галиматья о Непале, причем в неистовой тональности, с истерическим повизгиванием, которая в эфире свойственна Альбац.
Подруга даже спросила:
— Что это с ней? Так женщины бесятся, только когда их мужей уводят из семьи.
— Ты не понимаешь… Здесь другая причина. Альбац — настоящая женщина-партийка. Так в деревнях называли большевичек — неистовых и безумных.
На самом деле в Международном отделе ЦК никогда не было сектора Непала.
На самом деле мой муж, как специалист по США, с диссертацией по американской внешней политике и с блестящим знанием английского и французского языков, работал тогда в самом интеллектуальном подразделении Международного отдела — группе консультантов, которая готовила аналитические материалы и выступления для высшего руководства страны. И это было известно всем, кроме «Полного Альбаца».
Иначе его никогда не порекомендовали бы главному редактору «Московских новостей» Лену Карпинскому на место его заместителя по международным вопросам. А Карпинский — один из очень немногих людей в 90-е годы в России, которые заслуживали, чтобы их называли подлинными демократами, без иронии и без кавычек, — никогда бы не взял Алексея на этот пост.
Когда-то у нас дома собирались и либералы, и патриоты, сатирики и реформаторы
«Японский хромосом»: в горах Ирина Хакамада бесстрашно резала склоны, в жизни все оказалось сложнее
Это, конечно, всего лишь штрих. Но и он говорит о том, кто у нас слишком часто претендует на роль политических и моральных авторитетов.
Полный альбац!
Джон Маккейн, жена Миши и другие: давосские встречи
У нас в России Давосский форум овеян мифами и легендами. Кто-то убежден, что там собираются «нелюди» — охочие до власти и крови заговорщики-глобалисты, плетущие планы захвата власти в мире. Другие — любители светских раутов и «сладкой жизни» — видят в нем лишь элитную международную «тусовку», куда съезжаются богатые, знаменитые и сильные мира сего, чтобы на других посмотреть и себя показать. Мне не раз приходилось читать в нашей прессе, что Давос — это в основном приемы, коктейли, дамы в бриллиантах, мужчины в костюмах, сшитых на заказ в Лондоне, горные лыжи и вечерний коньяк у камина в роскошных отелях. И — да, это все в Давосе присутствует. Но не это главное. Да, Давос — это ярмарка, но не только тщеславия и богатства, но и власти, силы и интеллекта.
Каковы же они, вершители судеб мира? Расскажу о тех, с кем были личные встречи и кого доводилось наблюдать не только издали.
Хорошо известный в России, ныне покойный Джон Маккейн был противником Барака Обамы на президентских выборах 2008 года. Он мне запомнился как седой импозантный сенатор с галантными манерами. С таким Маккейном я познакомилась на форуме в январе 2013 года — перед дебатами по Сирии, на которые пригласили моего мужа (в то время — председателя Комитета Госдумы по международным делам), бывшего главу разведки Саудовской Аравии и еще нескольких важных персон из Европы и с Ближнего Востока.
Когда Алексей представил меня Маккейну, тот расплылся в голливудской улыбке, быстро отошел от своей американской компании и спросил, не хочу ли я кофе. Когда я оглянулась в поисках официанта, он любезно сказал:
— Что вы, что вы, они будут очень долго ходить, я сам принесу.
И действительно, пружинистой, совсем не стариковской походкой направился в угол заполненной людьми комнаты и уже через минуту принес мне большую чашку дымящегося кофе. Протянув ее, как призовой кубок, произнес:
— Мы, американцы, пьем много кофе. Вас устроит такая большая чашка?
Я его поблагодарила, а он поинтересовался, была ли я в Америке. Когда я ответила, что была — и не раз, Маккейн стал живо расспрашивать о моих впечатлениях.
— Я актриса, далека от политики, так что мои впечатления в основном носят гуманитарный характер… Могу рассказать о людях, с которыми там встречалась, — улыбнулась я.
— Вот-вот, именно это и составляет политику, — подхватил сенатор, — именно к таким впечатлениям политикам и нужно прислушиваться.
Тогда же он попросил Алексея устроить ему встречу в Москве с Путиным. Так мы мило беседовали до тех пор, пока участников дискуссии не позвали на сцену.
Я вошла в зал в благостном расположении духа, вспоминая, как когда-то Буш, заглянув в глаза Путина, посчитал, что увидел его душу. Так и я, заглянув в глаза американского сенатора, подумала, что сумела увидеть его душу — душу вполне приятного человека, которого все почему-то считали «ястребом». Но как только начались дебаты, Маккейн мгновенно поменялся: его глаза стали холодными, он мрачно сжал челюсть и стал похож на бойцовскую собаку. Как известно, Маккейн был военным летчиком, воевал во Вьетнаме, был сбит советской ракетой и долго находился в плену. А в Сирии он горячо поддерживал боевиков и был категорическим противником нашей политики в этой стране. Кстати, я его позже ввела в мой приключенческий роман «Богиня победы».
Давос-2013: перед дебатами по Сирии. А.К. Пушков с сенатором Джоном Маккейном и другими участниками дискуссии
Ни один Давосский форум не обходился без Джорджа Сороса. Как-то мы ехали с мужем по Rue de Promenade — главной улице Давоса — и вдруг увидели, что недалеко от конгресс-холла стоит пожилой мужчина благообразного вида и ждет шаттл, который развозит участников форума по гостиницам.