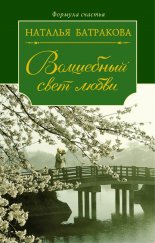Роман с Постскриптумом Пушкова Нина

— И ты представляешь, когда она вошла, у меня челюсть отвисла. Я не поверил своим глазам. Я ее даже не узнал. Все-таки в ресторан люди как-то одеваются по-другому. А она пришла с рюкзачком, в штанах с мотней (что значит «пройма брюк». — Н.П.) на уровне колен. Никакой фигуры не видно! А на ногах, ты представляешь, на ногах, которыми я залюбовался в бассейне, у нее были надеты «говнодавы» — помнишь, в Советском Союзе так называли обувь на тройной подошве, в которой надо было через грязь проплывать? Где, на какой барахолке она могла это сыскать — трудно представить. Но заявилась в ресторан одетой именно так. Когда шок прошел, мы как-то выпили, поели. И когда я достал бумажник, чтобы расплатиться, она тоже бросила на подносик свою банковскую карточку. На мое желание оплатить счет полностью она затеяла какие-то странные разборки:
— Я не хочу, чтобы ты за меня платил, я не хочу быть тебе обязанной. Вообще, у нас так не принято.
Я решил, что это отказ от дальнейших отношений. И легкое разочарование посетило меня. Но когда мы вышли на улицу, она весело спросила:
— Так куда же мы едем: к тебе или ко мне?
— Ну, давай ко мне, — неуверенно предложил я. Не упускать же возможность.
Мы сели в такси, и вдруг внезапно — новый вопрос:
— А презервативы у тебя есть?
Я на секунду подумал, что от такой прямоты, может быть, они и не понадобятся. Тут она отчудила — со всей силы стукнула меня по плечу и завопила:
— Вот видишь, хорошо, что у меня есть.
И стала рыться в своем рюкзаке, чтобы немедленно убедиться, что едет не зря. Вообще, они не женственные. Поживешь здесь подольше — и в геи подашься, — посетовал Феликс.
Для геев жизнь в Голландии — рай. У них там даже существует свой праздник. Он проходит обычно в сентябре, на воде. Все геи со всей страны съезжаются тогда в Амстердам — кто на плотике, кто на лодочке, кто на катере. И по многочисленным каналам Амстердама почти целый день разъезжают украшенные латексными мужскими детородными органами, разрисованные картинками суда и суденышки, заполненные танцующими, ликующими, распевающими песни, одетыми и полуодетыми свободными голландцами. А когда они по каналам проезжают мимо квартала красных фонарей, то неработающие и скучающие «феи любви» взирают на них снисходительно, как на бессмысленный для них человеческий материал.
Кадр из моего фильма: «маленькая Голландия» под ногами
Снимая свой фильм о царе Петре, я пробыла в Голландии довольно долго. Юный царь приехал сюда совсем молодым парнем. Ему было неполных двадцать пять лет. А хотелось ему научиться у опытных и трудолюбивых голландцев корабли строить. Он мечтал подарить России моря, чтобы всюду можно было ездить, чудеса заморские смотреть и привозить к себе.
Из России царь приехал без всяких почестей, его как ученика поселили в селении Заандам, в каморке у кузнеца Герета Квиста. Кто он есть на самом деле — никто не знал, но рачительные голландцы быстро догадались, что непростой это плотник, раз ялик аж за четыреста пятьдесят гульденов купил.
Сейчас в Заандаме — крошечный музей царя Петра, а точнее — плотника Петра Михайлова. И посетителей там поражает более всего кровать, на которой приходилось спать двухметровому юному Романову.
Эта кровать на самом деле — ящик с крышкой. В длину — метр шестьдесят пять. На узкой крышке ящика должен был спать молодой двухметровый Петр и горячим молодецким телом своим согревать хранящуюся под матрасом картошку. Домики тогда топили скудно и, чтобы картошка не вымерзала, спали на таких ящиках с крышкой, похожих на сундуки.
У голландцев было чему учиться. В XVI–XVII веках у них был самый мощный в мире флот. Они первыми догадались поставить на корабли пушки и так покорили полмира. Индонезия, Суринам, Цейлон, Австралия, Антильские острова, Новая Зеландия — все это бывшие голландские колонии. Даже Нью-Йорк тогда назывался «Новый Амстердам». «Маленькая страна с большим ртом» — так называла тогда Голландию вся Европа.
Все русские цари со времен Петра считали своим долгом подарить Отечеству новые выходы к морю, выходы в другую жизнь.
Это уже потом президент Ельцин, который любил, когда его называли «царем Борисом», выходы, завоеванные русским оружием, в одночасье раздал. Берите суверенитета, сколько можете унести, — таков был его лозунг.
Гуляя после съемок по улицам Амстердама, иногда — в сопровождении голландских друзей, а иногда с оператором и с камерой для картинки, мы не могли не отметить, какие чистые у голландцев окна. И как правило, они их не зашторивали. Жизнь дома была видна с улицы: вот семья пьет чай, вот глава дома читает газету, кто-то смотрит телевизор, где-то празднуют семейное торжество с тортом и со свечами. Такая «распахнутость» нас очень удивляла. Я даже спросила все у того же приятеля-слависта Гарри Пэйнэнбурга:
— Гарри, для вас это норма — незанавешенные окна? Одна семейная идиллия сменяет другую семейную идиллию.
Гарри улыбнулся и ответил:
— Да нет, конечно. У нас полно своих проблем. Иногда это даже можно назвать показухой: посмотрите, как мы хорошо живем, как мы дружно живем. А окна без штор — это еще и протестантская традиция. Кюре в любой момент мог сделать обход своего района, и заглядывать в окна ему было не только не запрещено, а показано. Он должен был видеть и знать, чем дышат его прихожане.
Голландия — большей частью протестантская страна. Но поскольку двести лет назад их королевой была русская княжна, дочь императора Павла I — Анна Павловна, которая, кстати, сохранила православную веру до самой смерти, при ней было построено несколько православных храмов, которые сохранились по нынешний день.
Когда, находясь в Роттердаме, мы заглянули в один из них, то увидели, что там помимо голландцев было очень много чернокожих: из Эфиопии, Суринама, Габона. Конечно, я не могла удержаться и заговорила с ними, мне хотелось понять, что ищут эти люди в православном храме. Их ответы меня глубоко поразили. В частности, голландцы рассказали, что раньше почти все они были католиками или протестантами. Но, оказавшись однажды в православном храме, спустя какое-то время поменяли веру и перешли в православие. То, что мне казалось удобным в католических храмах, как то мягкие сиденья, для них такое комфортное присутствие в церкви было неприемлемым. И даже орган их не завораживал.
— Сидишь, как в концертном зале, музыка, подушка на сиденье, — даже с каким-то осуждением рассказывал мне Йен. — А в православный храм придешь, отстоишь всю службу на ногах и чувствуешь, что идет работа духа, тело включается, сначала болит, ноги ноют, неудобно, но потом как бы освобождаешься от него. А в конце, когда певчие запоют просто, без всякого музыкального инструмента, чувствуешь — душа взлетает, проблемы покидают, голова становится легче.
— Да, и я то же самое чувствую, — вклинился в разговор чернокожий Йорн. — Но самое большое удовольствие для меня — общее чаепитие после службы. Угощают все друг друга пирогами, которые сами готовят, вареньем, которое сами варят, это не магазинный джем, я такое впервые именно здесь попробовал, матушка угостила.
Само слово «матушка», произнесенное не афроамериканцем, а афроголландцем, показалось мне очень забавным, а его подруга эфиопка добавила:
— Здесь всё вместе и все вместе. Этого нигде больше нет, кроме как здесь, в этом храме.
Подошедший настоятель храма, отец многодетного семейства, уточнил:
— Им всем не хватает совместности. Общество очень разобщенное, атомизированное, — добавил он светское понятие. — На мой взгляд, — продолжал отец Дмитрий, — голландцы совершенно не умеют расслабляться, ведь они действительно работают по двадцать четыре часа в сутки. Они превратились в эффективных работающих роботов. Их всего шестнадцать миллионов человек, а их экономика стоит на четвертом месте в Европе. Несмотря на такую высокую производительность труда и, казалось бы, благополучную жизнь, процент самоубийств у них очень высок. Им часто не с кем поговорить, излить душу, найти поддержку. И забвения они ищут в бесконечном количестве кофешопов, где официально торгуют легкими наркотиками.
***
P. S. Кстати, в один из съемочных дней, когда я увлеклась разговором с одним из героев фильма, мой любимый оператор с любимым звукорежиссером отпросились на минуточку «выпить кофейку», как они мне сказали. Через час на горбатеньком мостике я увидела таких же горбатеньких, обнимающихся приятелей. Это были Федор с Сашей. Они беспрестанно о чем-то перешептывались и глупо хихикали. Когда они подошли ко мне, Федор, ухмыляясь, сказал:
— Нин, поработаем? — При этом он дурашливо улыбался.
«Выпили они, что ли?» — не могла я понять, так как спиртным не пахло.
— Грибы! — весело объяснил свое состояние Федор. — Машрумзы.
Вся послеполуденная съемка была испорчена голландскими грибами.
Вечная загадка Страдивари
В 1995 году по Первому каналу прошел мой фильм «Вечная загадка Страдивари». Этот документальный фильм я как сценарист и продюсер снимала в Кремоне, на родине Страдивари, в шестидесяти километрах от Милана. Работа над фильмом была невероятно увлекательна. Незадолго до этого на острове Итуруп в Сахалинской области в коммунальной квартире была обнаружена и конфискована старая скрипка с клеймом «Страдивари».
Наша съемочная группа вместе со специалистом по скрипкам вылетела на Сахалин. Если это был подлинный Cтрадивари, находка обещала стать настоящей сенсацией. Работы гениального итальянца стоили на аукционах «Сотбис» более миллиона фунтов стерлингов.
Когда я звонила на Сахалин и интересовалась подробностями находки, мне сказали, что обнаружил ее участковый милиционер, который явился разнимать дерущихся в одной из коммунальных квартир. Драка началась из-за старой скрипки: один из жильцов собрался продать ее японцам, заломив страшную сумму — аж девять тысяч долларов, а его сожительница настаивала на том, что он — чудак, и «за такую скрипку» надо требовать с «узкоглазых» как минимум десять тысяч. Словом, передрались они до крови, а соседи на шум вызвали участкового.
Путь до Сахалина неблизкий. И пока мы туда летели, бурно работающее воображение выстраивало гипотезу за гипотезой — одну увлекательнее другой. А на подлете мне вообще стало казаться, что эта скрипка могла принадлежать даже адмиралу Колчаку, страстному любителю музыки, поезд которого был разграблен большевиками на бескрайних просторах Сибири. Специалист по скрипкам из музея Глинки мою гипотезу не отверг, и наша съемочная группа была готова к любым неожиданностям.
Скрипка, до выяснения всех обстоятельств дела, находилась в сейфе тогдашнего губернатора Сахалинской области. После тщательного осмотра «этикетки» — так специалисты называют то, что мы, обыватели, считаем «клеймом», был вынесен предварительный вердикт — копия, или, как выразился Николай Николаевич, «реплика».
— Реплика Cтрадивари начала XIX века, выполненная скорее чешскими мастерами, — произнес он. — Чехи особенно точно воспроизводили «аматизы» (от Амати), но «страдивариусы» — это тоже был их конек.
«Конек-то конек, — подумала я, — но сенсации не случилось». Однако расстраиваться долго я не собиралась, поскольку фильм задумывала как рассказ о том, как рождается звук в маленьком инструменте, способном найти дорогу к любому сердцу. К тому же впереди нас ждала родина скрипичных гениев — Кремона. Город, где творили Амати, Гварнери и, конечно, Страдивари.
Рассказывали, что однажды, в далекие времена, со дна затонувшего корабля были подняты, помимо драгоценностей, футляры с музыкальными инструментами работы Страдивари. Конечно, когда их открыли, там лежали только расклеившиеся составляющие скрипок: верхняя дека, нижняя дека, обечайка, смычок с неистлевшим китовым усом.
Но каково же было изумление очевидцев, когда очищенные, просушенные и склеенные инструменты вновь зазвучали в руках скрипача. Глубоко потрясенные, они говорили о Страдивари как о боге звука. Звука, выжившего даже в морских глубинах и победившего всеразрушающую стихию.
Южно-Сахалинск, 1995 год. Скрипка оказалась поддельной, и весь сценарий фильма, лежащий рядом, пришлось переписывать
У Гумилева есть удивительное стихотворение о сути творчества:
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, Не проси об этом счастье, отравляющем миры, Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, Что такое темный ужас зачинателя игры! Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, У того исчез навеки безмятежный свет очей, Духи ада любят слушать эти царственные звуки, Бродят бешеные волки по дороге скрипачей. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, Вечно должен биться, виться обезумевший смычок, И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, И когда пылает запад, и когда горит восток. Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье, И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, — Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьиВ горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь. Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело, В очи глянет запоздалый, но властительный испуг. И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело, И невеста зарыдает, и задумается друг. Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ! Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча. На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищИ погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
Так вот, мне в Кремоне предстояло снять фильм о человеке, одержимом скрипками.
Дело было непростое. Итальянцы (особенно в провинции, а Кремона считается безусловной провинцией) не говорят ни на каких языках, кроме родного. Я предвидела здесь большие трудности. Денег на фильм о скрипках я «подняла» (как говорят продюсеры) немного. Билеты на Сахалин, перелет в Италию, проживание съемочной группы, зарплата, аренда техники — все приходилось учитывать. И по смете у меня никак не получалось «ужаться», чтобы освободить деньги на переводчика.
Выручил, как всегда, русский авось. Уже перед самым отлетом я позвонила нашему эксперту по скрипкам Николаю Николаевичу, и он мне дал имя скрипичных дел мастера, уехавшего из Советского Союза в Италию.
— Кажется, он уехал в Кремону, эмигрировал давно. Где он, как живет — ничего не знаю. Записывайте его имя, фамилию — Александр Крылов. Вдруг повезет, — утешил он меня в ответ на сетования по поводу переводчика.
Приехав в Кремону, я решила пойти в музей скрипок или найти музей Страдивари. И уже там спросить о Крылове. Но оказалось, что итальянцы, когда я к ним обращалась со своей тирадой на английском «Excuse me, could you please tell us how to get to the violin museum, if there is one in your town, or to the Stradivarius museum[7], — услышав такую сложную фразу, в ответ кивали, радостно улыбались и начинали так же длинно отвечать на итальянском, но что именно — непонятно.
Наконец, оператор нашей группы Федор сказал:
— Нин, знаете, это не английский. Я тоже не понимаю, о чем вы спрашиваете их. Давайте я на своем английском у них спрошу.
Он остановил пожилого итальянца с собачкой, именно так по его представлению должен был выглядеть коренной житель Кремоны, и спросил по-русски:
— Сеньор, где здесь Страдивари? — Затем повторил на своем английском: — Where Stradivari? — И повел рукой вокруг себя.
И случилось чудо! Итальянец его понял! С просветлевшим лицом он закивал:
— Stradivarius! Stradivarius!
— Музей! Скрипки! — Федя положил воображаемую скрипку на плечо и энергично задвигал правой рукой.
— Museo! — Еще больше просветлевший лицом старичок указал нам на здание, которое находилось у нас за спиной.
— Грация, — с достоинством поблагодарил его Федор и церемонно поклонился.
И надо же, есть оно, цыганское счастье! Через две минуты мы были в музее, и я уже разговаривала с девушкой-экскурсоводом, которая очень хорошо понимала мой английский. Я попросила ее помочь нам разыскать телефон русского, скрипичных дел мастера, Сергея Крылова.
Однако в моем сознании произошла накладка. Я не взяла из Москвы листочек с именем, который мне дал Николай Николаевич. Уж слишком простой показалась мне фамилия, чтобы забыть ее.
А в те годы на российском телевидении очень часто показывали толстяка в панамке, который распевал попсовые песни. Его звали Сергей Крылов. И вот подсознание подсунуло его имя: вместо Александра — Сергей. Но девушка уже радостно протягивала мне телефон и говорила:
— Sergio, Sergio Krilov. Вот его телефон.
Я позвонила, услышала молодой голос «Pronto» и уже без надежды спросила по-русски:
— Вы Сергей Крылов?
— Si, то есть да, — ответили мне задорно, с легким акцентом и итальянскими модуляциями, но по-русски!
Я представилась, сказала, что из Москвы и хочу сделать фильм о Страдивари для русского телевидения.
— Mamma mia! Это вам нужен мой padre, мой папа. Он сейчас вышел ненадолго. Он Александр Крылов. И он будет счастлив. Москва, Mosca, Madonna mia, он будет умирать от счастья. Я его сын — Сергей. Где вы сейчас находитесь? А, это совсем рядом с Piazza del Comune. Ждите там. Выпейте кофе у Пьетро. Я сейчас найду отца. Мы придем к вам. Чинквэ минути.
Трубка была повешена. Федор, стоявший рядом и слышавший часть разговора, был ошарашен. Я, признаться, тоже.
Ну и у какого же Пьетро нам пить кофе?
Было раннее утро. Небольшая центральная площадь маленького городка благоухала цветами, прохладой и кофе. Казалось, эти запахи источает каждое открытое окно, каждая открывающаяся дверь.
Мимо нас на маленькой скорости, притормаживая и позвякивая стеклянными банками с молоком, проехал молочник на велосипеде. Он так чисто и музыкально высвистывал арию Мефистофеля из «Фауста», что Федя пожалел:
— Вот черт, надо же — классная картинка с интершумом, а я без камеры.
— Не жалей, Федя. Италия — это миллион картинок. Будешь еле успевать крутиться, — любуясь холмами вдалеке, сказала я оператору.
— Да вон же они! Calme, calme! Транквиле… Ке Bella твоя russa, — услышали мы помесь русского с итальянским.
Пересекая маленькую площадь, к нам направлялись двое мужчин — Крыловы: отец и сын — у меня не было сомнений.
Потом мы пили утренний кофе у Пьетро, рядом с которым мы, оказывается, стояли. И тогда я поняла, что фильм уже готов. Мне было приятно слушать скрипичного мастера Александра Крылова, который в эмиграции не расстался с профессией.
Как рассказал нам Александр Крылов, для того чтобы стать скрипичным мастером, надо получить подготовку по музыкальной культуре, материаловедению, музыкальной акустике, рисунку, черчению, основам химии, физики, иметь представление о сопротивлении материалов.
О скрипках Александр мог рассказывать, как поэт о любви, — часами. Он и сам делал прекрасные скрипки, но имя Страдивари произносил с придыханием.
В гостях у скрипичных дел мастера. Так делают скрипки. Кремона. Италия
— Ведь это же мог сделать только гений! Он создавал такой клей, который никто не может повторить, хотя сейчас все знают его химический состав! Он так отполировывал деки, что это невозможно сделать никаким инструментом! Говорят, что он тоннами, как у нас в деревнях сено, заготавливал хвощ, растущий в пойме реки По. Каким-то образом его вымачивал, высушивал и именно им полировал свои любимые скрипки.
Он отправлял обозы в Венецию, куда приходили суда, груженные боснийским кленом, который обладал изумительными резонирующими свойствами и фантастическим рисунком на срезе. И терпеть не мог, когда ему говорили: «Сделайте скрипку». Он чуть ли не с ненавистью отвечал: «Скрипки не делают! Делают бочки и скамейки! А скрипки — как хлеб, виноград и детей — рождают и взращивают».
Верхняя дека обычно делается из ели, поскольку ель обладает прекрасными резонирующими свойствами. Она долго держит, медленно отдает звук, и в ней сразу же делаются изящные прорези — эфы, через которые этот звук будет выходить.
Нижняя дека делается из совсем других деревьев — из тополя или клена, а иногда из груши. Здесь есть тоже свои тайны и свои секреты почти у каждого мастера. Важно не только угадать породу дерева, его возраст, место, где его надо срезать, надо придумать специальный способ промывки, просушки, пропитки лаком и знать, сколько слоев накладывать, чтобы не испортить рисунок дерева и не погасить звук. А насколько важно увидеть его узор, который выступит под лаком! Узор может быть скучным и неинтересным, а может быть причудливым, как картина. Тут важно иметь художественное чутье, чтобы почувствовать фактуру и рисунок дерева.
А грунтовка и покрытие лаком… Ведь от них зависит красота звучания. Именно лак не только дает скрипке фантастический цвет, но и заставляет ее неповторимо звучать. Звук старых скрипок неповторим. Уже три столетия пытаются создать что-то подобное скрипкам Страдивари, и ни у кого не получается. А хороший мастер может слышать голос скрипки уже тогда, когда он приступает к работе над ней и когда она еще не родилась.
Скрипку недаром называют поющей скульптурой. Это слепок души человека. Он пленителен и неподражаем. Под него можно подделаться, но никогда нельзя достичь абсолютного сходства.
Страдивари прожил, по разным данным, из-за неточной даты рождения, до девяноста двух — девяноста трех лет. Завидовали ему при жизни страшно, да и после смерти завидуют. До сих пор утверждают, что на него работали артели, что никого он не любил, кроме своих скрипок, что женился на молодой в позднем возрасте, чтобы получить работницу в дом, что детей своих без наследства оставил.
— Представляете, о нем по-прежнему говорят, как о живом, продолжающем работать человеке. И по-прежнему завидуют, как завидовали несколько столетий назад. У него было много домов. В одном из них сейчас находится гостиница. А в мастерской Страдивари — бильярдная. На тех петлях, на которых гениальный мастер сушил свои скрипки, посетители вешают свои пиджаки. И хотя город тот же, улицы — те же, да и техника продвинулась вперед, но никто так и не может повторить Страдивари. Гений — он гений и есть. И как часто он рождается? Раз в столетие, раз в несколько столетий? Это — божественная тайна.
На улице наступил дивный вечер. Над маленькой площадью в кафе, где мы снимали нашего героя, сверкали яркие южные звезды. Мы уже отсняли очень много видеокассет, и оставалась последняя. Хотелось поговорить с сыном Александра — Сергеем Крыловым, который тоже стал скрипачом. Сохранивший русский язык и легко говорящий на итальянском, соединивший в себе две великие культуры, он очень интересно рассказывал о современных нравах итальянцев. Оно и понятно — двадцать четыре года.
— Да, пап, здесь все гении, — весело говорил он. — Более музыкальной нации нет на свете. У них любой уборщик мусора может насвистеть самую сложную оперную арию — завидки берут. А в какой они красоте живут! Идешь по улицам Флоренции — одни шедевры. А ведь итальянцы их даже не замечают. Живут среди них: плачут, жалуются, веселятся, ужинают. А вокруг — неземная красота. И эта окружающая красота — для них естественная среда.
— А вот говорят, что совсем недавно был эксперимент, когда попытались воссоздать в точности скрипку Страдивари. На компьютере высчитали все параметры скрипки до микрона, на основе химических данных из лаборатории составили лак, который он использовал, то есть сделали все то же, что делал он. А гениальной скрипки не вышло. Это правда? Вы ничего про это не слышали?
— Да как можно что-то на компьютере вычислить? — опять горячо заговорил Александр. — Кроме цифр и химических формул ведь надо, чтобы это делали руки гениальные.
— А что вы испытываете, когда держите в руках скрипку? — спросила я Сергея.
— Музыкальный язык — его не все понимают. Это ассоциативный порядок звуков, который возбуждает в человеке его собственные ассоциации, будоражит внутреннюю жизнь. Музыкант — медиум, посредник между Богом и человеком.
— А вы, Сережа, на какой скрипке играете? На отцовской?
Сеньор Марасси рассказывает, как мастера слышат голос еще не рожденной скрипки
Я уже не сомневалась, что его отец, так любящий скрипки, наверняка их создает и пестует, как завещал Страдивари, и что Сергей играет на скрипке отца.
— Нет, — опустив глаза к футляру, стоящему у ножки стула, ответил Сергей. — Я играю как раз на скрипке Страдивари.
— ???!!!
Я не могла поверить!
— Она что, у вас — с собой? — И посмотрела вниз на футляр. — Вы хотите сказать, что вы купили ее? Она же стоит миллион двести фунтов, как нам говорили. Это правда?
— Да, правда, а иногда и больше, — просто сказал Сергей. — Но мы ее не купили. Подающим большие надежды музыкантам и победителям в конкурсах музыкальные власти выдают гениальные инструменты. Вот мне и выдали. Я выступаю на концертах с этой скрипкой.
Он уже доставал «живого» Страдивари из футляра.
Лак на скрипке под заходящим кремонским солнцем вспыхнул как живой, завибрировал золотисто-янтарным и рубиново-красным оттенками.
Мы все замерли. И только Федька как заведенный вертелся с камерой вокруг исторической скрипки.
Сергей привычным жестом положил ее на плечо и заиграл Каприз № 24 Никколо Паганини. Соло для скрипки.
Площадь преобразилась. Было ощущение, что звук, оттолкнувшись от фасадов домов, устремился в небо, в невидимый купол. Вся площадь превратилась в божественный храм. Слезы сами наворачивались на глазах, и не только у меня — у всей потрясенной съемочной группы. Я это видела по лицам молодых парней.
Настоящий Страдивари ценой в 1 200 000 фунтов стерлингов в руках скрипача Сергея Крылова. На улице! Без охраны
Почему-то вспомнился Борис Пастернак:
Годами когда-нибудь в зале концертнойМне Брамса сыграют, — тоской изойду…
Торжественное волнение держало нас, пока не замер отлетающий звук. Было ощущение, что во всех домах замерла жизнь. Окна были распахнуты, и кремонцам был подарен великолепный концерт. Они это оценили.
— Bravissimo! — громко прозвучало в ночном небе. — Bravissimo! — звук возносился, как в концертном зале с великолепной акустикой.
Сергей поклонился, как кланяются на сцене. Взял свою скрипку, уложил ее в футляр и простился с нами.
— Вы что, пойдете просто так, со Страдивари по улице ночью? Без охраны?
— Но я же пришел без охраны, по улице, со Страдивари.
Когда мы возвращались в Милан, где остановились на ночлег, нас всю дорогу не покидало ощущение облагороженности.
Уже на подъезде к Милану, когда огней становилось все больше и больше и вдоль дороги непрерывной линией стали тянуться городские дома, наш водитель неожиданно начал притормаживать.
— Что это? — спросил Федор таким голосом, как будто встретил привидение. Ошалело вытаращив глаза, он указывал на тротуар вдоль домов.
Освещенные фонарями и окнами от домов, на тротуарах стояли голые женщины — группами, поодиночке, сидя на раскладном стульчике или в вытащенном откуда-то кресле. Они показались нам фантасмагорией. Но еще большей фантасмагорией выглядели женщины, лежащие прямо на горячих тротуарах в раскинутых позах, готовые, так сказать, к немедленной встрече с впечатленными зрителями. Они лежали на пляжных ковриках, на прорезиненных матрасиках для занятий в фитнес-центрах. Весь этот нудистский пейзаж едва не приводил к авариям. Особенно визжали тормоза у итальянцев, впервые оказавшихся в этих «краях».
— Боже, что это? — повторила я за Федором.
Вместо Бога ответил водитель Володя, которого нам посоветовали в нашем консульстве РФ в Милане:
— Они здесь всегда так. Трасса же оживленная. Клиентов много.
— А их что, полиция не гоняет?
— Италия, — философски заметил Володя. — Может, дамы с полицией в доле. Кино, комиссар Каттани помните? Мафия… Как с ней бороться?
— Давайте заснимем! Авось пригодится, — предложил Федор.
— Нет, сразу заметят! Камеру тебе разобьют, мне — стекла машины. — Володя набирал скорость.
Жестокая реальность вытесняла время очарования.
***
P. S. А Сергей Крылов с 2009 года стал главным дирижером Литовского камерного оркестра.
Сербское проклятие. Человек из пепла
Свой путь в политике Радован Караджич начал более полувека назад, когда был студентом Сараевского университета. Стоя на крыше здания философского факультета, он обратился с пассионарной речью к толпе молодых бунтарей, соратников по борьбе за идею «Великой Сербии».
Закончил же он свой путь пленником Гаагского трибунала, «мировым злодеем», на которого «правосудие без границ» долго охотилось как на умного, уходящего от капканов зверя.
А наша короткая, однодневная встреча случилась, когда он еще не был объявлен тем самым злодеем и им самим, как хотела, вертела злодейка-судьба.
1993 год. Боснийское местечко Сборник. До натовских бомбежек Сербии еще несколько лет, но здесь уже вовсю идет война.
В Югославии, как тогда по инерции еще называли эту страну, мы оказались вместе с дочерью-старшеклассницей. В то время я работала исполнительным секретарем и директором по культурным проектам Конференции духовно близких народов.
В мусульманском мире существует постоянно действующий орган — Организация Исламская конференция. По аналогии с ней была создана и наша структура, объединившая несколько православных государств. Возглавлял ее автор ельцинской конституции, депутат Верховного Совета Олег Румянцев. Но поскольку работа над конституцией занимала очень много времени, он отдал мне все вопросы по организации и культурному насыщению новой международной политико-культурной структуры.
Мы ездили то в Грецию, то в Югославию, то на Кипр, то в Болгарию. И я всюду брала с собой дочь. Мне хотелось, чтобы она получила представление о многообразии мира. А в этой поездке ей еще предстояло увидеть уродливое лицо войны.
И вот поездка в Боснию. Мэр Сборника, единодушно избранный на эту должность как лучший воин, сразу же повез нас на автобусе к линии фронта, проходившей совсем неподалеку.
Английского он не знал, поэтому говорили каждый на своем языке. Я его очень хорошо понимала, так как мое ухо уже привыкло к сербско-хорватскому. К тому же мне сильно помогало знание чешского языка.
Как истинный воин, он не был слишком многословен и широкими жестами, гораздо красноречивее слов, дополнял объяснения. Мы проезжали мимо разрушенного снарядами мусульманского городка. Громко откашлявшись, мэр крикнул мне в ухо: «Здесь жили турки. И мы их всех…» — и рукой сделал жест, как будто гася волейбольный мяч. Это могло означать что угодно. Я не решилась уточнять, что стало с людьми, которых здесь называли турками.
С начала XVII века на этой территории жили мусульмане — местные жители, принявшие ислам в результате расширения Османской империи на Балканском полуострове. В Османской империи территории, принявшие ислам, были защищены от насилия и разбоя, но вражда между двумя общинами тлела всегда. И вот теперь, спустя три столетия, эти дома опустели.
То, что мы видели вокруг нас, говорило само за себя: за два года войны местное кладбище заросло сорняками в половину человеческого роста, могилы уже никто не навещал. Здесь было много домов сербов, погибших от рук мусульман. Здесь была кровавая каша. Стояли добротные, но уже пустые дома, с полуразбитой облицовкой, с безжизненными внутренними дворами. Кое-где, непонятно каким образом, среди каменных глыб краснели розы и белели шапки гортензий, что еще больше усиливало тягостное впечатление.
Погрузившись в раздумья, я и не заметила, как мы подъехали к ресторану, где должна была состояться встреча с Караджичем — президентом Сербской Краины. Он был уже здесь. Передо мной предстал высокий, грузноватый человек, около пятидесяти лет на вид. Кожа блестящая с красноватым оттенком, горбоносый: заметна турецкая кровь. Густая седая шевелюра и глаза красивого темно-вишневого цвета с красноватыми прожилками сосудов, которые обычно бывают при недосыпаниях и переутомлениях, что, впрочем, было неудивительно при нынешней обстановке. По профессии — врач, психолог. Как врач он, конечно, знал, что для организма полезно, а что — нет, но диету явно не соблюдал: в чашку кофе положил аж четыре ложки сахара.
Сербы очень любят поесть. Главное национальное блюдо у них — чорба, очень жирное. Она может быть самая разнообразная: с потрохами, с мясом, с овощами. Очень вкусная, но необыкновенно наваристая. Пленка жира покрывает каждый горшочек.
Мясо обычно подают на большом подносе, самых разных сортов: свинина, говядина, баранина на косточке, нашпигованные салом колбаски, обжаренный бекон: мясо прокрученное, сформованное лепешками, комбинированное с салом в виде шашлыка и так далее и тому подобное. И все это сербы готовы поедать и в два часа ночи, и в восемь утра, и пополудни. У них даже поговорка на этот счет существует: «До пятидесяти лет серб мучает свой живот, а после пятидесяти лет живот мучает своего серба».
Президент Караджич — еще общепризнанный лидер боснийских сербов. Это было время их побед
14 лет спустя во время ареста
Находясь в ресторане, трудно представить, что за его стенами — трагический калейдоскоп: война, смерть, страдания, гробы. Да и на самом здании ресторана было очень много следов от пуль и повреждений от взрывов. Я завожу с Караджичем разговор о войне. Пока война не касается человека напрямую, он об этом не думает, что нормально. Иначе можно просто сойти с ума.
Но тогда мне хотелось, хотя бы для своего понимания, выстроить стройную схему конфликта, разобраться в его природе, обозначить его начало, границы и возможный конец. Хотелось, чтобы Караджич сам объяснил мне, как он, врач-психиатр и поэт, знаток тонкостей человеческой души, стал воевать и убивать.
Зачем он взял в руки оружие? Если это благородный порыв поэтического сердца, то зачем множить боль, когда есть еще шанс прекратить этот кошмар?
Он говорит: «Если НАТО поставит свои войска на границе с Сербией, мы будем воевать с НАТО. Бог за сербов, так как Бог — серб». Читай так: если мир против нас, мы будем воевать со всем миром. Все. С формулой закончено. Лозунг, входящий в сознание, возвышающий это сознание, готов. Именно под этим лозунгом в бой на смерть пойдут мальчики, отцы, мужья. А после этого девочки останутся без женихов, в семьях осиротеют дети и появятся вдовы. Все остальное — это только слова: «Если я даже захочу подписать мирный план, то парламент его не одобрит».
В самом конце этих длительных, тревожных разговоров-переговоров, когда уже на улице стоял вечер и мы собирались уезжать, я напомнила Радовану Караджичу его же стихи:
Не смей верить, что полночь черна, Что этого не изменитьИ такова воля Божья. Кое-что происходит и по твоей воле.
Его глаза изменились. Изменилась его внешность. Густые волосы, спускающиеся почти до плеч, теребил ветер. И передо мной опять стоял поэт. Он прочел мне своего «Человека из пепла» — стихотворение, которое многие называют программным. Читал на сербско-хорватском, но я почти все понимала. Позже оно появилось в прекрасном переводе Сергея Строканя.
Умирает март, Сходит на нет поп-арт, Смерть видит цельИ снова выходит на старт. Но человек, который боится всего, — живой, Хотя весь мир и повернут к нему спиной.
Я его слушала и понимала, что тема «пепельного человека» для него главная:
Смотри, человек из пепла окунает сердце в чернила. Все вокруг гибнет, дьявол, ответь, я не вижу отсюда. А не часть ли это зловещей великой правды?
Дьявол, видимо, ничего не ответил ни мятущемуся «человеку из пепла», ни самому автору.
Однако дьявольские мотивы в его стихах сегодня кто-то вполне может использовать для того, чтобы попытаться доказать, что этого психиатра-поэта-политика нужно было как можно раньше отвезти к врачу, дескать, он действовал как маньяк, отдавая приказы о массовых убийствах стариков, женщин и детей.
Гаагский трибунал обвинил его в преступлениях против человечности. Впрочем, вот строки, в которых он сам во всем чистосердечно признается:
Давно от меня отказалисьВсе альтруисты. Тлею, как сигарета на губе воспаленной: Ищут меня повсюду — А я, в засаде росистой, Жду великого шансаПуститься вниз по наклонной, Отринуть свое же правоИ бросить утренней бомбойСмех — Я, человек одинокий, Темного нрава.
Его все-таки изловили, арестовали спустя шестнадцать лет после нашей короткой встречи. Его прятали те, для кого распад и натовская бомбежка их столицы в центре Европы стали незабываемым кошмаром. Он не сопротивлялся приехавшим за ним. В газетах появились фотографии человека с длинными седыми волосами, собранными на затылке. В нем было трудно узнать бывшего президента Сербской Краины, воина и поэта, зажигающего сердца точным словом, ярким призывом, просто собственным присутствием. Скорее он был похож на индийского гуру. Какое новое испытание уготовил Бог человеку, приносившему жертвы и самому ставшему жертвой?
Тогда я не получила от Караджича ответа ни на один из своих вопросов. А на следующее утро мы возвращались в Белград. Там были намечены главные мероприятия. Нас встретил раскаленный город. Белград, в переводе с сербско-хорватского означает «белый город», был окутан густой дымкой гари. Он буквально плавился от жары. Даже утром градусник термометра зашкаливал, а ночная условная прохлада улетучивалась в течение часа. Жить там можно было, наверное, только в воде.
Евгений Примаков — премьер-министр, министр иностранных дел, автор знаменитого «разворота над Атлантикой» из-за войны в Сербии. Приглашал Алексея на руководящую должность в МИД России
Наскоро приняв в гостинице почти не освежающий душ, мы с дочерью заторопились на улицу. Рафик с делегатами уже уехал. Мы вышли на трассу в надежде поймать такси. Машин было немного. За десять минут мимо нас, не останавливаясь, проскочили две замызганные «Лады» времен Советского Союза. Мы решили идти вдоль трассы и пытаться остановить попутку. Вдруг за спиной мы услышали даже не шум мотора, а какое-то журчание, урчание, едва слышное движение. Из дрожащего марева с горки на нас выплывала, как призрак, удивительная машина. Раскаляющееся солнце создавало вокруг этого движущегося технического чуда целый ореол брызг, свечений, радуги.
Идущие по тротуару прохожие непременно оглядывались на проплывающий по трассе шедевр. Супер-автомобиль остановился около нас с дочерью. Дверь гостеприимно распахнулась.
— Kuda idete?
С водительского сиденья на нас весело смотрел черноусый красавец.
— Treba li vas odvesti?
Все было понятно и без переводчиков. В ответ мы радостно закивали. И я сказала на сербско-хорватском единственное слово без акцента:
— Molim, — что означало «пожалуйста», — довезите нас до «Интерконта».
— Kto ste?
— Мы русские, из Москвы.
— A! Srdce moe! Говори по-русски! Я все понимаю, — с воодушевлением воскликнул водитель.
Мы с огромным удовольствием плюхнулись в прохладный рай.
— Что у вас за машина? — Я восхищенно рассматривала лакированную охру дерева, золотистые декоративные элементы, нежную молочную кожу сидений.
— Это Maserati, — со сдержанной гордостью ответил водитель и, легонько коснувшись золотистой кнопочки, на всю громкость запустил «Клен ты мой опавший…».
Даже сейчас эти машины, стоящие в автосалонах, вызывают восхищенные взгляды посетителей. А тогда, в далеком 1993 году, в стране, находящейся под экономическими санкциями западных держав, где почти не было бензина, а на границах простаивали в огромных очередях гигантские фуры с продовольствием, порошками, носками, детской одеждой, туалетной бумагой, игрушками — увидеть на опустевшей дороге гордость итальянского автопрома!!! — Казус! Мистика! Мираж!
Меня раздирало любопытство: это кто? Откуда? Каким образом?
— У вас же война, эмбарго?.. — осторожно, под стихи Сергея Есенина и голос Николая Сличенко, начала я. Откуда же такой автомобиль — хотелось мне спросить напрямую. Но мой собеседник истолковал мои слова по-своему. Его глаза сверкнули.
— Хотят нас задушить. Ничего у них не выйдет. Они православный мир грызут, рвут на части, бомбить будут, — убежденно настаивал незнакомец.
— Ну что вы! — с воодушевлением возразила я. — Никто в наше время бомбить не будет. Как вы это себе представляете? Цивилизованная Европа будет бомбить с самолетов европейскую страну? Европейскую столицу? Собственно, центр самое себя? — снисходительно вопрошала я.
— Будут, будут, любка моя, — обращаясь ко мне на «ты», отвечал мой собеседник. — Но мы не сдадимся. Один натовский АВАКС (беспилотный самолет-разведчик. — Н.П.) уже сбили, будут еще. Если Россия нам С-300 продаст, только тогда бомбить не будут. Но Ельцин с ними заодно. Наши зря на него надеются. Ваш Ельцин и свою страну бомбить может, если понадобится. Вы еще с ним хлебнете. Увидишь.
Мы уже подъехали. Я достала из сумки десять долларов. Он посмотрел, белозубо улыбнулся.
— Смеешься? Давай познакомимся, я даже не знаю, как тебя зовут. Я Драган. Давайте вечером увидимся на ужин, поговорим, — предложил Драган. — Бери дочку свою, вон какая красавица и умная, сразу видно. Я сына приведу, он у меня тоже школьник. Пусть расскажут друг другу о жизни, о привычках, интересно же. Правда, вид у него, — Драган покачал головой, — побрился наголо, в синяках. Я ему говорю: «Дурак, зачем ты наголо побрился? Тебя же все время задирать будут, драться придется», а он отвечает: «Папка, я на фронт пойду, я ничего не должен бояться». Давай приходи, уж больше узнаешь о нашей жизни, чем на конференции своей.
Мы попрощались.
Я знала, что не приду. Странный он. Да и к тому же вечером планировался заключительный ужин. Румянцев срочно должен был улетать в Москву: российский парламент выразил недоверие президенту Ельцину. А поскольку из Белграда из-за эмбарго самолеты не летали, то его должны были везти на машине до Будапешта.
Когда мы провожали Олега тем вечером, то никто не мог и предположить, что пройдет всего лишь несколько часов, пройдет несколько дней, и он уже не будет депутатом, и его будут бить по голове и по почкам. И держать впроголодь, в той же одежде, в которой он прилетел из Белграда, потому что из аэропорта в Москве он сразу же поехал в осажденный Белый дом. А по этому дому, по Дому Верховного Совета в центре демократической российской столицы, будут палить танки. И будет он покрываться, как язвами, черными пятнами от возникающих то на одном, то на другом этаже пожаров.
Прекрасная певица Тамара Гвердцители. Совпадение или нет, но мы перестали общаться после отделения Абхазии от Грузии
Эту картину показывали все телеканалы мира. Я все это увидела уже в Афинах, куда приехала после Белграда. Громкими криками «Нина! Нина! Горит Москва! Горит Дом Верховного Совета в Москве!» меня вызвал из офиса в холл, где был телевизор, греческий коллега. Я сначала даже не поняла, о чем он, что говорит Москва (мне послышалось вместо «горит» — «говорит»). Но когда подошла к телевизору и увидела горящее здание парламента, прослушала новости по Би-би-си, у меня перед глазами тут же возникло лицо усатого серба, предсказавшего, что наш президент Ельцин еще устроит нам сюрпризы.
Но до этого еще было несколько дней…
А пока, не ведая будущего, мы окунулись в бурную деятельность. В гостинице «Интерконтиненталь», украшенной огромным количеством цветов, проходил первый и главный форум нашей конференции. В холлах в маленьких фонтанчиках успокаивающе журчала вода, собираясь в элегантные резервуары с экзотическими растениями, золотыми рыбками, лианами. Одним словом — оазис в раскаленном Белграде.
Было много иностранных делегаций. Повсюду звучала английская, французская, итальянская, греческая речь. Православные общины со всего мира прислали на форум своих представителей. Среди них были очень заметны сербские женщины своей контрастной красотой. Их волосы были не просто черными, они были иссиня-черными, к тому же они блестели, как искусственные. Вороное крыло — это про них. Они были похожи на цыганок из табора, только одеты были не в цветные шали и цветастые юбки, а в непривычные для цыганок городские офисные костюмы. Одна колдунья сменяла другую. Они куда-то уводили делегации, рассаживали, кому-то раздавали бейджи, угощали кофе, прохладными соками. Но меня ни на секунду не покидало ощущение, что рядом со мной — не секретарши-помощницы и переводчицы, а ворожеи. Мне все время казалось, что они вот-вот вытащат карты и начнут гадать на них, предсказывая гостям их судьбу.
Много позже я поняла, что моя интуиция меня не подвела. Оказывается, для многих сербок книги о колдовстве и магии — чуть ли не настольные. Они знают массу привораживающих рецептов, свойства разрыв-травы, лунные календари и гороскопы, а гадальные карты используют даже чаще, чем книги о вкусной и здоровой пище. Колдовство в Сербии — такое же житейское и обыденное дело, как приготовление пищи.
Моя знакомая, известнейшая оперная певица, которая пела и с Каррерасом, и с Доминго, и с Паваротти, и с Хворостовским, однажды рассказала мне историю, в которую трудно поверить. Как-то на одном ужине, разговорившись с ней, я сказала, что не верю в экстрасенсов, в черную магию и в гадания и что я совсем не суеверна.
— И я была не суеверной, пока в моей жизни не случилось такое, что не дай бог испытать никому, — сказала Наталья. — Когда я уехала из Советского Союза, у меня было много приглашений и выступлений в разных странах. Но настоящий триумф пришел ко мне после того, как я вышла замуж. А мужем моим стал югослав. Я переехала к нему в Белград. Однажды перед концертом, когда я готовилась к выходу, раздался звонок в дверь. Открываю дверь — никого, только лежит конверт. В конверте была короткая записка: «Убирайся из Белграда! Оставь мне моего Слободана, иначе умрешь!» Посчитав это бессильной бабской угрозой, я поехала на концерт. Я была счастлива, мне все удавалось в то время. Я пела в Милане, пела в Мюнхене, получала премии в Барселоне и Лондоне. Мне аплодировали во всех прославленных оперных театрах мира. И казалось, что после долгих испытаний и страданий эмигрантской жизни судьба наконец вознаграждает меня. В хорошем настроении и «в голосе» я ждала, когда погасят свет, раздадутся первые аплодисменты. Уже почти на выходе из гримерки я решила взять несколько нот из своей любимой «Аиды», которую мне предстояло спеть. И ужас сковал мое тело: у меня не было голоса! Он не просто пропал или сел, или я «пустила петуха», у меня просто не было голоса! Я не зазвучала. С безумными глазами, хватая режиссера сцены за руки, я пыталась ему объяснить, что случилась катастрофа. Но, кроме сипа, из моего горла ничего не исходило. Концерт отменили через несколько минут, и через несколько же минут появилась скорая помощь, потому что меня лихорадило и казалось, что высокая температура сожжет всю меня изнутри. В госпитале, куда уже примчался мой муж, меня осмотрели самые лучшие белградские врачи, собрали консилиум. У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ НАШЛИ… Слободан настаивал на повторном обследовании. На этом же настаивала и я. У меня брали кровь, проводили компьютерные исследования, УЗИ — все показывало норму. Но ведь зашкаливающая температура была! Ведь весь театр видел, как меня колотило в ознобе, как я не могла говорить. Но приборы по-прежнему выдавали норму. И все начало казаться ночным кошмаром.
С Сергеем Лавровым. Два выпускника одного вуза