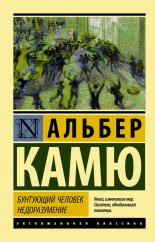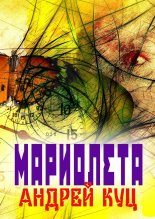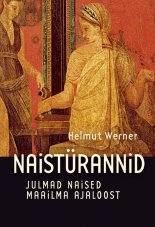Море, море Мердок Айрис
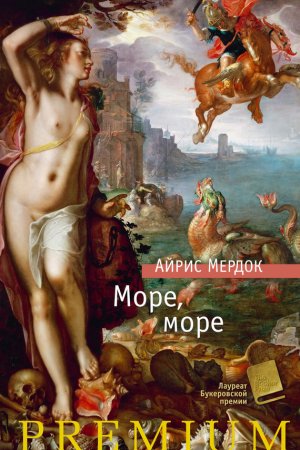
Сегодня все небо затянуто приятной, очень легкой дымкой, а у моря вид обманчиво смирный, словно маленькие серебристые волны изо всех сил ластятся к скалам, решив не выдавать себя ни единым белым гребешком. Это плотное, светлое, благодушное море, очень красивое. Тюлени в нем должны быть непременно, сегодня и волны-то почти как тюлени, и все-таки я тщетно оглядываю водный простор в полевой бинокль. Огромные желтоклювые чайки, усевшись на скалах, вперяют в меня блестящие стеклянные глаза. Баклан бреющем полете носится над глицериновым морем. Сонмы бабочек кружат возле скал. По-прежнему жарко. Стираю белье и сушу его на своей лужайке. От ежедневного купания чувствую себя крепким, просоленным. Лиззи все молчит, но меня это не волнует. Мне хорошо в моей тишине. Если боги припасли для нас с Лиззи какой-то праздник — отлично. Если нет — тоже отлично. Ощущение невинности и свободы. Может, все оттого, что много купаюсь.
Как высокопарно, почти выспренне, я выражаюсь, став писателем! Многие драматурги, я знаю, смотрят на повествовательную прозу как на некий чужой язык, которым и не мечтают овладеть. Возможно, и я одно время чувствовал нечто подобное. А вот гляди ж ты, сколько страниц я уже исписал! Сейчас перечел эскиз, посвященный Джеймсу, — право же, неплохо. Но правдивый ли это портрет? Нельзя сказать, чтобы он был совсем уж недостоверен, но написано слишком мало и слишком гладко. Как описывать настоящих живых людей? В моем описании Джеймс выглядит таким законченным, таким жестким. Я еще не сказал, что у него мелкие квадратные зубы и по-детски глуповатая улыбка. Иногда он точно забывает закрыть рот. у него с горбинкой и смуглый цвет лица. Тетя Эстелла тоже была смуглая. Может быть, в ней была доля индейской крови?
Нужно уделять этим портретам больше труда. Может, к этому и сведется моя книга — просто моя жизнь, рассказанная как серия портретов всяких людей, которых я знал. До чего же разношерстная компания: Клемент, Розина, Уилфрид, Сидни, Перегрин, Рита, Фрицци, Жанна, Алоиз Булл… Нужно писать о Клемент. Она — моя главная тема. Какая злая она стала в конце, когда потеряла свою красоту и начала терять рассудок. И какая бывала противная и скучная, когда в сотый раз принималась рассказывать все те же скандальные, непристойные истории. Невыносимая атмосфера в ее квартире, запах спиртного, запах слез и истерик. Ее низкий, зычный, пьяный голос — попреки, попреки, попреки. Как я это выдержал? Кажется, с честью. Как только я узнал, что она обречена, на помощь мне пришли снисхождение, сострадание. Звучит цинично. Но я всегда любил ее; и мы были вознаграждены. В самом конце мы оба были безупречны. Бедная Клемент. Страшное это царство — старость. Скоро я и сам в него вступлю. Не потому ли мне вдруг понадобилась Лиззи?
Пишу на следующее утро. А вчера поздно вечером, когда я писал в гостиной, случилось что-то непонятное. Я поднял голову и какой-то миг был уверен, что вижу лицо, глядящее на меня через стекло из внутренней комнаты. Я застыл на месте, пораженный ужасом. Я видел это лицо только одно мгновение, но совершенно отчетливо, хотя описать его не смог бы. Может быть, то, что я его не запомнил, имеет значение? Немного погодя я, конечно, отправился на рекогносцировку. Новую керосиновую лампу удобно переносить с места на место, так что мне не пришлось заглядывать во все углы со свечой. И конечно, ничего интересного я не увидел. Я даже обошел весь дом. Признаюсь, мне было очень не по себе. Нарочно замедляя шаг, я поднялся по лестнице, лег в постель и принял снотворное. Ночью мне слышалось, что постукивает занавеска из бус, но это явление объяснимое. К утру поднялся ветер, и море опять синее с белым.
Я подумываю о двух возможных решениях вчерашней загадки. Во-первых, я мог просто увидеть в черном стекле свое отражение. Но ведь я писал сидя (а тут, может быть, встал, сам того не заметив?), и голова моя приходилась намного ниже внутреннего окна. Да и лицо появилось не в нижней части окна, а выше, а значит (тоже идея!), принадлежало либо кому-то очень высокого роста, либо кому-то, кто на что-то влез. (Но влезать там не на что, ведь складной столик я перенес сюда.) Вторую гипотезу я проверю вечером. Вчера окно, выходящее на море, не было занавешено и светила почти полная луна. Может быть, луна и отражалась во внутреннем окошке?
«Повсюду полно богов», — сказал однажды кузен Джеймс, цитируя кого-то. Может быть, меня всю жизнь окружают маленькие боги и духи и только магия театра держала их в узде или отгоняла? Актеры — люди суеверные, это давно известно. А теперь мы, значит, остались с глазу на глаз. Ладно, манией преследования я никогда не страдал и теперь не собираюсь.
Надо наконец побывать в отеле «Ворон», пополнить запас вина. И пожалуй, не стоит больше заводить в «Черном льве» разговоры про привидения и морских чудовищ.
Решил сегодня не купаться.
Ходил за покупками. В лавке всё обещают салат, но пока не получали. Свежей рыбы, конечно, тоже нет. Нашел еще несколько писем в каменной конуре. От Лиззи ни слова, зато подал о себе весть Перегрин Арбелоу. На второй завтрак приготовил свое любимое вегетарианское рагу: лук, морковь, помидоры, мука, чечевица, перловка, растительный белок, сахар и прованское масло. (Растительный белок привез с собой из Лондона.) Перед самой едой накапать лимонного сока. Блюдо очень легкое, добавил к нему печеную картофелину со сливочным сыром. Затем булочка и чернослив. (Чернослив — объедение, если как следует приготовить. Промыть, откинуть, добавить лимонного сока или апельсиновой воды, только не сливок.) На случай, если читателя удивит, почему в моем меню отсутствуют яблоки, скажу, что это — единственный случай, когда мне повредил мой аристократический вкус: из всех сортов яблок я признаю только оранжевый пепин, так что с апреля по октябрь ношу по яблокам траур.
Для первого знакомства с Перегрином приведу его письмо.
«Чарльз, как живешь? Мы тут все сгораем от любопытства. Выходит, ты так-таки никого не приглашал? Но тебе без нас должно быть дьявольски скучно. Или ты тайком вернулся в свою лондонскую квартиру, отключил телефон и выходишь только по ночам? Кто-то говорил, что твой дом стоит на голом мысу, омываемом волнами, но это, по-моему, враки. Я скорее вижу тебя в уютном коттедже на набережной. Не представляю, чтобы ты мог жить без твоей электрической соковыжималки. Если ты действительно изменил образ жизни, я этого просто не вынесу. Ведь я сам всегда хотел это сделать, но не мог и не смогу. Сдохну в постели таким же подонком, каким жил. Я тут пил неделю без просыпа, когда вернулся из ада, сиречь из Белфаста. Цивилизация — ужасная вещь, но не воображай, что ты можешь от нее спастись. Я хочу знать, чем ты занят. И не воображай, что можешь от меня спрятаться, я — твоя тень. Собираюсь навестить тебя на Троицу. (Кто-то предложил пари, что не рискну, я против пари, ты знаешь, я не могу устоять.) Всякие люди просили бы передать тебе приветы, если б знали, что я пишу, но никакие это не приветы, а просто нахальное любопытство. Мало кто тебя достоин, Чарльз. Принадлежит ли к их числу нижеподписавшийся? Время покажет. Захватить мне с собой купальные трусы? Я не купался в море с наших исторических дней в Санта-Монике. Есть еще версия, что ты якобы вообще не в Англии, а укатил в Испанию с женщиной. В опровержение чего изволь написать. Тень твоя приветствует тебя.
Перегрин».
Сейчас, позавтракав (а мне и правда недостает моей выжималки), я сижу наверху у окна. Небо в тучах, море неспокойное, сине-серое, какого-то враждебного, неприятного цвета. Чайки справляют поминки. В доме сыро. Возможно, я еще угнетен вчерашним происшествием, хотя это, конечно, была галлюцинация, не более того. (Однако насчет луны я все-таки проверю.) И я хотя бы вправе написать «угнетен», а не «напуган». Бояться тут нечего.
Набросаю, пожалуй, кое-какие штрихи к портрету Перегрина. В этой связи придется поговорить о Розине, а об этой даме я предпочел бы забыть. Что ж поделаешь, взялся за автобиографию, так нельзя все время только ублажать себя.
Перегрин (он терпеть не может, когда его называют Перри, так же как я, когда меня называют
Чарли; меня так зовут только те, кто совсем меня не знает) — один из тех людей, что составили себе четкое представление о той жизни, какой они хотят жить, и о роли, какую хотят играть, и живут, и играют, не считаясь с кем бы то ни было, особенно со своими близкими. И самое странное то, что такие люди могут заблуждаться, могут, так сказать, ошибаться в своем амплуа и все же борются и побеждают — отчасти потому, что их «жертвам» легче иметь перед глазами простой, определенный тип, нежели разбираться и анализировать. Перегрин, человек во многих отношениях мягкий и добрый, выбрал себе роль грубияна и медведя. В этой роли он с необыкновенной легкостью наживает себе врагов. Я лично считаю, что без надобности наживать врагов в театре, да и вообще в жизни, — это недостаток профессионального умения, а он как дурак вечно лезет на рожон. Ему недостает щепетильности подлинного артиста. Мне все время приходилось его терроризировать, чтобы являлся на спектакли трезвым. У него есть задатки прекрасного актера, но есть и зазнайство, и халатность, этакая ирландская бесшабашность, и очень уж он снисходителен к самому себе.
Перегрин — ольстерский католик, учился на медицинском факультете Королевского университета в Белфасте, оттуда сбежал в Дублин, в театр «Гейт». Ирландию он ненавидит так, как может ее ненавидеть только ирландец. С религией он в ранней молодости распростился ради марксизма, потом распростился и с марксизмом. Впервые я видел его на сцене в «Удалом молодце»[10] (в те далекие дни он был худ и строен) и сразу отдал должное его таланту. Теперь, когда мы уже несколько лет не работаем вместе, он постепенно отцветает как очаровательный толстый телевизионный злодей. Мое мнение о его карьере ему известно, но мы остались друзьями, несмотря даже на то, что я украл у него жену. Он женился вторично, столь же несчастливо, на бывшей актри-се Памеле у которой имеется маленькая дочка от ее предыдущего ужасающего брака с Рыжиком Годвином. (Где-то он теперь?) И зачем только люди вступают в брак?
Да, без разговора о Розине не обойтись, но, может быть, мне даже будет полезно все это записать. Всего-то, положим, не напишешь, сколько бы ни извел бумаги. Розина — явление внушительное. Когда мы встретились, она уже была женой Перри. Они познакомились в Америке уже после того, как я обнаружил его в театре «Гейт». Я был еще сравнительно молод, хотя успел приобрести некоторую известность как драматург и режиссер. Тут, очевидно, прошло еще сколько-то времени (жаль, жаль, что я не вел дневни-ка), потому что преследовать Розину я начал после того, как опять провел какой-то период с Клемент. Сколько же сил я потратил в жизни на то, чтобы избавляться от женщин! Рита Гиббонс тоже причастна к этой истории, так что, пожалуй, это было еще позднее. Клемент терпела Риту, Лиззи и Жанну. Розину же люто ненавидела. Разумеется, я лгал Клемент (а она мне), но всегда находились желающие держать ее в курсе дела.
Розина — это, конечно, Розина Вэмборо, самая, вероятно, известная фигура в этой книге, не считая меня. Ее настоящая фамилия, которую она скрывает, — Джонс (или Уильямс, или Дэвис, или Риз), она из Уэльса, внучка канадской француженки. Я никогда не был «влюблен» в Розину. Это слово я берегу для той единственной женщины, которую любил безоглядно (не для милой Клемент, конечно). Но что я сходил по Розине с ума — это бесспорно. (К тому же, когда прекрасная и остроумная женщина пылает к тебе страстью, поневоле чувствуешь, что ты пропал.) Была ли она в меня влюблена — не уверен. Неистовая жажда обладания — вот что владело и ею, и мной во время нашей связи. Был момент, когда ей хотелось стать моей женой, у меня же никогда и в мыслях не было на ней жениться. Я просто желал ее, а чтобы удовлетворить это желание, требовалось раз и навсегда увести ее от мужа. Клемент до известного возраста была, вероятно, самой красивой женщиной, какую я знал. Но Розина — самая стильная, самая роскошная и неотразимо искусственная. В ее обаянии было что-то наигранное, хрупкое, до предела женственное, так и подмывало стиснуть ее, смять, раздавить. Она слегка косит на один глаз, что придает ее взгляду особую пристальность. Глаза у нее сверкают, словно из них в самом деле сыплются искры. Она вся заряжена электричеством. И я не встречал женщины, которая умела бы так быстро бегать на высоченных каблуках.
Она была (и сейчас осталась) хорошей актрисой и очень неглупой женщиной. (Эти слова не всегда сочетаются.) Красота ее — смесь кельтской и галльской: синие глаза, жесткие темные волосы и большой влажный чувственный рот. Господи, до чего разные бывают поцелуи! Поцелуи Лиззи были сухие и целомудренные, но льнущие. Розина целовала, как тигрица. В Розине было вызывающее обаяние той зловредной девицы из сказки, на которой принц не женится, хотя и сама она, и ее реплики интереснее, чем у той девицы, которой принц достается. Она была хорошей комической актрисой, блистала в дешевых комедиях Реставрации (они меня не привлекали). Она создала запоминающийся образ Гедды Габлер и по-своему трогательный — Натальи Петровны из «Месяца в деревне». К сожалению, Онор Клейн[11] у нее не получилась. Когда я с ней работал, я пробовал давать ей роли не ее профиля; с другими актерами у меня это не раз выходило удачно. Она была на удивление хороша в роли президентши в нсценировке «Опасных связей», которую сделал Сидни, Играть леди Макбет я ей не разрешал, а когда много позже Исаия Моммсен пошел на такой риск, результат был плачевный. Когда я ее бросил, она одно время металась между идиотскими фильмами и телевидением. Я был доволен. Бросив ее, я не желал больше видеть ее имя на афишах Шафтсбериаверю и не желал знать, какой режиссер с ней работает. Lajalousie nait avec l'amour, mais ne meurt pas toujours avec lui.[12]
Промежуток между утолением жажды и адом был недолгий, но, что и говорить, чудесный. Розина — из тех женщин, которые считают, что «хороший скандальчик очищает атмосферу». Я, со своей стороны, убедился, что хороший скандальчик не только не очищает атмосферу, но может сделать людей врагами на всю жизнь. Скандалы в театре бывают ужасны, я их всегда избегал. За это Розина называла меня трусом. Она обожала скандалы, какие угодно, ей и любовь представлялась цепью скандалов. Я начал уставать. Хочу надеяться, что я, если бывало нужно, всегда умел навести золотой мост для отступления. У Розины, когда она убедилась, что я остываю, не было наготове такой спасительной конструкции. Она цеплялась все крепче, визжала все громче. Она всегда была патологически ревнива, еще хуже, чем я. Всю мою жизнь ревность шла со мной бок о бок, я видел ее проявления, муки, ею вызванные. Сейчас вспоминается нечто совсем иного порядка, но не менее страшное: как молчала моя мать после визитов тети Эстеллы.
К концу мы оба были немного помешанные. Помню, мой кузен Джеймс цитировал слова какого-то философа о том, что «предпочесть гибель мира царапине на собственном пальце вовсе не противоречит разуму». Мы с Розиной дошли до такой стадии (правда, с разумом она имела мало общего), когда безусловно предпочли бы гибель мира. Помню, однажды Розина в приступе ярости скатилась с лестницы. Несколько раз я был готов к тому, что она выбросится из окна, и смутно надеялся на это. Я пришел к выводу, а может быть, и всегда чувствовал (опять-таки говоря словами какого-то француза): elle n'a qu'une faute, elle est insupportable.[13] Я до сих пор иногда просыпаюсь среди ночи с мыслью: «Какое счастье, что эта женщина ушла из моей жизни!» К Перегрину она тогда, конечно, не вернулась.
Перри своим поведением заслужил мою глубокую благодарность, даже восхищение. Циники уверяли, что он был рад сбыть Розину с рук, но я-то знаю, что это не так, он страдал. Не сомневаюсь, что с Розиной у них шла непрерывная война, но то же можно сказать о многих, не обязательно несчастливых женатых парах. Думаю, что он любил ее, хотя, вероятно, как и я, со временем почувствовал, что она невыносима. И я вполне допускаю, что, когда проблема разрешилась помимо его воли, он ощутил облегчение.
Позже он усиленно демонстрировал мужскую солидарность. Он по-прежнему очень ко мне привязан, и я это ценю. Одним из следствий его поистине удивительного великодушия и доброты является то, что, хотя объективно я понимал, что поступил дурно, вины я почти не чувствовал. Потому что Перри ни разу меня не упрекнул. А вот перед моим шофером Фредди Аркрайтом я всегда чувствовал себя виноватым, потому что однажды он на меня наорал, а не потому, что я вызвал его гнев, заставив три часа ждать голодным, пока сам обжирался в отеле «Коннот». Чувство вины часто порождается не самим проступком, а нареканиями на него.
Бродил по своим скалам, рвал цветы. Получился прелестный букет из валерианы, армерии и горицвета. У горицвета очень сильный сладкий запах. Все собираю камни, никак не остановиться. В корытце уже не хватает места, хотя самые красивые я пустил на бордюр вокруг лужайки. Выглядит он как-то несерьезно, еще не знаю, понравится ли он мне, когда будет закончен. Смотрятся камни хорошо, но боюсь, как бы не обесцветились с нижней стороны, где их касается земля.
Нынче утром купался с каменистого пляжа под дождем. Пляж примерно в миле от дома, в сторону деревни, так что я захватил трусы, однако не надевал их, потому что никого не было. От дождя море утихло, стало гладким, почти маслянистым. Вылезать было совсем нетрудно. Набрал еще камней. По дороге домой посидел голым на Минновом мосту, глядя, как глянцевитая вода влетает в глубокую яму. Даже в такой тихий день она там взметывается и спадает, точно прибой.
Вчера вечером было облачно, и я не мог проверить свою теорию, что призрачное «лицо», которое я видел, было отражением луны. Но я теперь уверен, что то была зри тельная галлюцинация, и никаких больше объяснений не требуется. На вечер я расположился в красной комнате и затопил камин. Он опять дымил — наверно, ветер переменился. Спасая паука, который бежал по тлеющему полешку, я вспомнил отца. До приезда сюда я несколько лет не имел комнаты с камином. Клемент всегда любила камины. Удивительный это процесс — горение. Как досконально и вроде бы деловито огонь все преображает, он такой чистый, чистый, как смерть. (Предстоит ли мне кремация? Кто будет этим заниматься? Не хочу думать о смерти.) До сих пор я держал дрова в кладовой, но там мало места и очень уж сырой пол. Можно было отвести под дрова нижнюю внутреннюю комнату. Плавник такой красивый, отполирован морем, высветлен до бледно-серого цвета, его и жечь-то жалко. Я отобрал несколько кусков с особенно интересным рисунком. Может быть, составлю коллекцию плавниковой «скульптуры».
Скоро стемнеет, я сижу у окна в гостиной и смотрю, как дождь упорно изливается в море. Есть некая грозная простота в этом сером пейзаже. Темная линия горизонта, а выше и ниже море и небо почти одного цвета — приглушенного, чуть светящегося серого оттенка, затихшие, словно в ожидании чего-то — чтобы вспыхнули молнии или чудовища поднялись из воды. Благодарение Богу, больше галлюцинаций у меня не было, и тот факт, что я так быстро забыл свое видение, лишний раз убеждает меня, что это и правда было замедленным действием наркотика, столь опрометчиво мною испробованного. Да и «видел» ли я в самом деле что-нибудь, требующее хотя бы такого объяснения? Я внимательно оглядываю прибитое дождем море, но никакие гигантские, свитые кольцами шеи из него не вырастают. (Тюленей тоже нет.) Как ни странно, я только недавно задумался над словами того мужлана в «Черном льве» насчет червей. Ведь в старину червем называли змея, дракона. А впрочем, не слишком ли много фантастики — драконы, полтергейст, лица в окошках! И какое беспокойное чувство вызывает дождь.
Перечитал свои этюды о Джеймсе и Перегрине, они производят впечатление. Конечно, это лишь наброски, нужно выписать их подробнее, чтобы придать им достоверности и «правды». Мне только сейчас пришло в голову, что в этих «мемуарах» я мог бы написать о своей жизни кучу небылиц и все приняли бы их за чистую монету. Таковы человеческое легковерие, сила печатного слова и любого известного имени, особенно если оно связано со «зрелищным бизнесом». Даже когда читатели говорят, что не очень-то верят автору, они лукавят. Им ужасно хочется верить, и они верят, потому что верить легче, чем не верить, и еще потому, что все написанное на бумаге можно назвать «в каком-то смысле правдой». Надеюсь, эти попутные соображения никого не заставят усомниться в истинности моей истории! Когда я дойду до описания моей жизни с Клемент Мэйкин, даже легковерам придется туго, но авось они окажутся на высоте!
С тех пор как я начал писать эту книгу, или мемуары, или автобиографию, у меня такое чувство, будто я брожу по темной пещере, куда свет проникает через разные отверстия или колодцы — может быть, из внешнего мира. (Картина словно бы мрачная, но для меня в ней ничего мрачного нет.) Среди этих пятен света есть одно, самое большое, к которому я полусознательно держу путь. Возможно, это большое «окно», за которым сияет день, а возможно — щель, сквозь которую вырывается пламя из центра земли. Я еще сомневаюсь, что вернее и следует ли мне подойти ближе, чтобы удостовериться. Образ этот возник до того внезапно, не знаю, как его осмыслить.
Когда я решил писать о себе, передо мной, естественно, встал вопрос: значит, нужно писать о Хартли? Ну конечно, думал я, писать о Хартли нужно, раз это — самое важное в моей жизни. Но как? Какой стиль, достойный этой священной темы, могу я выбрать или выработать и не окажется ли нестерпимо мучительной всякая попытка вновь пережить те события? Или это будет попросту святотатство? Или вдруг я возьму неправильный тон и вместо чуда получится нелепый гротеск? было бы, пожалуй, рассказать свою жизнь, не упоминая о Хартли, хотя такое умолчание было бы равносильно грубой лжи. Возможно ли, создавая автопортрет, умолчать о чем-то таком, что изменило всю твою сущность и о чем думал каждый Божий день? «Каждый день» — преувеличение, но не такое уж большое. Мне не требуется нарочно вспоминать Хартли, она здесь, передо мной. Она — мое начало и мой конец, альфа и омега.
Я предпочел оставить этот вопрос открытым — слишком уж хлопотно было искать ответ. Решил просто писать, а там видно будет, способен ли я как-то подойти к этой огромной теме или, может быть, уже подошел к ней. И так же, как в свое время я неожиданно для себя написал: «Мой дед со стороны отца был огородником в Линкольншире», — так вот теперь, бродя по моей пещере, я приблизился к великому источнику света и готов говорить о своей первой любви. Но что я могу сказать? Где найти нужные слова? Моя первая любовь, моя единственная любовь. По сравнению с ней все, даже Клемент, были бледными теня ми. Для меня это так непреложно, что мне трудно себе представить, что у других это может быть иначе. On n'aime qu'une tois, la premiere.[14]
Звали ее Мэри Хартли Смит. Как быстро, как охотно я это написал. А сердце-то застучало. О Господи! Мэри Хартли Смит.
Итак, заглавие для рассказа есть. А написать рассказ я не могу. Напишу кое-какие заметки к рассказу, тем, возможно, дело и кончится. Да и откуда взяться рассказу? Фабулы-то нет, одни чувства — чувства ребенка, юноши, молодого мужчины, туманные и святые, самое сильное, что испытано в жизни. Я почти не помню времени, когда я не знал Хартли. В школе у нас учились только мальчики, но женская школа была рядом, и мы все время общались с девочками. В то время Мэри было чуть ли не самое частое имя, поэтому ее все звали Хартли, так это имя за ней и осталось. Мы с ней дружили, но поначалу, сколько помнится, весело, по-детски, без глубоких эмоций. Эмоции начались лет в двенадцать. Они нас поразили, озадачили. Они трепали нас, как терьер треплет крысу. Мы были… нет, стертым словом «влюблены» это не выразишь. Мы любили друг друга, жили друг в друге и друг другом. Мы были друг другом. Почему то была такая чистая, беспримесная боль?
Странно, что я написал (и не изменю) слово «боль», ведь это была, конечно же, чистая радость. Может быть, дело в том, что чувство, как его ни назови, было столь всеобъемлюще и чисто. (Говорят, если завязать человеку глаза, он не отличит сильного ожога от сильного холода.) Или, может быть, в этом возрасте все эмоции ощущаются как боль, потому что не освещены мыслью. Все обращается в страх и ужас, и чем чудеснее, чем радостнее, тем страх и ужас сильнее. Но повторяю: мысль, рассуждения отсутствовали. Я не спрашивал себя, всегда ли Хартли будет меня любить, я просто знал, что она моя навеки. Но когда мы закрывали глаза, в них были слезы радости, а в сердцах космический ужас.
Разумеется, мы держали все это в тайне. Одноклассники привыкли к нашей веселой дружбе. А потом мы затаились, притворялись равнодушными, придумали тайные места для встреч. Все это было подсказано инстинктом, не обсуждалось и не решалось. Мы должны были прятать свое сокровище, чтобы его как-нибудь не повредили, не высмеяли, не осквернили. Мои родители, конечно, знали, кто такая Хартли, но у нас она почти не бывала, они так не любили, чтобы кто-нибудь приходил к нам в гости, да и я этого не предлагал. О моем особом интересе к ней они не подозревали, считая, что в моем возрасте никаких особых интересов быть не может. Ее родители, тоже знавшие о моем существовании, тоже нами не интересовались, впрочем, я им, кажется, не нравился. Был у нее старший брат, тот презирал нас обоих. Наш мир оставался замкнутым и тайным. Родителей мы успеем оповестить позже, когда поженимся, а поженимся мы непременно, когда нам исполнится восемнадцать лет. (Мы были ровесниками.) Мы целовались, но дальше этого не заходили. Не забудьте, дело было давно.
Попробую описать Хартли. О моя милая, как ясно я тебя вижу. Именно вижу, а не воображаю. Свет в пещере — не огонь, а свет дня. Может, это единственный свет в моей жизни, тот, что озаряет истину. Не мудрено, что я боялся потерять его и навсегда остаться во мраке. Тут слились все слепые детские страхи, так рано внушенные мне матерью: не поцелует, унесет свечу. Хартли, моя Хартли. Да, я вижу ее как сейчас, прыжки в высоту, веревку поднимают все выше, а она все перелетает через нее, и зрители каждый раз вздыхают с сочувственным облегчением, а я изнемогаю от тайной гордости. Она была чемпионкой по прыжкам в своей школе, во многих школах, и по бегу тоже. Хартли всегда занимала первое место, а я кричал «ура» вместе со всеми и смеялся от сокровенной радости. Хартли. Все затаили дыхание, вот она присела на параллельных брусьях, блестят ее голые ляжки. Учитель гимнастики поговаривает об Олимпийских играх.
«О Дух Святой, на нас сойди, огнем небесным освети…» Мы вместе конфирмовались, наша любовь приняла благословение свыше. Помню, как Хартли пела в церкви, подняв свое ясное, невинное, прелестное лицо к свету, к Богу, к той радости, которая, она знала, принадлежит ей по праву. Мы много говорили о религии (как и обо всем на свете) и чувствовали, что мы — избранные и любовь охраняет нас. Мы ощущали свою невинность и думали, что всегда быть хорошими не составит труда. Я помню восхитительный смех Хартли, но не помню, чтобы мы поддразнивали друг друга или много шутили. Наше счастье было торжественно, свято, и мы сторонились грубоватой болтовни одноклассников. Вопросы пола, мне кажется, не вызывали у нас любопытства. Мы были одно, и только это имело значение. Мы жили в раю. Мы уносились на велосипедах и лежали в лугах среди лютиков, у железнодорожных мостов, на берегу каналов, на пустырях, ожидающих застройки. Наша сельская местность уже превращалась в пригород, но для нас она была чудесна и наполнена смыслом, как Эдем. Хартли не была особенно умной, начитанной девочкой, она обладала мудростью невинных, и мы общались, как ангелы. Ей было легко во времени и в пространстве.
Вижу, как она мне улыбается. Она была красива, но особой, скрытой красотой. В школе она «хорошенькой» не числилась. Иногда лицо ее бывало тяжелым, почти суровым, а когда она плакала, то становилась похожа на младенца-поросенка в «Алисе». Она была очень бледная, находили, что у нее болезненный вид, а на самом деле она была крепкая и здоровая. Лицо у нее было круглое, белое, а в глазах удивление и загадочность, как у юной дикарки. Глаза были темно-синие, какие-то даже фиолетовые. Зрачки часто расширялись, и тогда глаза казались почти черными. У нее были очень тонкие светлые волосы, длинная стрижка. Губы бледные и всегда холодные, и когда я, закрыв глаза, так по-детски касался их губами, какая-то холодная сила пронзала меня, словно копье, — такое мог бы почувствовать паломник, когда он, опустившись на колени, целует священный всеисцеляющий камень. Ее тело не отзывалось на мои объятия, но дух ее льнул ко мне языками холодного огня. Ее прекрасные плечи, ее длинные ноги тоже были бледны и казались холодными. Я ни разу не видел ее совсем обнаженной. Она была стройная, очень стройная, длинноногая и чистая, и очень сильная. Она меня никогда не тискала, но, случалось, так сжимала мои руки пониже плеч, что оставались синяки. Ее загадочные фиолетовые глаза не закрывались, когда я тянулся поцеловать ее. Они глядели с тем странным удивлением, которое и было страстью. Эти тихие, молчаливые, почти чопорные объятия были самыми страстными, какие я знал. И мы были целомудренны, мы уважали друг друга и боготворили друг друга целомудренно. И это была страсть, это была любовь такая чистая, какой не будет уже никогда, какая и вообще-то редко встречается. Эти воспоминания сияют во мне, как ни одно произведение искусства, ярче и драгоценнее, чем Шекспир или Пьеро делла Франческа. Глубоко внутри меня есть кто-то, не ведающий ни времени, ни перемен, и эта часть моего существа до сих пор пребывает с Хартли в том блаженном краю, где мы с ней были когда-то.
Теперь, написав это, что я могу добавить? Просто описывать Хартли я мог бы еще и еще, но очень уж это больно. Я потерял ее, жемчужину моего мира. И до сего дня для меня остается тайной, как это случилось: тайной души молодой девушки, ее отношения к жизни. Я боялся чего угодно — что она умрет или я сам умру, что нас постигнет кара за избыток счастья; но того, что произошло, я не боялся и не представлял себе, во всяком случае сознательно. Или все мои страхи сводились к этому, но осознать это я не решался? Любовь, доведенная до крайности, несет в себе ужас, а ужас, подобно иным молитвам, что предполагают всеведение Господне, не знает границ, вмещает все. Так что, возможно, я боялся и этого. Наверно, я кричал в глубине смятенного сердца: помилуй, не дай случиться и этому, хотя «это» казалось немыслимым.
Попробую изложить все просто, ведь оно и в самом деле очень просто. Когда подошло время, Хартли решила, что не хочет выходить за меня замуж. Почему именно — выяснить не удалось. Я был слишком раздавлен горем, чтобы отчетливо думать, толково расспрашивать. Она отвечала смущенно, уклончиво — то ли не хотела причинить мне боль, то ли сама была слишком несчастна, то ли колебалась, а я, глупец, этого не заметил. Некоторые ее слова врезались в память. Но обозначали ли они «причины»? Все, что она говорила, она тут же смывала слезами. Еще давно у нас было условлено, что мы поженимся в восемнадцать лет, как только станем взрослыми. Среди этих непонятных, уклончивых, все смывающих слез как странно я убеждал ее, что подожду, не буду ее торопить. Если это просто девичьи страхи, я не оскорблю ее, пусть остается как есть, лишь бы не отняла у нас наше драгоценное будущее, с которым мы так долго жили. Наш брак был ясной, определенной целью, я только боялся, что умру, не успев ее достигнуть. Имея перед собой эту ясную цель, я и уехал в Лондон, в театральное училище. Родителям мы все еще ничего не сказали. Может быть, в этом была моя ошибка? Я боялся осуждения матери, ее противодействия. Она могла сказать, что мы слишком молоды. Я не хотел до времени омрачать наше счастье семейными сценами, хотя мы столько раз говорили, что никакие сцены нам не страшны. Но если б наши родители знали и дали согласие или если б мы уже повоевали за свою любовь, самый факт, что наши планы на будущее известны, сделал бы их более обязывающими, более реальными. И конечно, это изменило бы атмосферу нашего маленького рая. Может, этой перемены я и боялся, может, я потерял Хартли, потому что был трусом? В чем, в чем была моя ошибка? Что случилось, когда я уехал в Лондон, как шли ее мысли? Ведь она согласилась, она поняла. Конечно, была разлука, но я писал каждый день. Я приезжал на воскресенья, она казалась прежней. А потом в один прекрасный день сказала…
Мы уехали на велосипедах к каналу, как часто ездили раньше. Велосипеды наши, как всегда, лежали в обнимку в высокой траве у прибрежной тропы. Мы пошли дальше пешком, глядя на все то знакомое и дорогое, что стало для нас своим. Кончалось лето. Было множество бабочек. При виде бабочек мне до сих пор вспоминаются те страшные минуты. Она заплакала: «Я больше так не могу, не могу. Я не могу выйти за тебя замуж… Мы не дадим друг другу счастья… Ты не останешься со мной, ты уйдешь, не будешь мне верен… Нет, я тебя люблю, но не могу тебе верить, не понимаю». Оба мы обезумели от горя и в горе взывали друг к другу. В отчаянии, в смертельном ужасе я заклинал: «Будем хотя бы друзьями навеки, не можем мы покинуть друг друга, потерять друг друга, это невозможно, я умру». Она плакала и трясла головой: «Ты же знаешь, мы больше не можем быть друзьями». Вижу, как горят ее глаза, как дергаются мокрые от слез губы. Никогда я не мог понять, как она сумела проявить такую силу. Была ли она откровенна или же ее слова скрывали другие слова, которые она не решалась произнести? Почему она передумала? Я спрашивал снова и снова, с чего она взяла, что я не буду ей верен, что мы не будем счастливы, почему вдруг утратила веру в будущее. «Я больше не могу, не могу». Может, кто-нибудь оговорил меня? Не может же она ревновать к моей жизни в Лондоне, я только о ней и думаю. (Клемент еще была скрыта в грядущем.) Или она встретила кого-то другого? Нет, нет, нет, твердила она и принималась повторять свои непонятные доводы. Да, она была очень сильная. И она от меня ускользнула.
Мне нужно было возвращаться в Лондон. Через два дня я уже не верил в этот ужас. Я написал ей спокойное, властное, сочувственное письмо. Потом бросил все и примчался обратно. Мы снова свиделись, и повторилась та же сцена, потом еще раз. А потом она как в воду канула. Я пошел к ней домой. И родители ее, и брат встретили меня враждебно. Через неделю я пошел снова. Потом получил письмо от ее матери — Хартли, мол, не желает меня видеть и просит оставить их всех в покое. Я искал, расспрашивал, подстерегал. Как может человек в двадцатом веке просто исчезнуть? Почему нет места, где справиться, учреждения, куда написать? На все каникулы я превратился в сыщика. Из школьных товарищей никто не знал, где она. Я дал объявление в местной газете. Я побывал во всех местах, о которых она когда-либо упоминала, у всех людей, которые ее знали. Я разослал десятки писем. Гораздо позже мне, конечно, стало ясно, что она могла ускользнуть только так — сбежав, исчезнув.
Через какое-то время ее родители уехали из наших мест, а потом я получил от ее матери коротенькое письмо без обратного адреса и с известием, что Хартли вышла замуж. Я не поверил. Ее родители — злая сила, они ненавидят меня, потому что Хартли меня любит. Я продолжал искать. Продолжал ждать. Я чувствовал, что для ее бегства должна быть какая-то особая причина и что время устранит эту причину и все станет по-прежнему. Я вел себя так сумасбродно, что многие узнали о моей любви и я прямо-таки прославился как влюбленный безумец. А мне уже хотелось, чтобы о моей беде знали все — авось кто-нибудь да просветит меня. Так и случилось. Мистер Макдауэл написал мне, сказал, что это правда, Хартли замужем. Ему я поверил. Подробностей он не сообщал (может быть, опасался каких-нибудь эксцессов с моей стороны), а я не стал расспрашивать. В его письме было сказано: «Ты просто смирись с тем, что ты ей не нужен, что она любит другого. Тут любой мужчина отступится».
Конечно, в каком-то смысле я «выздоровел». Я работал. Я познакомился с Клемент Мэйкин и дал ей меня похитить. Я ей все рассказал чуть ли не в первый день знакомства. А родителям не сказал, они, по-моему, так и не узнали. Они были простые люди, подозрительность была не в их характере, и к тому же они ни с кем не общались. Клемент выходила меня, убаюкала мою ревность, одно время это была у нас любимая тема разговоров. Ей это нравилось, ей казалось, что она исцеляет меня, и я не разубеждал ее, но она ошибалась. Рана была слишком глубока, да еще загноилась от горькой, неистовой ревности. Эта страшная зараза вошла в мою жизнь, когда я прочел письмо мистера Макдауэла, и с тех пор не покидала меня. «Ты ей не нужен, она любит другого». Пока я искал ее, меня дразнила надежда. Я непрерывно прощал ее в сердце своем, и этот постоянно возобновляемый акт прощения утешал меня. Мне все казалось, что она должна знать, как я страдаю, что щупальца моих мыслей дотягиваются до нее. Но в этих моих мыслях она всегда была одна. Когда же я действительно понял, что она замужем, я не возненавидел ее, но демон ревности осквернил прошлое, и я уже ни в чем не находил покоя. Из всех сильных чувств ревность, вероятно, самое неуправляемое. Она отнимает разум, она лежит глубже мышления. Она всегда при тебе, как черное пятно в глазу, она обесцвечивает весь мир.
Хартли отказала мне по моральным причинам, вызвала в моей жизни неизлечимый метафизический перелом. Не потому ли я избрал для себя маску аморальности? Такие высокопарные рассуждения, конечно же, ерунда, я сам удивляюсь, как мог их записать. Какие «причины» были у Хартли? Этого я никогда не узнаю. Возможно, в мои отношения с Клемент вкралась дьявольская решимость покончить с невинностью, словно я говорил Хартли: «Ты мне не верила. Так вот, я тебе покажу, что ты была права!» Может, и все мои романы были злобными попытками показать Хартли, до какой степени она оказалась права. Но права она была только потому, что покинула меня. Когда у тебя отнимают любовь, сердце умирает. Оттого, что моя мать грозила разлюбить меня, я оказался беззащитен перед преступлением Хартли. Хартли сгубила мою невинность, Хартли и демон ревности. Из-за нее я стал неверным. Ей я был бы верен, с ней вся моя жизнь была бы иной, не такой пустой, не такой никчемной. Так неужели я считаю, что моя жизнь, моя жизнь прожита впустую? Смешно. Неужели Хартли действительно сочла меня «суетным»? Если так, значит, она была-таки сродни моей матери. Это она, отвергнув меня, сделала меня суетным, обрекла на моральную гибель. Казалось ли ей, что в театре я пропаду? Она никогда этого не говорила. Я потому и сбился с пути, что она меня отвергла. Был бы я ей верен? А как мог бы я быть ей неверен, если б она жила со мной, шила на меня, готовила мне обед? Мы слились бы воедино, и святость брака стала бы нашим оплотом и убежищем. Она была частью, залогом той чистой, без трещинки, веры в высшее добро, которой я навсегда лишился.
Гораздо позже прошлое словно бы вновь обрело свою прелесть. Это бывает. Мне опять стали видны вдали, подобно выцветшим, но все еще излучающим свет изображениям Адама и Евы на старинной фреске, два невинных существа, омытых чистым сиянием. Она стала моей Беатриче. Время шло, и мне уже казалось, что в ней сосредоточено все хорошее, что было в моей жизни. Все хорошее — не был ли то совсем особенный сплав невинности и целомудренной страсти? Вот я уже написал о ней, такой, какой она была тогда, и меня глубоко радует, что я оказался на это способен. Когда что-то из прошлого вырывается наружу живым и цельным, поневоле мерещится, что от него веет пламенем ада. Конечно, вся моя жизнь была соткана из воспоминаний о Хартли. Но раньше, мне кажется, я не мог бы этого записать; и не мог бы признать, что наперекор нам обоим эта любовь во мне еще жива. Я, конечно, больше не видел Хартли. В последующие годы я благодарил Бога за то, что сам демон ревности запретил мне разузнавать о ней подробно, это было бы слишком мучительно, а так я ведь даже не узнал ее новой фамилии. Я не хотел знать, где она прозябает, не хотел, чтобы мои мысли, ходя по кругу, натыкались на имена людей, названия мест. Но мне нравилось думать, что живется ей скучно. А потом, когда мое имя получило известность и стало часто появляться в газетах, мне нравилось воображать, что она испытывает тайные муки раскаяния и сожалений и терзается так же, как терзался я. Заодно с моим счастьем она и свое убила. Я бы сделал ее королевой в моем мире.
После тех страшных дней я всегда боялся, как бы в моей жизни не возник какой-нибудь непобедимо могущественный источник боли, и заранее закалял себя, чтобы не слишком сильно страдать. Возможно, отчасти поэтому я и не женился. Что за странную азартную игру являет собой наше существование! Мы решаем поступить не так, а иначе, и вот уже обе дороги разошлись и могут привести нас либо в ад, либо в рай. Только задним числом понимаешь, сколь велика и сколь ужасна разница. А чем был обусловлен наш выбор? Это, наверно, уже забыто. Знал ли тогда, что выбираешь? Конечно же, нет. В жизни каждого столько разных «если бы…». Во время конфирмации я обещал себе всегда быть хорошим, и до сих пор мне смутно представляется, что это могло бы быть. Образ Хартли в моей душе перелился из пронзительной боли в печаль, но до конца не угас. И в каком-то смысле я продолжал ее искать, только поиски эти были теперь иные, без участия воли, словно во сне. Словно я, упорно помня о ней, сам вдыхал в нее жизнь — как она двигалась, как ходила, словно физический абрис ее существа всегда мне сопутствовал. И поэтому, особенно когда боль уже стала утихать, я снова и снова «видел» ее, видел, как призрачные ее контуры накладываются на других женщин; ее плечи, ее волосы, походка, этот удивленный загадочный взгляд. Я до сих пор вижу иногда эти призраки, явился мне совсем недавно, в облике старой женщины в здешней деревне — голова, увиденная мельком, как маска, надетая на другого человека. Раза два в Лондоне, еще давно, я даже пускался следом за этими призраками — не потому, что принимал их за Хартли, а просто чтобы себя помучить, наказать себя за то, что все еще помню.
Не так давно мне пришло в голову, что она, может быть, умерла. Странная бледность, расширенные зрачки — может, то были предвестники болезни, какой-то затаившейся до времени убийцы? Может, она умерла давно, когда я был еще молод? Я, пожалуй, был бы рад узнать, что она умерла. Что тогда сталось бы с моей любовью? Она бы тоже тихо скончалась? Или претворилась бы в нечто отвлеченное и невинное? Отпустила бы меня наконец та ревность, что горит и на этих страницах, развеялся бы запах адского пламени?
И сейчас еще я весь дрожу, когда пишу это. Память — слишком слабое слово для этого пугающего воскрешения. О Хартли, как абсолютна, как неподвластна времени любовь! Моя любовь к тебе не хочет знать, что я стар, а ты, может быть, умерла.
Сегодня в одиннадцать часов утра съел три апельсина. Апельсины следует есть в одиночестве, как лучшее угощение, когда проголодаешься. Ни в завтрак, ни в обед их включать нельзя, слишком много с ними возни. Замечу к слову, что я вообще не поклонник сытных утренних завтраков, хотя в теории отдаю им должное. Утром я только пью чудесный индийский чай. Кофе и китайский чай по утрам невыносимы, а кофе для меня невыносим и в любое время дня, разве что он особенно высокого качества и я не сам его заваривал. По-моему, напиток это неудобный и зря его так превозносят, но я допускаю, что это дело вкуса (тогда как другие взгляды, которых я придерживаюсь относительно еды, близки к абсолютным истинам). С утра я обычно вообще не ем, поскольку даже один гренок с маслом способен вызвать нежелательное чувство голода, а наесться с утра — значит плохо начать день. А вот перекусить в одиннадцать часов я не прочь, и тут возможно большое разнообразие. Бывают, как уже сказано, минуты для апельсинов. Бывают и минуты для остуженного портвейна и кекса с изюмом.
Апельсиновое пиршество не испортило мне аппетит для второго завтрака — рыбные шарики с горячим острым индийским соусом и салатом из тертой моркови, редиски, кресса и зеленой фасоли. (Одно время я добавлял тертую морковь в любое блюдо, но это увлечение прошло.) На второе — пирог с вишнями и мороженое. Мое отношение к мороженому определилось лишь тогда, когда я понял, что есть его надо с пирогом или с печеньем, а ни в коем случае не с одними фруктами. Само по себе оно, конечно, бессмысленно, даже если содержит орехи или еще какую-нибудь ерунду. Причем под мороженым я разумею сливочное с ванилью. Для пуриста мороженое с примесями так же неприемлемо, как, скажем, фруктовый йогурт. И еще я никогда не мог понять, чего ради придумано так называемое водяное мороженое, которое, чуть возьмешь его в рот, нахально превращается из жесткой ледышки в глоток столь же безвкусной воды. Мне очень обидно, что за неимением холодильника часть еды приходится выбрасывать. У моей матери холодильника не было, но ни крошки еды не пропадало. Все, что не съедалось сразу, шло в ход на следующий день. Как мы любили ее хлебные пудинги! Прочел все, что написал о Хартли, и взволнован уже оттого, что смог это написать. Это пока лишь призрачная дань; может быть, попробую кое-что улучшить, если вообще буду в силах вернуться к этой теме. Странная вещь память. С тех пор как я начал писать о Хартли, воскресло еще столько связанных с нею картин, запрятанных в темных глубинах сознания. Ее длинные ноги на мчащемся велосипеде, ее запыленные босые ступни в сандалиях. Как она, сначала присев, легким движением выпрямлялась во весь рост на параллельных брусьях во время состязаний по гимнастике. Как я чувствовал сквозь рубашку ее сильные пальцы, сжимавшие мне руки пониже плеч. Мы не предавались нескромным ласкам. Наша пылкая молодость подчинялась рыцарству чистой страсти. Мы были готовы ждать. Увы, увы. Никогда уже больше со мной не бывало, чтобы одно человеческое существо так чисто и нежно, так пронзительно, так предельно и свято стремилось слиться с другим душою и телом. Но, перечитывая мою историю, я опять ощущаю ее грозную тайну. Когда Хартли начала от меня отдаляться? Обманывала она меня или нет? Почему, почему так случилось?
Вторую половину дня я посвятил уборке дома. Снес два ведра с мусором к концу дамбы — и с неудовольствием обнаружил, что мусорщики в прошлый раз кое-что просыпали с дамбы вниз, на скалы. Пришлось спуститься туда и подобрать. В кухне я протер стены и вымыл пол из огромных черных плит. Такие не посрамили бы и собора. Посыльный доставил баллоны с газом (что меня удивило, хотя я сам об этом просил, когда заходил в «Магазин для рыбаков»). Не забыть справиться, нельзя ли через них достать газовый холодильник. Остатки мороженого растаяли. В кладовой все еще сыро. Я затопил камин в красной комнате и оставил все двери внизу открытыми. Целую кучу дров перетаскал в нижнюю внутреннюю комнату, авось они там высохнут. Привыкаю к тому, что теперь во всем доме пахнет древесным дымком.
Дождь перестал, светит солнце, но небо над морем почти сплошь свинцово-серое. На этом темном фоне скалы под солнцем горят золотом. Что за рай! Никогда мне не надоест это море, это небо. Если б суметь донести по скалам до башни стол и стул, я мог бы сидеть там и писать с видом на Воронову бухту. Надо выйти и обследовать мои озерки в скалах, пока не померкло освещение. Кажется, я стал более наблюдательным — недавно приметил колонию очаровательных крошечных крабов, ни дать ни взять гроздь мелкого прозрачного желтого винограда, и еще — малюсеньких, свирепого вида рыбешек, очень похожих на вымерших морских гигантов в миниатюре.
Мысль о Хартли уже не вызывает у меня такого волнения, ей будто дано было раствориться в свежем, здоровом здешнем воздухе. Вот уж поистине критерий для оценки моей новой среды. (Они говорили: «Ты с ума сойдешь от одиночества и скуки».) Нет, инстинкт не обманул меня.
Хотелось бы мне рассказать все это кому-нибудь, может быть Лиззи. Вместе с этой первой любовью я упрятал в тайник свою невинность и бережную нежность, которые впоследствии нарочно отрицал и вытравливал, и вот теперь, только теперь, они словно бы вновь пробудились и ожили. Неужели призрак женщины способен отомкнуть двери сердца?
ИСТОРИЯ 1
Разглядывать крабов я так и не пошел. Мне втемяшилось в голову сейчас же отнести к башне стол и стул, и я пустился в путь по скалам, с тем складным столиком, который до этого перенес из внутренней комнаты в гостиную. Скоро он уже стал казаться мне непомерно тяжелым, и я с досадой обнаружил, что не в силах одолевать гладкие, крутые подъемы и спуски, держа столик под мышкой. Кончилось тем, что я уронил его в расщелину. Надо поискать к башне какой-нибудь другой путь, полегче.
С пустыми руками я полез дальше и сел на мокрый выступ скалы, нависшей над Вороновой бухтой. Солнце еще светило, и небо над морем было все такое же серое. Гладкое беспенное море вздымалось и опадало у подножия скал в тихом, зовущем ритме. Тени удлинились, и большие круглые камни, окаймляющие бухту, с одного бока блестели, а с другого стали совсем темными. В ясном предвечернем свете длинный изящный фасад отеля «Ворон» был виден отчетливо, во всех подробностях.
Не успел я немного успокоиться после досадного случая со столиком, как заметил, что из-за поворота шоссе, со стороны бухты, появился какой-то человек и двинулся по направлению к Шрафф-Энду. На нем были элегантный костюм и мягкая шляпа, и выглядел он на фоне яркого ландшафта как непонятная фигура на картине сюрреалиста. Я вгляделся в эту диковину. Пешеходов на нашем шоссе попадается еще меньше, чем машин. Потом мне почудилось что-то знакомое и я узнал его. Гилберт Опиан.
Я ощутил легкий, но неприятный шок, и первым моим побуждением было спрятаться, я даже вдвинулся в сырую, пропахшую солью внутренность башни со светлым кругом неба над головой. Однако я не мог всерьез воспринять Гилберта как угрозу, да еще сообразил, что он, конечно же, привез Лиззи; поэтому, выскочив из башни, я стал поспешно карабкаться по скалам к шоссе. Когда я ступил на гудрон, Гилберт, заметив меня, уже повернул обратно. Мы сошлись, он улыбался.
Гилберт был в легком черном костюме с полосатой рубашкой и цветастым галстуком. Заметив меня, он снял шляпу. Я не видел его три или четыре года, он сильно изменился. Страшные перемены, которые возраст вносит в человеческое лицо, порой подготавливаются исподволь, подспудно, а потом разом становятся видны. На пороге среднего возраста Гилберт выглядел румяным юношей. Теперь он был весь в морщинах, сухой и насмешливый, с легким налетом скепсиса, какой неглупые пожилые мужчины часто напускают на себя инстинктивно в порядке обороны перед окончательной капитуляцией. Когда я видел его в последний раз, в нем еще было много непосредственного ребяческого самодовольства. Теперь же лицо его выражало тревожную настороженность, прикинувшуюся светским безразличием, словно он опасливо примерял свои новые морщины, как маску. Он чуть отяжелел, но ему еще удавалось казаться красивым мужчиной, и его белые вьющиеся волосы еще выглядели эффектно, еще не постарели.
Я был в джинсах и вылезшей из них белой рубашке. При виде Гилбертова галстука, его булавки, его легкого грима (или это мне показалось?) я ощутил к нему мгновенную презрительную жалость и одновременно — какой сам я мужественный и крепкий. Гилберт это явно уловил — и жалость, и мою мужественность. Его влажные голубые, чуть розоватые глаза тревожно замерцали меж сухих морщинистых век.
— Дорогой мой, выглядишь ты на пять с плюсом, загорел, помолодел, о Господи, такой цвет лица… — Гилберт всегда говорил звучным, сдобным голосом, словно обращаясь к задним рядам партера.
— Ты привез Лиззи?
— Нет.
— Письмо, поручение?
— Не совсем.
— Тогда что же?
— Этот забавный дом твой?
— Да.
— Я бы выпил, хозяин.
— Ты зачем явился?
— Дорогой мой, я насчет Лиззи…
— Не сомневаюсь. Ну, а дальше?
— Насчет Лиззи и меня. Прошу тебя, Чарльз, отнесись к этому серьезно и не смотри так, а то я заплачу! Между нами действительно что-то произошло, то есть не это, а вроде как настоящая любовь, о Господи, в этом ужасающем мире не часто бывает, чтобы так божественно повезло, тут, конечно, мешает секс, если б только люди искали друг друга как души…
— Души?
— В том смысле, чтобы видеть людей и любить их спокойно и нежно, и стремиться к тому, чтобы хорошо было вместе, в общем, это, наверно, тоже секс, но секс, так сказать, космический, не тот, что диктуется органами…
— Органами?
— Мы с Лиззи связаны по-настоящему, мы близки, мы как брат с сестрой, мы перестали скитаться, мы дома. Пока не было Лиззи, я жил от выпивки до выпивки — джин, молоко, опять джин, опять молоко, ну, ты знаешь, как оно шло, я думал, так и будет идти до конца. А теперь все изменилось, даже прошлое изменилось, мы с ней обговорили всю свою жизнь, всю до капли, вроде как заново пережили прошлое и искупили его…
— Гадость какая!
— Мы говорили об этом благоговейно, особенно о тебе.
— Вы обсуждали меня?
— Ну а как же иначе, Чарльз, ты ведь не дух незримый… ой, прошу тебя, не сердись, ты же знаешь, как я всегда к тебе относился, как мы оба к тебе относимся…
— И хотите, чтобы я стал членом вашей семьи.
— Вот-вот! Пожалуйста, не говори так сухо, язвительно, не обращай это в шутку, прошу тебя, постарайся понять. Понимаешь, я теперь верю в чудеса, милый Чарльз, в чудеса любви. Любовь — это чудо, я имею в виду настоящую любовь. Она выше тех границ и барьеров, о которые мы всегда спотыкались. Зачем уточнять, зачем мучиться, когда можно относиться друг к другу просто, с любовью, оставаясь свободными? Мы ведь уже не молоды…
— С мальчиками покончено? Никаких больше опасных приключений?
Гилберт, чей взгляд был до сих пор устремлен на открытый ворот моей рубашки, посмотрел мне в лицо. Он закатывал глаза, вращал глазами — может быть, следствие пьянства, и была у него манера морщить нос и опускать углы рта, скопированная с Уилфрида Даннинга. Он изобразил на лице какую-то болезненно-смешную гримасу. До чего же натренированы лица этих старых актеров!
— Пойми, о царь теней, Лиззи дала мне счастье. Я стал другим человеком, будто родился заново. Конечно, я очистился не от всех грехов, я вот и сейчас не отказался бы выпить. Но ты пойми, Лиззи от меня не отступится, ты не сможешь разорвать узы, которыми мы с ней связаны. Если ты думаешь, что это пошло или смешно, значит, ты ничего не понял. Ты только можешь сделать нас очень несчастными, если будешь жесток и резок. Ну да, мы тебя боимся, да, как всегда боялись. Или ты можешь сделать нас очень счастливыми, и себя тоже, если просто будешь мягким и добрым, и будешь нас любить, и позволишь нам любить тебя. Ну почему бы и нет? А если заставишь нас страдать, тебе и самому будет плохо. Почему не сделать так, чтобы всем было хорошо? Чарльз, дорогой мой, пойми, ведь это выбор между добром и злом!
Тирада Гилберта — при том, что я еще сократил ее и поубавил слезливости, — была, конечно, сплошная чушь. По-настоящему меня обозлило то, что Гилберт и Лиззи анализируют друг друга и обсуждают (одному Богу ведомо, в каких деталях) свои отношения со мной. Не мешает добавить, что Гилберта как актера (другие его ипостаси не в счет) я создал своими руками. Он всем был мне обязан. И теперь эта марионетка обрела голос, да еще грозит мне моральными санкциями! Однако я рассмеялся:
— Гилберт, спустись с облаков. Ты очень мило описал ваши трогательные отношения с Лиззи, но кто тебе поверит? Ты говоришь, что изменился, а на мой вопрос о мальчиках не ответил. В ваш семейный союз я ни вот столечко не верю и не вижу, почему я должен его уважать. К чему было являться сюда и пороть всю эту дичь насчет братства и космического секса? Это дело касается меня и Лиззи, ты тут ни при чем, я уязвлен даже тем, что она тебе об этом рассказала. Пусть вы любите друг друга, как брат с сестрой, но сестры не на все просят разрешения у своих братьев. Звал я не тебя, а ее, с ней мы и решим, как нам быть, а твое дело сторона. Если не уберешься, рискуешь нажить крупные неприятности.
Я говорил, а сам чувствовал, как во мне просыпается прежнее, знакомое чувство стяжателя, то желание схватить и не отдавать, которое в последнее время утихло и не примешивалось к моим мыслям о Лиззи. Может, то было чудо, а может — та самая «абстракция», за которую Лиззи меня корила. При этой мысли моя злость на Гилберта еще возросла. Он заставляет меня уточнить, огрубить побуждение, доселе столь великодушное и туманное. Пререкаться с ним было мелко и недостойно, но я уже не мог остановиться.
— Чарльз, мы не зайдем в твой забавный дом выпить по стаканчику?
— Нет.
— Ну тогда я, с твоего позволения, посижу.
Гилберт поддернул брюки и аккуратно уселся на камень. Шляпу положил на траву и оглядел свои начищенные ботинки, на которые налипла грязь.
— Чарльз, дорогой, давай не будем волноваться. Помнишь, когда страсти накалялись, как ты, бывало, крыл нас почем зря, а потом вдруг переставал ругаться и говорил: «Ладно, мы как-никак живем по английским, а не по турецким законам»?
— Гилберт, отвяжись от меня, ради Бога! Захочет Лиззи приехать, так приедет, а нет, так нет. Наших с ней отношений ты не понимаешь, не твоего это ума дело. И нечего приплетать сюда всякие бредни о чудесах и идеальной любви. В твои построения я не верю, по-моему, ты обманываешь себя, а заодно и Лиззи. Я даже усматривать мой долг в том, чтобы разгромить ваше злосчастное гнездышко. Так что ты меня не доводи. И убери к дьяволу руку с моего рукава.
— Дорогой мой, не поддавайся гневу, ты так меня пугаешь, я всегда…
— Наверно, мало пугаю.
— У тебя всегда был такой ужасный характер, и никому из нас это не шло на пользу. Ты-то думал, что это хорошо, но то была иллюзия. Здесь есть худший путь и есть лучший. Господи, да разве ты не прочел ее письмо?
— А она его тебе показала?
— Нет, но я знаю, что она тебе ответила.
— А мое письмо она тебе показывала?
— Мм… нет…
— С души воротит от всего этого.
— Чарльз, ты не можешь отнять у меня Лиззи, не будь же таким старомодным, ведь здесь речь не о примитивном сексе, ведь к браку ты отнесся бы с уважением, впрочем, может быть, и нет, но ты обязан поверить Лиззи и хотя бы к ней отнестись с уважением, это священный союз, она меня не бросит, она это тысячу раз говорила…
— Женщина может солгать и тысячу раз.
— Лиззи права, ты презираешь женщин.
— Она это говорила?
— Да. И она думает, что ты шутишь. Отнять у меня Лиззи ты не можешь, но ты можешь все испортить, можешь добиться, что она сойдет с ума от горя и сожалений, что она опять в тебя влюбится, униженно, безнадежно, что мы оба исстрадаемся…
— Гилберт, замолчи. Я не намерен ни подыгрывать тебе, ни участвовать в твоем кривлянье. Можешь бредить и кривляться без меня. Почему Лиззи не захотела сама приехать и сказать мне, что она думает, чего хочет? Она боится меня увидеть, потому что любит меня.
— Чарльз, милый, ты знаешь, как я с тобой считаюсь, ты способен начисто лишить меня душевного покоя…
— К чертям собачьим твой душевный покой…
И тут появилась Лиззи. Она возникла как темный мазок в углу моего глаза, под вечерним солнцем, и я знал, что это она, еще до того как оглянулся. А едва я ее увидел, прежняя грешная жажда обладания взыграла во мне, и я понял, что битва окончена. Но я, разумеется, не выдал своих чувств, изобразив только легкую досаду.
Гилберт подобрал свою шляпу и нахлобучил низко на лоб. Он сказал Лиззи:
— Ты же обещала, ты говорила, что не хочешь, ах, зачем только я взял тебя с собой…
Я видел Лиззи, но смотрел мимо нее, на море, такое синее и спокойное после идиотского тявканья нашей с Гилбертом перепалки. Я повернулся и пошел по шоссе, а потом соскочил на камни и полез, как мог быстрее, в сторону башни. И сразу же услышал за спиной негромкое прерывистое топотание Лиззи. Она показала хороший класс, если учесть, что я знал здесь каждый камень, а она нет, — добралась до лужайки у башни очень скоро после меня, запыхавшаяся, с оторванным ремешком от босоножки. Оглянувшись, я увидел, что и Гилберт пустился в путь по скалам, оступается и скользит в своих начищенных лондонских ботинках. Вот он направился в расселину. Издали было слышно, как он ноет и чертыхается.
Я вошел в башню, Лиззи за мной, и мы очутились одни в зеленоватом свете, под круглым белым глазом неба, в прохладной траве. Влажный воздух внутри башни влияет на растительность, и трава здесь была выше и сочнее, росли одуванчики, и глухая крапива только что расцвела бе-лыми цветами.
На Лиззи было очень тонкое белое бумажное платье, прямое, как рубашка, сумочку она крепко прижимала к груди и слегка поеживалась. Она, кажется, немного похудела. Ее курчавые коричнево-каштановые волосы были распущены и растрепались, под ветром сквозь них просвечивала белая кожа. Щеки ее пылали, но стояла она очень прямо, глядя на меня, стиснув терракотово-розовые губы, и вид у нее был храбрый, как у благородной героини перед казнью. Она тоже постарела, выглядела, во всяком случае, много старше, чем та светлая, дразнящая девочка-мальчик, какой я ее лучше всего помню. Но в лице ее была сдержанная внимательная зоркость, благодаря чему оно приобрело определенность и осталось красивым — этот крутой лоб, и от него — смелая линия к короткому, но не вздернутому носику. Ее ясные светло-карие глаза покраснели от недавних слез. Я смотрел на нее, чувствовал себя победителем и ликовал, но вид принял суровый.
Лиззи опустила глаза, придержалась рукой за стену, чтобы снять разорванную босоножку, и стала голой ногой на траву. Потом сказала:
— Ты знаешь, что там в скалах есть стол?
— Да, это я его туда убрал.
— А я подумала, может быть, его выбросило море.
Я смотрел на нее и молчал.
Через секунду она прошептала:
— Мне так жаль… прости, прости.
Я сказал:
— Значит, вы с Гилбертом обсуждали меня?
— Да ничего важного я ему не говорила… — Она посмотрела на свою босую ногу, пошевелила ею белые цветы крапивы…
— Лгунья.
— Нет, я не…
— Тогда, значит, ты лгала ему?
— Ой, не надо, не надо…
— Почему ты не хотела меня видеть?
— Боялась.
— Боялась любви?
— Да.
Мы оба стояли одеревенев, а ветер, врываясь в проем двери, трепал ее платье и мою белую рубашку.
Я вспомнил ее целомудренные, сухие, льнущие поцелуи и возжаждал их. Мне хотелось схватить ее в объятия и громко хохотать от победного ликования. Но я не шелохнулся и, когда она чуть подалась ко мне, остановил ее быстрым движением.
— А теперь уезжай — обратно в Лондон, с Гилбертом.
— Чарльз, пожалуйста…
— Что «пожалуйста»? Милая Лиззи, я не хочу никого обижать, но я хочу, чтобы была полная ясность. Всегда этого хотел. Не знаю, что мы сейчас можем сделать и чем можем быть друг для друга, но выяснить это можно, только если мы оба будем до конца откровенны.
Мне нужно твое безраздельное внимание, делить тебя я ни с кем не намерен, я поражен тем, что ты об этом просишь! Если хочешь видеть меня, избавься от Гилберта, но уж тогда окончательно. Если хочешь остаться с Гилбертом, тогда ты меня больше не увидишь, я не шучу, больше мы не встретимся никогда. Как будто ясно. Ты дай мне знать поскорее, хорошо? А теперь, пожалуйста, уезжай, твой друг заждался.
Лиззи, снова стиснув сумку на груди, заговорила очень быстро:
— Мне нужно время… я не могу так сразу бросить Гилберта, не могу, не могу я сделать ему так больно, ты пойми… люди не понимают, они так гадко обошлись с нами, но ты-то должен понять, и тогда ты увидишь…
— Лиззи, не говори глупостей, ты раньше не была глупой, я не желаю «понимать» твое положение, это дело твое. Но ты должна либо покончить с этим и прийти ко мне, либо не покончить и не прийти ко мне.
— Ох, Чарльз, милый, милый… — Она вдруг повернулась, и тело ее из деревянного стало телом танцовщицы. Она отшвырнула сумку в траву и в следующее мгновение была бы в моих объятиях, но я сделал шаг назад и опять не допустил этого.
— Нет, не нужны мне твои поцелуи. Уезжай и подумай.
Упали первые капли дождя, и на ее платье появились длинные темные пятнышки. Она коснулась руками пылающих щек и, продолжая начатое движение, стремительно нагнулась и подняла сумку.
— Ну, теперь беги, девочка. Не хочу я с тобой ни путаных объяснений, ни споров. До свидания.
Со слабым стоном она отвернулась от меня и выбежала из башни.
Я переждал немного, а когда вышел, она уже подбегала к шоссе. Там, на траве, передом к Вороновой бухте стоял теперь желтый «фольксваген». Из него выскочил Гилберт и открыл заднюю дверцу. Лиззи юркнула в машину. Обе дверцы хлопнули, и машина рванулась за поворот. Минуты через две она показалась на дороге к отелю. Я смотрел, пока она не миновала отель и не скрылась, когда дорога свернула прочь от моря. А тогда вернулся в башню и подобрал разорванную босоножку. Лиззи, пока добиралась до шоссе, наверняка поранила ногу.
С тех пор прошло два часа, я сижу в красной комнате. Я только что дописал свой отчет о посещении Лиззи в виде новеллы, и изложить его в такой форме оказалось почему-то волнительно и приятно. Жаль, что нет времени записать всю свою жизнь вот так, по кусочкам, а стоило бы. Приятные куски стали бы приятны вдвойне, смешные куски — еще смешнее, а грех и горе смягчились бы в свете философских утешений.
Свидание с Лиззи разбередило меня, и я не уверен, умно или глупо себя держал. Конечно, если б я заключил бедную Лиззи в объятия, все бы разрешилось в ту же секунду. В то мгновение, когда она отшвырнула свою сумку, она была готова уступить, пойти на любые условия, пообещать все, что угодно. И как мне этого хотелось! Это призрачное объятие осталось при мне как несостоявшаяся радость. (Должен признаться, что, после того как я ее увидел, мои идеи стали куда менее «абстрактными».) Но поступил я, пожалуй, разумно и доволен тем, что проявил твердость. Если б я в ту минуту принял Лиззи, согласился бы на ее согласие, проблема Гилберта все же не была бы разрешена, а избавляться от него пришлось бы мне самому. Гораздо лучше предоставить это Лиззи, и пусть поторопится, хотя бы из страха потерять меня. Я хочу, чтобы вся ситуация прояснилась и была зачеркнута, а пока предпочитаю о ней не думать. Не придаю я значения и второму «возражению» Лиззи, высказанному в ее письме, — ее страху, как бы я не разбил ей сердце! опасность ее не остановит. Сдается мне, что это был только предлог, лишний аргумент ради выигрыша времени. Она, вероятно, сразу поняла, что придется ей дать Гилберту отставку, а это, при его слезливом упорстве, могло показаться ей трудной задачей. Неужели я в самом деле такой донжуан? Если сравнить с другими — конечно же, нет.
Что касается моей суровой тактики с Лиззи, то я, собственно, ничем не рискую. Если она будет слишком тянуть, приеду и увезу ее. Если опять начнет отнекиваться, не стану слушать. Мои угрозы насчет «больше никогда» — это, конечно, пустые слова, но она-то воспримет их всерьез. Если в конце концов она все-таки решит отказаться от меня, то этим только докажет, что она меня недостойна. Несмотря ни на что, я ведь могу обойтись без Лиззи. Не хочет — не надо.
Пройдусь-ка я по берегу в отель «Ворон» и закажу вина — пусть пришлют. Если понравится меню, может быть, даже останусь там пообедать. Я уже немного проголодался. Что-то мне вдруг стало весело, наверно, все будет хорошо.
Вскоре после этого произошло нечто в высшей степени нелепое, а потом… но сначала…
Я пошел в отель «Ворон», заказал партию вина и купил бутылку какого-то испанского красного, чтобы взять с со-бой. Меню обеда оказалось малоинтересным, но я был так голоден, что толкнулся в ресторан, однако официант не пустил меня, потому что я был без галстука. Я хотел было назвать себя, но раздумал; пусть узнают сами, да будет поздно. Мимоходом я взглянул на себя в зеркало: рубашку я укротил, но вид у меня действительно был как у бродяги — грязные джинсы, отросшие нечесаные волосы и старая вязаная кофта, надетая наизнанку. Я потопал домой.
В отель я прогулялся с удовольствием, но теперь стало темнеть и похолодало, а к тому времени, как я подходил к дому, солнце село, хотя в небе еще оставалось много света — облака рассеялись, оставив приглушенную лазурь. Огромная вечерняя звезда блестела над морем, близко от нее висела бледная матовая луна, слабыми точками загорались другие звезды. Крупные летучие мыши мелькали над скалами. Проходя мимо Миннова Котла, я слышал, как в нем ревет вода. К дому я подходил по дамбе, держа бутылку в одной руке.
Дом, конечно, не был освещен изнутри, но в светящихся сумерках его узкий высокий силуэт эффектно выделялся на фоне неба. Когда я дошел до середины дамбы, мне показалось, что в одном из нижних окон что-то движется. Я застыл на месте. Смотреть на дом было трудно — слишком ярким было небо позади него, я никак не мог сосредоточить на нем взгляд. В глазах двоилось, но я уже был уверен, что не ошибся — что-то двигалось в доме, в книжной комнате. Моргая, я очень медленно пошел вперед. И вдруг увидел, всего на миг, но совершенно ясно, что у окна, глядя наружу, стоит темная фигура. Фигура растворилась в темноте комнаты, а я словно ослеп. Я выронил бутылку, она скользнула по отвесному скату дамбы и с тихим звоном разбилась о скалы. Я поспешно вернулся по дамбе на шоссе.
В доме кто-то есть. Что делать? Теперь мне было слышно мягкое шуршание волн, словно кто-то легонько скребет ногтями по мягкой поверхности. И на пустом темнеющем шоссе я с содроганием осознал полное свое одиночество, свою беззащитность среди этих безмолвных скал, у поглощенного собой, безучастного моря. Я подумал, не вернуться ли в отель и там переночевать, но решил, что это глупо и дадут ли еще мне номер, когда я в таком растерзанном виде и без единого чемодана. Потом подумал, что можно пройти дальше, в деревню, в «Черный лев», но… какой смысл? Друзей у меня в деревне нет. И тут пришла новая, совсем уж пугающая мысль: я не решусь двинуться куда бы то ни было в этой сгущающейся тьме, по этой ужасной безлюдной дороге. Идти некуда, кроме как в дом.
Я медленно двинулся обратно по дамбе. Кухонную дверь я оставил открытой, а парадная заперта, придется, значит, обойти дом снаружи. И сколько времени уйдет на то, чтобы найти спички, зажечь лампу? Если в доме кто-то есть, он услышит, как я пробираюсь к черному ходу, и будет меня там ждать. Глупо, если меня со страху пристукнет какой-то грабитель! Я помедлил, но все же пошел, потому что теперь снаружи было страшнее, чем могло быть внутри, а пуще всего я страшился собственного страха и жаждал от него избавиться. Возможно, все это мне вообще только померещилось из-за обманчивого освещения и скоро я уже буду с аппетитом ужинать и смеяться над собой.
Я вспомнил, где лежит электрический фонарик — на полке за дверью, сразу как войдешь в кухню, и представил себе, где стоит лампа и рядом с ней спички. Бросив последний взгляд на небо, еще залитое тусклым светом,
я взялся за ручку двери, стараясь погромче шуметь. Ввалился в кухню, дверь оставил отворенной, нашел фонарик, потом лампу и спички. Зажег лампу и подкрутил повыше фитиль. Тишина. Я крикнул: «Эй, кто тут есть?» Дурацкий испуганный возглас эхом отдался в доме. Тишина.
Держа лампу в поднятой руке, я вышел в прихожую, потом быстро прошел в ту комнату, где видел «фигуру». Пусто. Обошел остальные комнаты в нижнем этаже. Ничего. Подергал парадную дверь. Заперта. Стал совсем уж медленно подниматься по лестнице. С самого приезда сюда я смутно чувствовал, что если в доме обитает какая-нибудь нечисть, то самое подходящее для нее место — длинная верхняя площадка. И теперь, когда до верха оставалось всего несколько ступенек, я вдруг услышал дробное постукивание — кто-то отодвинул занавеску из бус.
Я остановился. Потом машинально двинулся дальше, разинув рот, выпучив глаза. Дойдя до площадки, я поднял лампу повыше и вгляделся в открывшееся передо мной пространство, где свет лампы и последние отблески наружного света, проникающего из открытой двери спальни, сливались в густое туманное марево. Я различил черную нишу в стене, контур арки, несчетные точки — бусы занавески. А потом внезапно у дальней между занавеской и дверью во внутреннюю комнату, увидел темную, неподвижную женскую фигуру. Первой, очень четкой мыслью было, что передо мной привидение, призрачная хозяйка этого дома, наконец-то! У меня вырвался сдавленный хрип, я готов был бежать обратно вниз, но не мог сдвинуться с места. Лампу я не выронил.
Фигура пошевелилась. Это был не призрак, а живая женщина. Вот в ней проступило что-то знакомое. Вот в свете лампы я увидел ее лицо. Это была Розина Вэмборо.
— Добрый вечер, Чарльз.
Меня еще трясло, но страх быстро улетучивался. Я испытывал одновременно острое облегчение и накипающую злость. Хотелось громко выругаться, но я молчал, стараясь выровнять дыхание.
— Что это, Чарльз, ты весь дрожишь. Что случилось?
Когда Розина не на сцене (если про такую женщину можно сказать, что она вообще когда-нибудь бывает не на сцене), она говорит с легким своеобразным акцентом, надо полагать — валлийским.
В доме было страшно холодно, и на секунду мне пока залось, что я ненавижу его, а он меня.
— Что ты здесь делаешь, как ты очутилась в моем доме?
— Зашла навестить тебя, Чарльз.
— Ну так разреши проводить тебя за порог.
Я спустился в кухню и зажег вторую лампу. Прошел в красную комнату и поднес спичку к растопке в камине. Проснулся голод, на время заглушенный страхом. Я вернулся в кухню, зажег газ, чтобы стало потеплее, и выставил на стол стакан, тарелку, хлеб, масло, сыр и бутылку вина. Розина вошла следом за мной и стала у плиты.
— Ты не предложишь мне выпить, Чарльз?
— Нет. Уходи. Я не люблю, когда врываются ко мне в дом и затевают игру в привидения. Так что уходи. Я не хочу тебя видеть.
— И не хочешь узнать, зачем я приехала, Чарльз?
В этом повторении моего имени было что-то гипнотическое и угрожающее.
— Нет.
— А ведь ты удивлен, заинтригован.
— Я не видел тебя и не слышал о тебе два года, нет, три, да и то мы, кажется, встретились у кого-то в гостях. А теперь вдруг такое несусветное явление. Или оно задумано как веселая шутка? По-твоему, я должен был тебе обрадоваться? Ты в моей жизни инородное тело, так что прошу тебя — исчезни.
— Насчет инородного тела это ты, знаешь ли, ошибаешься. Да, ты испугался, Чарльз. Как интересно, прямо-таки откровение, до чего легко запугать людей, сбить их с толку, затравить, так что они уже себя не помнят от страха и не рады. Недаром диктаторы процветают.
Я сел, но при ней был не в состоянии ни есть, ни пить. Розина нашла стакан, налила себе вина и села за стол напротив меня. Мне все еще было холодно от злости и тошно от пережитого страха, но теперь, когда я заморил червячка, меня и правда стало разбирать любопытство
— что за странное проявление ее личности? Да и как от нее избавиться, если она не желает уходить? Не разумнее ли умилостивить ее, чтобы ушла по своей воле? Я стал на нее смотреть. На свой лад, до крайности самобытный, она, безусловно, была необычайно красивой женщиной.
— Милый Чарльз. Я вижу, ты приходишь в себя. Вот и хорошо, ужинай на здоровье. Bon appetit.[15]
На Розине была теплая черная накидка с прорезями, сквозь которые она продела обнаженные до локтя руки. Пальцы ее были унизаны кольцами, браслеты на запястьях поблескивали, когда она легонько сводила кончики пальцев. Ее жесткие темные волосы, сейчас почти черные, были уложены на голове каким-то подобием греческого венца. Либо она их отрастила, либо надставила фальшивыми косами. Лицо было густо накрашено, все в розовых, красных, голубых и даже зеленых мазках, и в круге неяркого света от лампы напоминало индейскую маску. Это было некое красивое уродство. Рот, удлиненный помадой, был огромный и влажный. Косящие глаза метали в меня яростные стрелы. Она играла роль, изображала сдерживаемые страсти, что актерам кажется верхом искусства, а для зрителей далеко не всегда убедительно.
— Клоун, да и только, — сказал я.
— Вот это уже лучше. Это как в прежние времена.
— Поесть хочешь?
— Нет, я сытно закусила с чаем у себя в отеле.
— В отеле?
— Ну да, я остановилась в «Вороне».
— В самом деле? А я там сегодня был. Меня не пустили в ресторан.
— Это понятно. Вид у тебя как у нищего школяра. Морской климат пошел тебе на пользу. Выглядишь на двадцать лет. Ну, на тридцать. Я слышала, как тебя обсуждали в баре. Ты, видно, всем здесь успел досадить.
— Быть того не может. Я ни с кем не знакомился…
— Я могла бы тебе заранее сказать, что деревня — наименее спокойное и уединенное местожительство. Самое спокойное место для отшельника — квартира в Кенсингтоне.
— Ты хочешь сказать, что официант меня не пустил, хотя знал, кто я такой?